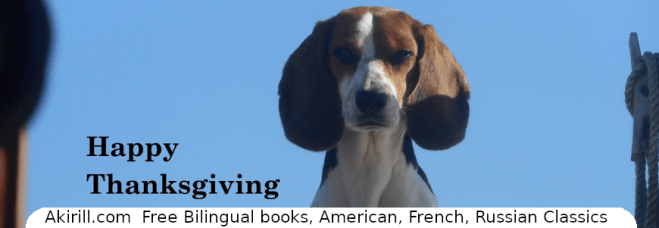Это не дословный перевод, а книга на двух языках, вышедшие бок о бок. Вы можете прочитать её на русском, английском или на обоих языках.
This is not a word-by-word translation but the books in the two languages put side by side. You can read it in Russian, in English or both.
Бесы. Роман Федора Достоевского
| Бесы. Роман Федора Достоевского | Demons, by Fyodor Dostoevsky |
| <<< | >>> |
| Часть 1 | Part 1 |
| CHAPTER II | Chapitre II |
| Петруша выслал, впрочем, очень скоро свой точный адрес из Швейцарии, для обычной ему высылки денег: стало быть, не совсем же был эмигрантом. И вот теперь, пробыв за границей года четыре, вдруг появляется опять в своем отечестве и извещает о скором своем прибытии: стало быть, ни в чем не обвинен. Мало того, даже как будто кто-то принимал в нем участие и покровительствовал ему. Он писал теперь с юга России, где находился по чьему-то частному, но важному поручению и об чем-то там хлопотал. Всё это было прекрасно, но однако где же взять остальные семь-восемь тысяч, чтобы составить приличный maximum цены за имение? А что если подымется крик, и вместо величественной картины дойдет до процесса? Что-то говорило Степану Трофимовичу, что чувствительный Петруша не отступится от своих интересов. “Почему это, я заметил”, шепнул мне раз тогда Степан Трофимович, “почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник… почему это? Неужели тоже от сентиментальности?” Я не знаю, есть ли правда в этом замечании Степана Трофимовича; я знаю только, что Петруша имел некоторые сведения о продаже рощи и о прочем, а Степан Трофимович знал, что тот имеет эти сведения. Мне случалось тоже читать и Петрушины письма к отцу; писал он по крайности редко, раз в год и еще реже. Только в последнее время, уведомляя о близком своем приезде, прислал два письма, почти одно за другим. Все письма его были коротенькие, сухие, состояли из одних лишь распоряжений, и так как отец с сыном еще с самого Петербурга были по-модному, на ты, то и письма Петруши решительно имели вид тех старинных предписаний прежних помещиков из столиц их дворовым людям, поставленным ими в управляющие их имений. И вдруг теперь эти восемь тысяч, разрешающие дело, вылетают из предложения Варвары Петровны, и при этом она дает ясно почувствовать, что они ниоткуда более и не могут вылететь. Разумеется, Степан Трофимович согласился. Akirill.com | Very soon, however, Petrusha sent his exact address from Switzerland for money to be sent him as usual; so he could not be exactly an exile. And now, after four years abroad, he was suddenly making his appearance again in his own country, and announced that he would arrive shortly, so there could be no charge against him. What was more, someone seemed to be interested in him and protecting him. He wrote now from the south of Russia, where he was busily engaged in some private but important business. All this was capital, but where was his father to get that other seven or eight thousand, to make up a suitable price for the estate? And what if there should be an outcry, and instead of that imposing picture it should come to a lawsuit? Something told Stepan Trofimovitch that the sensitive Petrusha would not relinquish anything that was to his interest. “Why is it—as I’ve noticed,” Stepan Trofimovitch whispered to me once, “why is it that all these desperate socialists and communists are at the same time such incredible skinflints, so avaricious, so keen over property, and, in fact, the more socialistic, the more extreme they are, the keener they are over property … why is it? Can that, too, come from sentimentalism?” I don’t know whether there is any truth in this observation of Stepan Trofimovitch’s. I only know that Petrusha had somehow got wind of the sale of the woods and the rest of it, and that Stepan Trofimovitch was aware of the fact. I happened, too, to read some of Petrusha’s letters to his father. He wrote extremely rarely, once a year, or even less often. Only recently, to inform him of his approaching visit, he had sent two letters, one almost immediately after the other. All his letters were short, dry, consisting only of instructions, and as the father and son had, since their meeting in Petersburg, adopted the fashionable “thou” and “thee,” Petrusha’s letters had a striking resemblance to the missives that used to be sent by landowners of the old school from the town to their serfs whom they had left in charge of their estates. And now suddenly this eight thousand which would solve the difficulty would be wafted to him by Varvara Petrovna’s proposition. And at the same time she made him distinctly feel that it never could be wafted to him from anywhere else. Of course Stepan Trofimovitch consented. |
| Он тотчас же по ее уходе прислал за мной, а от всех других заперся на весь день. Конечно поплакал, много и хорошо говорил, много и сильно сбивался, сказал случайно каламбур и остался им доволен, потом была легкая холерина, – одним словом, всё произошло в порядке. После чего он вытащил портрет своей, уже двадцать лет тому назад скончавшейся немочки, и жалобно начал взывать: “Простишь ли ты меня?” Вообще он был как-то сбит с толку. С горя мы немножко и выпили. Впрочем, он скоро и сладко заснул. На утро мастерски повязал себе галстук, тщательно оделся и часто подходил смотреться в зеркало. Платок спрыснул духами впрочем, лишь чуть-чуть, и только завидел Варвару Петровну в окно, поскорей взял другой платок, а надушенный спрятал под подушку. | He sent for me directly she had gone and shut himself up for the whole day, admitting no one else. He cried, of course, talked well and talked a great deal, contradicted himself continually, made a casual pun, and was much pleased with it. Then he had a slight attack of his “summer cholera”—everything in fact followed the usual course. Then he brought out the portrait of his German bride, now twenty years deceased, and began plaintively appealing to her: “Will you forgive me?” In fact he seemed somehow distracted. Our grief led us to get a little drunk. He soon fell into a sweet sleep, however. Next morning he tied his cravat in masterly fashion, dressed with care, and went frequently to look at himself in the glass. He sprinkled his handkerchief with scent, only a slight dash of it, however, and as soon as he saw Varvara Petrovna out of the window he hurriedly took another handkerchief and hid the scented one under the pillow. |
| – И прекрасно! – похвалила Варвара Петровна, выслушав его согласие. – Во-первых, благородная решимость, а во-вторых, вы вняли голосу рассудка, которому вы так редко внимаете в ваших частных делах. Спешить, впрочем, нечего, – прибавила она, разглядывая узел его белого галстука, – покамест молчите, и я буду молчать. Скоро день вашего рождения; я буду у вас вместе с нею. Сделайте вечерний чай и пожалуста без вина и без закусок; впрочем я сама всё устрою. Пригласите ваших друзей, – впрочем мы “вместе сделаем выбор. Накануне вы с нею переговорите, если надо будет; а на вашем вечере мы не то что объявим, или там сговор какой-нибудь сделаем, а только так намекнем или дадим знать, безо всякой торжественности. А там недели через две и свадьба, по возможности без всякого шума… Даже обоим вам можно бы и уехать на время, тотчас из-под венца, хоть в Москву например. Я тоже, может быть, с вами поеду… А главное до тех пор молчите. | “Excellent!” Varvara Petrovna approved, on receiving his consent. “In the first place you show a fine decision, and secondly you’ve listened to the voice of reason, to which you generally pay so little heed in your private affairs. There’s no need of haste, however,” she added, scanning the knot of his white tie, “for the present say nothing, and I will say nothing. It will soon be your birthday; I will come to see you with her. Give us tea in the evening, and please without wine or other refreshments, but I’ll arrange it all myself. Invite your friends, but we’ll make the list together. You can talk to her the day before, if necessary. And at your party we won’t exactly announce it, or make an engagement of any sort, but only hint at it, and let people know without any sort of ceremony. And then the wedding a fortnight later, as far as possible without any fuss.… You two might even go away for a time after the wedding, to Moscow, for instance. I’ll go with you, too, perhaps … The chief thing is, keep quiet till then.” |
| Степан Трофимович был удивлен. Он заикнулся было, что невозможно же ему так, что надо же переговорить с невестой, но Варвара Петровна раздражительно на него накинулась: | Stepan Trofimovitch was surprised. He tried to falter that he could not do like that, that he must talk it over with his bride. But Varvara Petrovna flew at him in exasperation. |
| – Это зачем? Во-первых, ничего еще может быть и не будет… | “What for? In the first place it may perhaps come to nothing.” |
| – Как не будет! – пробормотал жених, совсем уже ошеломленный. | “Come to nothing!” muttered the bridegroom, utterly dumbfoundered. |
| – Так. Я еще посмотрю… А впрочем всё так будет, как я сказала, и не беспокойтесь, я сама ее приготовлю. Вам совсем не за чем. Всё нужное будет сказано и сделано, а вам туда не за чем. Для чего? Для какой роли? И сами не ходите и писем не пишите. И ни слуху ни духу, прошу вас. Я тоже буду молчать. | “Yes. I’ll see.… But everything shall be as I’ve told you, and don’t be uneasy. I’ll prepare her myself. There’s really no need for you. Everything necessary shall be said and done, and there’s no need for you to meddle. Why should you? In what character? Don’t come and don’t write letters. And not a sight or sound of you, I beg. I will be silent too.” |
| Она решительно не хотела объясняться и ушла видимо расстроенная. Кажется, чрезмерная готовность Степана Трофимовича поразила ее. Увы, он решительно не понимал своего положения, и вопрос еще не представился ему с некоторых других точек зрения. Напротив явился какой-то новый тон, что-то победоносное и легкомысленное. Он куражился: | She absolutely refused to explain herself, and went away, obviously upset. Stepan Trofimovitch’s excessive readiness evidently impressed her. Alas! he was utterly unable to grasp his position, and the question had not yet presented itself to him from certain other points of view. On the contrary a new note was apparent in him, a sort of conquering and jaunty air. He swaggered. |
| – Это мне нравится!-восклицал он, останавливаясь предо мной и разводя руками, – вы слышали? Она хочет довести до того, чтоб я, наконец, не захотел. Ведь я тоже могу терпение потерять и… не захотеть! “Сидите и нечего вам туда ходить”, но почему я, наконец, непременно должен жениться? Потому только, что у ней явилась смешная фантазия? Но я человек серьезный, и могу не захотеть подчиняться праздным фантазиям взбалмошной женщины! У меня есть обязанности к моему сыну и… и к самому себе! Я жертву приношу- понимает ли она это? Я, может быть, потому согласился, что мне наскучила жизнь и мне всё равно. Но она может меня раздражить, и тогда мне будет уже не всё равно; я обижусь и откажусь. Et enfin, le ridicule… Что скажут в клубе? Что скажет… Липутин? “Может, ничего еще и не будет” – каково! Но ведь это верх! Это уж… это что же такое? – Je suis un forçat, un Badinguet, un припертый к стене человек!.. | “I do like that!” he exclaimed, standing before me, and flinging wide his arms. “Did you hear? She wants to drive me to refusing at last. Why, I may lose patience, too, and … refuse! ‘Sit still, there’s no need for you to go to her.’ But after all, why should I be married? Simply because she’s taken an absurd fancy into her heart. But I’m a serious man, and I can refuse to submit to the idle whims of a giddy-woman! I have duties to my son and … and to myself! I’m making a sacrifice. Does she realise that? I have agreed, perhaps, because I am weary of life and nothing matters to me. But she may exasperate me, and then it will matter. I shall resent it and refuse. Et enfin, le ridicule … what will they say at the club? What will … what will … Laputin say? ‘Perhaps nothing will come of it’—what a thing to say! That beats everything. That’s really … what is one to say to that?… Je suis un forçat, un Badinguet, un man pushed to the wall.…” |
| И в то же время какое-то капризное самодовольствие, что-то легкомысленно-игривое проглядывало среди всех этих жалобных восклицаний. Вечером мы опять выпили. | And at the same time a sort of capricious complacency, something frivolous and playful, could be seen in the midst of all these plaintive exclamations. In the evening we drank too much again. |
| ГЛАВА ТРЕТЬЯ. | CHAPTER III |
| Чужие грехи. | THE SINS OF OTHERS |
| I. | I |
| Прошло с неделю, и дело начало несколько раздвигаться. | ABOUT A WEEK had passed, and the position had begun to grow more complicated. |
| Замечу вскользь, что в эту несчастную неделю я вынес много тоски, – оставаясь почти безотлучно подле бедного сосватанного друга моего, в качестве ближайшего его конфидента. Тяготил его, главное, стыд, хотя мы в эту неделю никого не видали и всё сидели одни; но он стыдился даже и меня, и до того, что чем более сам открывал мне, тем более и досадовал на меня за это. По мнительности же подозревал, что всё уже всем известно, всему городу, и не только в клубе, но даже в своем кружке боялся показаться. Даже гулять выходил, для необходимого моциону, только в полные сумерки, когда уже совершенно темнело. | I may mention in passing that I suffered a great deal during that unhappy week, as I scarcely left the side of my affianced friend, in the capacity of his most intimate confidant. What weighed upon him most was the feeling of shame, though we saw no one all that week, and sat indoors alone. But he was even ashamed before me, and so much so that the more he confided to me the more vexed he was with me for it. He was so morbidly apprehensive that he expected that every one knew about it already, the whole town, and was afraid to show himself, not only at the club, but even in his circle of friends. He positively would not go out to take his constitutional till well after dusk, when it was quite dark. |
| Прошла неделя, а он всё еще не знал, жених он или нет, и никак не мог узнать об этом наверно, как ни бился. С невестой он еще не видался, даже не знал, невеста ли она ему; даже не знал, есть ли тут во всем этом хоть что-нибудь серьезное! К себе почему-то Варвара Петровна решительно не хотела его допустить. На одно из первоначальных писем его (а он написал их к ней множество) она прямо ответила ему просьбой избавить ее на время от всяких с ним сношений, потому что она занята, а имея и сама сообщить ему много очень важного, нарочно ждет для этого более свободной, чем теперь, минуты, и сама даст ему современем знать, когда к ней можно будет придти. Письма же обещала присылать обратно нераспечатанными, потому что это “одно только баловство”. Эту записку я сам читал; он же мне и показывал. | A week passed and he still did not know whether he were betrothed or not, and could not find out for a fact, however much he tried. He had not yet seen his future bride, and did not know whether she was to be his bride or not; did not, in fact, know whether there was anything serious in it at all. Varvara Petrovna, for some reason, resolutely refused to admit him to her presence. In answer to one of his first letters to her (and he wrote a great number of them) she begged him plainly to spare her all communications with him for a time, because she was very busy, and having a great deal of the utmost importance to communicate to him she was waiting for a more free moment to do so, and that she would let him know in time when he could come to see her. She declared she would send back his letters unopened, as they were “simple self-indulgence.” I read that letter myself—he showed it me. |
| И однако все эти грубости и неопределенности, всё это было ничто в сравнении с главною его заботой. Эта забота мучила его чрезвычайно, неотступно; от нее он худел и падал духом. Это было нечто такое, чего он уже более всего стыдился, и о чем никак не хотел заговорить даже со мной; напротив при случае лгал и вилял предо мной, как маленький мальчик; а между тем сам же посылал за мною ежедневно, двух часов без меня пробыть не мог, нуждаясь во мне как в воде или в воздухе. | Yet all this harshness and indefiniteness were nothing compared with his chief anxiety. That anxiety tormented him to the utmost and without ceasing. He grew thin and dispirited through it. It was something of which he was more ashamed than of anything else, and of which he would not on any account speak, even to me; on the contrary, he lied on occasion, and shuffled before me like a little boy; and at the same time he sent for me himself every day, could not stay two hours without me, needing me as much as air or water. |
| Такое поведение оскорбляло несколько мое самолюбие. Само собою разумеется, что я давно уже угадал про себя эту главную тайну его и видел всё насквозь. По глубочайшему тогдашнему моему убеждению, обнаружение этой тайны, этой главной заботы Степана Трофимовича, не прибавило бы ему чести, и потому я, как человек еще молодой, несколько негодовал на грубость чувств его и на некрасивость некоторых его подозрений. Сгоряча, – и признаюсь, от скуки быть конфидентом, – я, может быть, слишком обвинял его. По жестокости моей я добивался его собственного признания предо мною во всем, хотя впрочем и допускал, что признаваться в иных вещах пожалуй и затруднительно. Он тоже меня насквозь понимал, то-есть ясно видел, что я понимаю его насквозь и даже злюсь на него, и сам злился на меня за то, что я злюсь на него и понимаю его насквозь. Пожалуй раздражение мое было мелко и глупо; но взаимное уединение чрезвычайно иногда вредит истинной дружбе. С известной точки он верно понимал некоторые стороны своего положения и даже весьма тонко определял его в тех пунктах, в которых таиться не находил нужным. | Such conduct rather wounded my vanity. I need hardly say that I had long ago privately guessed this great secret of his, and saw through it completely. It was my firmest conviction at the time that the revelation of this secret, this chief anxiety of Stepan Trofimovitch’s would not have redounded to his credit, and, therefore, as I was still young, I was rather indignant at the coarseness of his feelings and the ugliness of some of his suspicions. In my warmth—and, I must confess, in my weariness of being his confidant—I perhaps blamed him too much. I was so cruel as to try and force him to confess it all to me himself, though I did recognise that it might be difficult to confess some things. He, too, saw through me; that is, he clearly perceived that I saw through him, and that I was angry with him indeed, and he was angry with me too for being angry with him and seeing through him. My irritation was perhaps petty and stupid; but the unrelieved solitude of two friends together is sometimes extremely prejudicial to true friendship. From a certain point of view he had a very true understanding of some aspects of his position, and defined it, indeed, very subtly on those points about which he did not think it necessary to be secret. |
| – О, такова ли она была тогда! – проговаривался он иногда мне о Варваре Петровне. – Такова ли она была прежде, когда мы с нею говорили… Знаете ли вы, что тогда она умела еще говорить? Можете ли вы поверить, что у нее тогда были мысли, свои мысли. Теперь всё переменилось! Она говорит, что всё это одна только старинная болтовня! Она презирает прежнее… Теперь она какой-то приказчик, эконом, ожесточенный человек, и всё сердится… | “Oh, how different she was then!” he would sometimes say to me about Varvara Petrovna. “How different she was in the old days when we used to talk together.… Do you know that she could talk in those days! Can you believe that she had ideas in those days, original ideas! Now, everything has changed! She says all that’s only old-fashioned twaddle. She despises the past.… Now she’s like some shopman or cashier, she has grown hard-hearted, and she’s always cross.…” |
| – За что же ей теперь сердиться, когда вы исполнили ее требование? – возразил я ему. | “Why is she cross now if you are carrying out her orders?” I answered. |
| Он тонко посмотрел на меня. | He looked at me subtly. |
| – Cher ami, если б я не согласился, она бы рассердилась ужасно, ужа-а-сно! но всё-таки менее чем теперь, когда я согласился. | “Cher ami; if I had not agreed she would have been dreadfully angry, dread-ful-ly! But yet less than now that I have consented.” |
| Этим словечком своим он остался доволен, и мы роспили в тот вечер бутылочку. Но это было только мгновение; на другой день он был ужаснее и угрюмее чем когда-либо. | He was pleased with this saying of his, and we emptied a bottle between us that evening. But that was only for a moment, next day he was worse and more ill-humoured than ever. |
| Но всего более досадовал я на него за то, что он не решался даже пойти сделать необходимый визит приехавшим Дроздовым, для возобновления знакомства, чего, как слышно, они и сами желали, так как спрашивали уже о нем, о чем и он тосковал каждодневно. О Лизавете Николаевне он говорил с каким-то непонятным для меня восторгом. Без сомнения, он вспоминал в ней ребенка, которого так когда-то любил; но кроме того он, неизвестно почему, воображал, что тотчас же найдет подле нее облегчение всем своим настоящим мукам и даже разрешит свои важнейшие сомнения. В Лизавете Николаевне он предполагал встретить какое-то необычайное существо. И всё-таки к ней не шел, хотя и каждый день собирался, Главное было в том, что мне самому ужасно хотелось тогда быть ей представленным и отрекомендованным, в чем мог я рассчитывать единственно на одного лишь Степана Трофимовича. Чрезвычайное впечатление производили на меня тогда частые встречи мои с нею, разумеется на улице, – когда она выезжала прогуливаться верхом, в амазонке и на прекрасном коне, в сопровождении так называемого родственника ее, красивого офицера, племянника покойного генерала Дроздова. Ослепление мое продолжалось одно лишь мгновение, и я сам очень скоро потом сознал всю невозможность моей мечты, – но хоть мгновение, а оно существовало действительно, а потому можно себе представить, как негодовал я иногда в то время на бедного друга моего за его упорное затворничество. | But what I was most vexed with him for was that he could not bring himself to call on the Drozdovs, as he should have done on their arrival, to renew the acquaintance of which, so we heard they were themselves desirous, since they kept asking about him. It was a source of daily distress to him. He talked of Lizaveta Nikolaevna with an ecstasy which I was at a loss to understand. No doubt he remembered in her the child whom he had once loved. But besides that, he imagined for some unknown reason that he would at once find in her company a solace for his present misery, and even the solution of his more serious doubts. He expected to meet in Lizaveta Nikolaevna an extraordinary being. And yet he did not go to see her though he meant to do so every day. The worst of it was that I was desperately anxious to be presented to her and to make her acquaintance, and I could look to no one but Stepan Trofimovitch to effect this. I was frequently meeting her, in the street of course, when she was out riding, wearing a riding-habit and mounted on a fine horse, and accompanied by her cousin, so-called, a handsome officer, the nephew of the late General Drozdov—and these meetings made an extraordinary impression on me at the time. My infatuation lasted only a moment, and I very soon afterwards recognised the impossibility of my dreams myself—but though it was a fleeting impression it was a very real one, and so it may well be imagined how indignant I was at the time with my poor friend for keeping so obstinately secluded. |
| Все наши еще с самого начала были официально предуведомлены о том, что Степан Трофимович некоторое время принимать не будет и просит оставить его в совершенном покое. Он настоял на циркулярном предуведомлении, хотя я и отсоветывал. Я же и обошел всех, по его просьбе, и всем наговорил, что Варвара Петровна поручила нашему “старику” (так все мы между собою звали Степана Трофимовича) какую-то экстренную работу, привести в порядок какую-то переписку за несколько лет; что он заперся, а я ему помогаю, и пр. и пр. К одному только Липутину я не успел зайти и всё откладывал, – а вернее сказать, я боялся зайти. Я знал вперед, что он ни одному слову моему не поверит, непременно вообразит себе, что тут секрет, который собственно от него одного хотят скрыть, и только что я выйду от него, тотчас же пустится по всему городу разузнавать и сплетничать. Пока я всё это себе представлял, случилось так, что я нечаянно столкнулся с ним на улице. Оказалось, что он уже обо всем узнал от наших, мною только что предуведомленных. Но, странное дело, он не только не любопытствовал и не расспрашивал о Степане Трофимовиче, а напротив сам еще прервал меня, когда я стал было извиняться, что не зашел к нему раньше, и тотчас же перескочил на другой предмет. Правда, у него накопилось что рассказать; он был в чрезвычайно возбужденном состоянии духа и обрадовался тому, что поймал во мне слушателя. Он стал говорить о городских новостях, о приезде губернаторши “с новыми разговорами”, об образовавшейся уже в клубе оппозиции, о том, что все кричат о новых идеях, и как это ко всем пристало, и пр., пр. Он проговорил с четверть часа, и так забавно, что я не мог оторваться. Хотя я терпеть его не мог, но сознаюсь, что у него был дар заставить себя слушать и особенно когда он очень на что-нибудь злился. Человек этот, по-моему, был настоящий и прирожденный шпион. Он знал во всякую минуту все самые последние новости и всю подноготную нашего города, преимущественно по части мерзостей, и дивиться надо было, до какой степени он принимал к сердцу вещи, иногда совершенно до него не касавшиеся. Мне всегда казалось, что главною чертой его характера была зависть. Когда я, в тот же вечер, передал Степану Трофимовичу о встрече утром с Липутиным и о нашем разговоре, – тот, к удивлению моему, чрезвычайно взволновался и задал мне дикий вопрос: “знает Липутин или нет”. Я стал ему доказывать, что возможности не было узнать так скоро, да и не от кого; но Степан Трофимович стоял на своем: | All the members of our circle had been officially informed from the beginning that Stepan Trofimovitch would see nobody for a time, and begged them to leave him quite alone. He insisted on sending round a circular notice to this effect, though I tried to dissuade him. I went round to every one at his request and told everybody that Varvara Petrovna had given “our old man” (as we all used to call Stepan Trofimovitch among ourselves) a special job, to arrange in order some correspondence lasting over many years; that he had shut himself up to do it and I was helping him. Liputin was the only one I did not have time to visit, and I kept putting it off—to tell the real truth I was afraid to go to him. I knew beforehand that he would not believe one word of my story, that he would certainly imagine that there was some secret at the bottom of it, which they were trying to hide from him alone, and as soon as I left him he would set to work to make inquiries and gossip all over the town. While I was picturing all this to myself I happened to run across him in the street. It turned out that he had heard all about it from our friends, whom I had only just informed. But, strange to say, instead of being inquisitive and asking questions about Stepan Trofimovitch, he interrupted me, when I began apologising for not having come to him before, and at once passed to other subjects. It is true that he had a great deal stored up to tell me. He was in a state of great excitement, and was delighted to have got hold of me for a listener. He began talking of the news of the town, of the arrival of the governor’s wife, “with new topics of conversation,” of an opposition party already formed in the club, of how they were all in a hubbub over the new ideas, and how charmingly this suited him, and so on. He talked for a quarter of an hour and so amusingly that I could not tear myself away. Though I could not endure him, yet I must admit he had the gift of making one listen to him, especially when he was very angry at something. This man was, in my opinion, a regular spy from his very nature. At every moment he knew the very latest gossip and all the trifling incidents of our town, especially the unpleasant ones, and it was surprising to me how he took things to heart that were sometimes absolutely no concern of his. It always seemed to me that the leading feature of his character was envy. When I told Stepan Trofimovitch the same evening of my meeting Liputin that morning and our conversation, the latter to my amazement became greatly agitated, and asked me the wild question: “Does Liputin know or not?” I began trying to prove that there was no possibility of his finding it out so soon, and that there was nobody from whom he could hear it. But Stepan Trofimovitch was not to be shaken. |
| – Вот верьте или нет, – заключил он под конец неожиданно, – а я убежден, что ему не только уже известно всё со всеми подробностями о нашем положении, но что он и еще что-нибудь сверх того знает, что-нибудь такое, чего ни вы, ни я еще не знаем, а, может быть, никогда и не узнаем, или узнаем, когда уже будет поздно, когда уже нет возврата!.. | “Well, you may believe it or not,” he concluded unexpectedly at last, “but I’m convinced that he not only knows every detail of ‘our’ position, but that he knows something else besides, something neither you nor I know yet, and perhaps never shall, or shall only know when it’s too late, when there’s no turning back!…” |
| Я промолчал, но слова эти на многое намекали. После того, целых пять дней мы ни слова не упоминали о Липутине; мне ясно было, что Степан Трофимович очень жалел о том, что обнаружил предо мною такие подозрения и проговорился. | I said nothing, but these words suggested a great deal. For five whole days after that we did not say one word about Liputin; it was clear to me that Stepan Trofimovitch greatly regretted having let his tongue run away with him, and having revealed such suspicions before me. |
| II. | II |
| Однажды поутру, – то-есть на седьмой или восьмой день после того как Степан Трофимович согласился стать женихом, – часов около одиннадцати, когда я спешил, по обыкновению, к моему скорбному другу, дорогой произошло со мной приключение. | One morning, on the seventh or eighth day after Stepan Trofimovitch had consented to become “engaged,” about eleven o’clock, when I was hurrying as usual to my afflicted friend, I had an adventure on the way. |
| Я встретил Кармазинова, “великого писателя”, как величал его Липутин. Кармазинова я читал с детства. Его повести и рассказы известны всему прошлому и даже нашему поколению; я же упивался ими; они были наслаждением моего отрочества и моей молодости. Потом я несколько охладел к его перу; повести с направлением, которые он всё писал в последнее время, мне уже не так понравились, как первые, первоначальные его создания, в которых было столько непосредственной поэзии; а самые последние сочинения его так даже вовсе мне не нравились. | I met Karmazinov, “the great writer,” as Liputin called him. I had read Karmazinov from a child. His novels and tales were well known to the past and even to the present generation. I revelled in them; they were the great enjoyment of my childhood and youth. Afterwards I grew rather less enthusiastic over his work. I did not care so much for the novels with a purpose which he had been writing of late as for his first, early works, which were so full of spontaneous poetry, and his latest publications I had not liked at all. |
| Вообще говоря, если осмелюсь выразить и мое мнение в таком щекотливом деле, все эти наши господа таланты средней руки, принимаемые по обыкновению при жизни их чуть не за гениев, – не только исчезают чуть не бесследно и как-то вдруг из памяти людей, когда умирают, но случается, что даже и при жизни их, чуть лишь подрастет новое поколение, сменяющее то, при котором они действовали, – забываются и пренебрегаются всеми непостижимо скоро. Как-то это вдруг у нас происходит, точно перемена декорации на театре. О, тут совсем не то, что с Пушкиными, Гоголями, Мольерами, Вольтерами, со всеми этими деятелями, приходившими сказать свое новое слово! Правда и то, что и сами эти господа таланты средней руки, на склоне почтенных лет своих, обыкновенно самым жалким образом у нас исписываются, совсем даже и не замечая того. Нередко оказывается, что писатель, которому долго приписывали чрезвычайную глубину идей и от которого ждали чрезвычайного и серьезного влияния на движение общества, обнаруживает под конец такую жидкость и такую крохотность своей основной идейки, что никто даже и не жалеет о том, что он так скоро умел исписаться. Но седые старички не замечают того и сердятся. Самолюбие их, именно под конец их поприща, принимает иногда размеры, достойные удивления. Бог знает, за кого они начинают принимать себя. – по крайней мере за богов. Про Кармазинова рассказывали, что он дорожит связями своими с сильными людьми и с обществом высшим чуть не больше души своей. Рассказывали, что он вас встретит, обласкает, прельстит, обворожит своим простодушием, особенно если вы ему почему-нибудь нужны и, уж разумеется, если вы предварительно были ему зарекомендованы. Но при первом князе, при первой графине, при первом человеке, которого он боится, он почтет священнейшим долгом забыть вас с самым оскорбительным пренебрежением, как щепку, как муху, тут же, когда вы еще не успели от него выйти; он серьезно считает это самым высоким и прекрасным тоном. Несмотря на полную выдержку и совершенное знание хороших манер, он до того, говорят, самолюбив, до такой истерики, что никак не может скрыть своей авторской раздражительности даже и в тех кругах общества, где мало интересуются литературой. Если же случайно кто-нибудь озадачивал его своим равнодушием, то он обижался болезненно и старался отмстить. | Speaking generally, if I may venture to express my opinion on so delicate a subject, all these talented gentlemen of the middling sort who are sometimes in their lifetime accepted almost as geniuses, pass out of memory quite suddenly and without a trace when they die, and what’s more, it often happens that even during their lifetime, as soon as a new generation grows up and takes the place of the one in which they have flourished, they are forgotten and neglected by every one in an incredibly short time. This somehow happens among us quite suddenly, like the shifting of the scenes on the stage. Oh, it’s not at all the same as with Pushkin, Gogol, Molière, Voltaire, all those great men who really had a new original word to say! It’s true, too, that these talented gentlemen of the middling sort in the decline of their venerable years usually write themselves out in the most pitiful way, though they don’t observe the fact themselves. It happens not infrequently that a writer who has been for a long time credited with extraordinary profundity and expected to exercise a great and serious influence on the progress of society, betrays in the end such poverty, such insipidity in his fundamental ideas that no one regrets that he succeeded in writing himself out so soon. But the old grey-beards don’t notice this, and are angry. Their vanity sometimes, especially towards the end of their career, reaches proportions that may well provoke wonder. God knows what they begin to take themselves for—for gods at least! People used to say about Karmazinov that his connections with aristocratic society and powerful personages were dearer to him than his own soul, people used to say that on meeting you he would be cordial, that he would fascinate and enchant you with his open-heartedness, especially if you were of use to him in some way, and if you came to him with some preliminary recommendation. But that before any stray prince, any stray countess, anyone that he was afraid of, he would regard it as his sacred duty to forget your existence with the most insulting carelessness, like a chip of wood, like a fly, before you had even time to get out of his sight; he seriously considered this the best and most aristocratic style. In spite of the best of breeding and perfect knowledge of good manners he is, they say, vain to such an hysterical pitch that he cannot conceal his irritability as an author even in those circles of society where little interest is taken in literature. If anyone were to surprise him by being indifferent, he would be morbidly chagrined, and try to revenge himself. |
| С год тому назад я читал в журнале статью его, написанную с страшною претензией на самую наивную поэзию и при этом на психологию. Он описывал гибель одного парохода, где-то у английского берега, чему сам был свидетелем и видел, как спасали погибавших и вытаскивали утопленников. Вся статья эта, довольно длинная и многоречивая, написана была единственно с целию выставить себя самого. Так и читалось между строками: “Интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты. Зачем вам это море, буря, скалы, разбитые щепки корабля? Я ведь достаточно описал вам всё это моим могучим пером. Чего вы смотрите на эту утопленницу с мертвым ребенком в мертвых руках? Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся. Вот я стал спиной; вот я в ужасе и не в силах оглянуться назад; я жмурю глаза – не правда ли, как это интересно?” Когда я передал мое мнение о статье Кармазинова Степану Трофимовичу, он со мной согласился. | A year before, I had read an article of his in a review, written with an immense affectation of naïve poetry, and psychology too. He described the wreck of some steamer on the English coast, of which he had been the witness, and how he had seen the drowning people saved, and the dead bodies brought ashore. All this rather long and verbose article was written solely with the object of self-display. One seemed to read between the lines: “Concentrate yourselves on me. Behold what I was like at those moments. What are the sea, the storm, the rocks, the splinters of wrecked ships to you? I have described all that sufficiently to you with my mighty pen. Why look at that drowned woman with the dead child in her dead arms? Look rather at me, see how I was unable to bear that sight and turned away from it. Here I stood with my back to it; here I was horrified and could not bring myself to look; I blinked my eyes—isn’t that interesting?” When I told Stepan Trofimovitch my opinion of Karmazinov’s article he quite agreed with me. |
| Когда пошли у нас недавние слухи, что приедет Кармазинов, я, разумеется, ужасно пожелал его увидать и, если возможно, с ним познакомиться. Я знал, что мог бы это сделать чрез Степана Трофимовича; они когда-то были друзьями. И вот вдруг я встречаюсь с ним на перекрестке. Я тотчас узнал его; мне уже его показали дня три тому назад, когда он проезжал в коляске с губернаторшей. | When rumours had reached us of late that Karmazinov was coming to the neighbourhood I was, of course, very eager to see him, and, if possible, to make his acquaintance. I knew that this might be done through Stepan Trofimovitch, they had once been friends. And now I suddenly met him at the cross-roads. I knew him at once. He had been pointed out to me two or three days before when he drove past with the governor’s wife. |
| Это был очень невысокий, чопорный старичок, лет впрочем не более пятидесяти пяти, с довольно румяным личиком, с густыми седенькими локончиками, выбившимися из под круглой цилиндрической шляпы и завивавшимися около чистеньких, розовеньких, маленьких ушков его. Чистенькое личика его было несовсем красиво, с тонкими, длинными, хитро сложенными губами, с несколько мясистым носом и с востренькими, умными, маленькими глазками. Он был одет как-то ветхо, в каком-то плаще в накидку, какой например носили бы в этот сезон где-нибудь в Швейцарии или в Северной Италии. Но по крайней мере все мелкие вещицы его костюма: запоночки, воротнички, пуговки, черепаховый лорнет на черной тоненькой ленточке, перстенек, непременно были такие же, как и у людей безукоризненно хорошего тона. Я уверен, что летом он ходит непременно в каких-нибудь цветных, плюнелевых ботиночках с перламутровыми пуговками сбоку. Когда мы столкнулись, он приостановился на повороте улицы и осматривался со вниманием. Заметив, что я любопытна смотрю на него, он медовым, хотя несколько крикливым голоском, спросил меня: | He was a short, stiff-looking old man, though not over fifty-five, with a rather red little face, with thick grey locks of hair clustering under his chimney-pot hat, and curling round his clean little pink ears. His clean little face was not altogether handsome with its thin, long, crafty-looking lips, with its rather fleshy nose, and its sharp, shrewd little eyes. He was dressed somewhat shabbily in a sort of cape such as would be worn in Switzerland or North Italy at that time of year. But, at any rate, all the minor details of his costume, the little studs, and collar, the buttons, the tortoise-shell lorgnette on a narrow black ribbon, the signet-ring, were all such as are worn by persons of the most irreproachable good form. I am certain that in summer he must have worn light prunella shoes with mother-of-pearl buttons at the side. When we met he was standing still at the turning and looking about him, attentively. Noticing that I was looking at him with interest, he asked me in a sugary, though rather shrill voice: |
| – Позвольте узнать, как мне ближе выйти на Быкову улицу? | “Allow me to ask, which is my nearest way to Bykovy Street?” |
| – На Быкову улицу? Да это здесь, сейчас же, – вскричал я в необыкновенном волнении. – Всё прямо по этой улице к потом второй поворот налево. | “To Bykovy Street? Oh, that’s here, close by,” I cried in great excitement. “Straight on along this street and the second turning to the left.” |
| – Очень вам благодарен. | “Very much obliged to you.” |
| Проклятие на эту минуту: я, кажется, оробел и смотрел подобострастно! Он мигом всё это заметил и конечно тотчас же всё узнал, то-есть узнал, что мне уже известно, кто он такой, что я его читал и благоговел пред ним с самого детства, что я теперь оробел и смотрю подобострастно. Он улыбнулся, кивнул еще раз головой и пошел прямо, как я указал ему. Не знаю для чего я поворотил за ним назад; не знаю для чего я пробежал подле него десять шагов. Он вдруг опять остановился. | A curse on that minute! I fancy I was shy, and looked cringing. He instantly noticed all that, and of course realised it all at once; that is, realised that I knew who he was, that I had read him and revered him from a child, and that I was shy and looked at him cringingly. He smiled, nodded again, and walked on as I had directed him. I don’t know why I turned back to follow him; I don’t know why I ran for ten paces beside him. He suddenly stood still again. |
| – А не могли бы вы мне указать, где здесь всего ближе стоят извозчики?-прокричал он мне опять. | “And could you tell me where is the nearest cab-stand?” he shouted out to me again. |
| Скверный крик; скверный голос! | It was a horrid shout! A horrid voice! |
| – Извозчики? извозчики всего ближе отсюда… у собора стоят, там всегда стоят, – и вот я чуть было не повернулся бежать за извозчиком. Я подозреваю, что он именно этого и ждал от меня. Разумеется, я тотчас же опомнился и остановился, но движение мое он заметил очень хорошо и следил за мною всё с тою же скверною улыбкой. Тут случилось то, чего я никогда не забуду. | “A cab-stand? The nearest cab-stand is … by the Cathedral; there are always cabs standing there,” and I almost turned to run for a cab for him. I almost believe that that was what he expected me to do. Of course I checked myself at once, and stood still, but he had noticed my movement and was still watching me with the same horrid smile. Then something happened which I shall never forget. |
| Он вдруг уронил крошечный сак, который держал в своей левой руке. Впрочем, это был не сак, а какая-то коробочка, или, вернее, какой-то портфельчик, или еще лучше, ридикюльчик, в роде старинных дамских ридикюлей, впрочем не знаю, что это было, но знаю только, что я, кажется, бросился его поднимать. | He suddenly dropped a tiny bag, which he was holding in his left hand; though indeed it was not a bag, but rather a little box, or more probably some part of a pocket-book, or to be more accurate a little reticule, rather like an old-fashioned lady’s reticule, though I really don’t know what it was. I only know that I flew to pick it up. Akirill.com |
| Я совершенно убежден, что я его не поднял, но первое движение, сделанное мною, было неоспоримо; скрыть его я уже не мог и покраснел как дурак. Хитрец тотчас же извлек из обстоятельства всё, что ему можно было извлечь. | I am convinced that I did not really pick it up, but my first motion was unmistakable. I could not conceal it, and, like a fool, I turned crimson. The cunning fellow at once got all that could be got out of the circumstance. |
| – Не беспокойтесь, я сам, – очаровательно проговорил он, то-есть когда уже вполне заметил, что я не подниму ему ридикюль, поднял его, как будто предупреждая меня, кивнул еще раз головой и отправился своею дорогой, оставив меня в дураках. Было всё равно как бы я сам поднял. Минут с пять я • считал себя вполне и навеки опозоренным; но подойдя к дому Степана Трофимовича, я вдруг расхохотался. Встреча показалась мне так забавною, что я немедленно решил потешить рассказом Степана Трофимовича и изобразить ему всю сцену даже в лицах. | “Don’t trouble, I’ll pick it up,” he pronounced charmingly; that is, when he was quite sure that I was not going to pick up the reticule, he picked it up as though forestalling me, nodded once more, and went his way, leaving me to look like a fool. It was as good as though I had picked it up myself. For five minutes I considered myself utterly disgraced forever, but as I reached Stepan Trofimovitch’s house I suddenly burst out laughing; the meeting struck me as so amusing that I immediately resolved to entertain Stepan Trofimovitch with an account of it, and even to act the whole scene to him. |
| III. | III |
| Но на этот раз, к удивлению моему, я застал его в чрезвычайной перемене. Он, правда, с какою-то жадностию набросился на меня только что я вошел, и стал меня слушать, но с таким растерянным видом, что сначала видимо не понимал моих слов. Но только что я произнес имя Кармазинова, он совершенно вдруг вышел из себя. | But this time to my surprise I found an extraordinary change in him. He pounced on me with a sort of avidity, it is true, as soon as I went in, and began listening to me, but with such a distracted air that at first he evidently did not take in my words. But as soon as I pronounced the name of Karmazinov he suddenly flew into a frenzy. |
| – Не говорите мне, не произносите! – воскликнул он чуть не в бешенстве, – вот, вот смотрите, читайте! читайте! | “Don’t speak of him! Don’t pronounce that name!” he exclaimed, almost in a fury. “Here, look, read it! Read it!” Akirill.com |
| Он выдвинул ящик и выбросил на стол три небольшие клочка бумаги, писанные наскоро карандашем, все от Варвары Петровны. Первая записка была от третьего дня, вторая от вчерашнего, а последняя пришла сегодня, всего час назад; содержания самого пустого, все о Кармазинове и обличали суетное и честолюбивое волнение Варвары Петровны от страха, что Кармазинов забудет ей сделать визит. Вот первая, от третьего дня (вероятно была и от четвертого дня, а, может быть, и от пятого): | He opened the drawer and threw on the table three small sheets of paper, covered with a hurried pencil scrawl, all from Varvara Petrovna. The first letter was dated the day before yesterday, the second had come yesterday, and the last that day, an hour before. Their contents were quite trivial, and all referred to Karmazinov and betrayed the vain and fussy uneasiness of Varvara Petrovna and her apprehension that Karmazinov might forget to pay her a visit. Here is the first one dating from two days before. (Probably there had been one also three days before, and possibly another four days before as well.) |
| “Если он наконец удостоит вас сегодня, то обо мне прошу ни слова. Ни малейшего намека. Не заговаривайте и не напоминайте. “В. С.” | “If he deigns to visit you to-day, not a word about me, I beg. Not the faintest hint. Don’t speak of me, don’t mention me.—V. S.” |
| Вчерашняя: | The letter of the day before: |
| “Если он решится, наконец, сегодня утром вам сделать визит, всего благороднее, я думаю, совсем не принять его. Так по-моему, не знаю, как по-вашему. “В. С.” | “If he decides to pay you a visit this morning, I think the most dignified thing would be not to receive him. That’s what I think about it; I don’t know what you think.—V. S.” |
| Сегодняшняя, последняя: | To-day’s, the last: |
| “Я убеждена, что у вас copy целый воз и дым столбом от табаку. Я вам пришлю Марью и Фомушку; они в полчаса приберут. А вы не мешайте и посидите в кухне, пока прибирают. Посылаю бухарский ковер и две китайские вазы; давно собиралась вам подарить, и сверх того моего Теньера (на время). Вазы можно поставить на окошко, а Теньера повесьте справа над портретом Гете, там виднее и по утрам всегда свет. Если он наконец появится, примите утонченно вежливо, но постарайтесь говорить о пустяках, об чем-нибудь ученом, и с таким видом, как будто вы вчера только расстались. Обо мне ни слова. Может быть, зайду взглянуть у вас вечером. “В. С.” | “I feel sure that you’re in a regular litter and clouds of tobacco smoke. I’m sending you Marya and Fomushka. They’ll tidy you up in half an hour. And don’t hinder them, but go and sit in the kitchen while they clear up. I’m sending you a Bokhara rug and two china vases. I’ve long been meaning to make you a present of them, and I’m sending you my Teniers, too, for a time! You can put the vases in the window and hang the Teniers on the right under the portrait of Goethe; it will be more conspicuous there and it’s always light there in the morning. If he does turn up at last, receive him with the utmost courtesy but try and talk of trifling matters, of some intellectual subject, and behave as though you had seen each other lately. Not a word about me. Perhaps I may look in on you in the evening.—V. S. |
| “Р. S. Если и сегодня не приедет, то совсем не приедет”. | “P.S.—If he does not come to-day he won’t come at all.” |
| Я прочел и удивился, что он в таком волнении от таких пустяков. Взглянув на него вопросительно, я вдруг заметил, что он, пока я читал, успел переменить свой всегдашний белый галстук на красный. Шляпа и палка его лежали на столе. Сам же был бледен и даже руки его дрожали. | I read and was amazed that he was in such excitement over such trifles. Looking at him inquiringly, I noticed that he had had time while I was reading to change the everlasting white tie he always wore, for a red one. His hat and stick lay on the table. He was pale, and his hands were positively trembling. |
| – Я знать не хочу ее волнений! – исступленно вскричал он, отвечая на мой вопросительный взгляд. – Je m’en fiche! Она имеет дух волноваться о Кармазинове, а мне на мои письма не отвечает! Вот, вот нераспечатанное письмо мое, которое она вчера воротила мне, вот тут на столе, под книгой, под ‘Homme qui rit. Какое мне дело, что она убивается о Ни-ко-леньке! Je m’en fiche et je proclame ma liberté. Au diable le Karmazinoff! Au diable la Lembke! Я вазы спрятал в переднюю, а Теньера в комод, а от нее потребовал, чтоб она сейчас же приняла меня. Слышите: потребовал! Я послал ей такой же клочок бумаги, карандашем, незапечатанный, с Настасьей, и жду. Я хочу, чтобы Дарья Павловна сама объявила мне из своих уст и пред лицом неба, или по крайней мере пред вами. Vous me seconderez n’est ce pas, comme ami et témoin. Я не хочу краснеть, я не хочу лгать, я не хочу тайн, я не допущу тайн в этом деле! Пусть мне во всем признаются, откровенно, простодушно, благородно, и тогда… тогда я, может быть, удивлю всё поколение великодушием!.. Подлец я или нет, милостивый государь? – заключил он вдруг, грозно смотря на меня, как будто я-то и считал его подлецом. | “I don’t care a hang about her anxieties,” he cried frantically, in response to my inquiring look. “Je m’en fiche! She has the face to be excited about Karmazinov, and she does not answer my letters. Here is my unopened letter which she sent me back yesterday, here on the table under the book, under L’Homme qui rit. What is it to me that she’s wearing herself out over Nikolay! Je m’en fiche, et je proclame ma liberté! Au diable le Karmazinov! Au diable la Lembke! I’ve hidden the vases in the entry, and the Teniers in the chest of drawers, and I have demanded that she is to see me at once. Do you hear. I’ve insisted! I’ve sent her just such a scrap of paper, a pencil scrawl, unsealed, by Nastasya, and I’m waiting. I want Darya Pavlovna to speak to me with her own lips, before the face of Heaven, or at least before you. Vous me seconderez, n’est-ce pas, comme ami et témoin. I don’t want to have to blush, to lie, I don’t want secrets, I won’t have secrets in this matter. Let them confess everything to me openly, frankly, honourably and then … then perhaps I may surprise the whole generation by my magnanimity.… Am I a scoundrel or not, my dear sir?” he concluded suddenly, looking menacingly at me, as though I’d considered him a scoundrel. |
| Я попросил его выпить воды; я еще не видал его в таком виде. Всё время, пока говорил, он бегал из угла в угол по комнате, но вдруг остановился предо мной в какой-то необычайной позе. | I offered him a sip of water; I had never seen him like this before. All the while he was talking he kept running from one end of the room to the other, but he suddenly stood still before me in an extraordinary attitude. |
| – Неужели вы думаете, – начал он опять с болезненным высокомерием, оглядывая меня с ног до головы, – неужели вы можете предположить, что я, Степан Верховенский, не найду в себе столько нравственной силы, чтобы, взяв мою коробку, – нищенскую коробку мою! – и взвалив ее на слабые плечи, выйти за ворота и исчезнуть отсюда навеки, когда того потребует честь и великий принцип независимости? Степану Верховенскому не в первый раз отражать деспотизм великодушием, хотя бы и деспотизм сумасшедшей женщины, то-есть самый обидный и жестокий деспотизм, какой только может осуществиться на свете, несмотря на то, что вы сейчас, кажется, позволили себе усмехнуться словам моим, милостивый государь мой! О, вы не верите, что я смогу найти в себе столько великодушия, чтобы суметь кончить жизнь у купца гувернером или умереть с голоду под забором! Отвечайте, отвечайте немедленно: верите вы или не верите? | “Can you suppose,” he began again with hysterical haughtiness, looking me up and down, “can you imagine that I, Stepan Verhovensky, cannot find in myself the moral strength to take my bag—my beggar’s bag—and laying it on my feeble shoulders to go out at the gate and vanish forever, when honour and the great principle of independence demand it! It’s not the first time that Stepan Verhovensky has had to repel despotism by moral force, even though it be the despotism of a crazy woman, that is, the most cruel and insulting despotism which can exist on earth, although you have, I fancy, forgotten yourself so much as to laugh at my phrase, my dear sir! Oh, you don’t believe that I can find the moral strength in myself to end my life as a tutor in a merchant’s family, or to die of hunger in a ditch! Answer me, answer at once; do you believe it, or don’t you believe it?” |
| Но я смолчал нарочно. Я даже сделал вид, что не решаюсь обидеть его ответом отрицательным, но не могу отвечать утвердительно. Во всем этом раздражении было нечто такое, что решительно обижало меня, и не лично, о, нет! Но… я потом объяснюсь. | But I was purposely silent. I even affected to hesitate to wound him by answering in the negative, but to be unable to answer affirmatively. In all this nervous excitement of his there was something which really did offend me, and not personally, oh, no! But … I will explain later on. |
| Он даже побледнел. | He positively turned pale. |
| – Может быть, вам скучно со мной, Г-в (это моя фамилия), и вы бы желали… не приходить ко мне вовсе? – проговорил он тем тоном бледного спокойствия, который обыкновенно предшествует какому-нибудь необычайному взрыву. Я вскочил в испуге; в то же мгновение вошла Настасья и молча протянула Степану Трофимовичу бумажку, на которой написано было что-то карандашем. Он взглянул и перебросил мне. На бумажке рукой Варвары Петровны написаны были всего только два слова: “сидите дома”. | “Perhaps you are bored with me, G——v (this is my surname), and you would like … not to come and see me at all?” he said in that tone of pale composure which usually precedes some extraordinary outburst. I jumped up in alarm. At that moment Nastasya came in, and, without a word, handed Stepan Trofimovitch a piece of paper, on which something was written in pencil. He glanced at it and flung it to me. On the paper, in Varvara Petrovna’s hand three words were written: “Stay at home.” |
| Степан Трофимович молча схватил шляпу и палку и быстро пошел из комнаты; я машинально за ним. Вдруг голоса и шум чьих-то скорых шагов послышались в коридоре. Он остановился как пораженный громом. | Stepan Trofimovitch snatched up his hat and stick in silence and went quickly out of the room. Mechanically I followed him. Suddenly voices and sounds of rapid footsteps were heard in the passage. He stood still, as though thunder-struck. |
| – Это Липутин, и я пропал! – прошептал он, схватив меня за руку. | “It’s Liputin; I am lost!” he whispered, clutching at my arm. |
| В ту же минуту в комнату вошел Липутин. | At the same instant Liputin walked into the room. |
| IV. | IV |
| Почему бы он пропал от Липутина, я не знал, да и цены не придавал слову; я всё приписывал нервам. Но всё-таки испуг его был необычайный, и я решился пристально наблюдать. | Why he should be lost owing to Liputin I did not know, and indeed I did not attach much significance to the words; I put it all down to his nerves. His terror, however, was remarkable, and I made up my mind to keep a careful watch on him. |
| Уж один вид входившего Липутина заявлял, что на этот раз он имеет особенное право войти, несмотря на все запрещения. Он вел за собою одного неизвестного господина, должно быть, приезжего. В ответ на бессмысленный взгляд остолбеневшего Степана Трофимовича, он тотчас же и громко воскликнул: | The very appearance of Liputin as he came in assured us that he had on this occasion a special right to come in, in spite of the prohibition. He brought with him an unknown gentleman, who must have been a new arrival in the town. In reply to the senseless stare of my petrified friend, he called out immediately in a loud voice: |
| – Гостя веду, и особенного! Осмеливаюсь нарушить уединение. Господин Кириллов, замечательнейший инженер-строитель. А главное сынка вашего знают, многоуважаемого Петра Степановича; очень коротко-с; и поручение от них имеют. Вот только что пожаловали. | “I’m bringing you a visitor, a special one! I make bold to intrude on your solitude. Mr. Kirillov, a very distinguished civil engineer. And what’s more he knows your son, the much esteemed Pyotr Stepanovitch, very intimately; and he has a message from him. He’s only just arrived.” |
| – О поручении вы прибавили, – резко заметил гость, – поручения совсем не бывало, а Верховенского я, вправде, знаю. Оставил в Х-ской губернии, десять дней пред нами. | “The message is your own addition,” the visitor observed curtly. “There’s no message at all. But I certainly do know Verhovensky. I left him in the X. province, ten days ahead of us.” |
| Степан Трофимович машинально подал руку и указал садиться; посмотрел на меня, посмотрел на Липутина, и вдруг, как бы опомнившись, поскорее сел сам, но всё еще держа в руке шляпу и палку и не замечая того. | Stepan Trofimovitch mechanically offered his hand and motioned him to sit down. He looked at me, he looked at Liputin, and then as though suddenly recollecting himself sat down himself, though he still kept his hat and stick in his hands without being aware of it. |
| – Ба, да вы сами на выходе! А мне то ведь сказали, что вы совсем прихворнули от занятий. | “Bah, but you were going out yourself! I was told that you were quite knocked up with work.” |
| – Да, я болен, и вот теперь хотел гулять, я… – Степан Трофимович остановился, быстро откинул на диван шляпу и палку и – покраснел. | “Yes, I’m ill, and you see, I meant to go for a walk, I …” Stepan Trofimovitch checked himself, quickly flung his hat and stick on the sofa and—turned crimson. |
| Я между тем наскоро рассматривал гостя. Это был еще молодой человек, лет около двадцати семи, прилично одетый, стройный и сухощавый брюнет, с бледным, несколько грязноватого оттенка лицом и с черными глазами без блеску. Он казался несколько задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как-то не грамматически, как-то странно переставлял слова и путался, если приходилось составить фразу подлиннее. Липутин совершенно заметил чрезвычайный испуг Степана Трофимовича и, видимо, был доволен. Он уселся на плетеном стуле, который вытащил чуть не на средину комнаты, чтобы находиться в одинаковом расстоянии между хозяином и гостем, разместившимися один против другого на двух противоположных диванах. Вострые глаза его с любопытством шныряли по всем углам. | Meantime, I was hurriedly examining the visitor. He was a young man, about twenty-seven, decently dressed, well made, slender and dark, with a pale, rather muddy-coloured face and black lustreless eyes. He seemed rather thoughtful and absent-minded, spoke jerkily and ungrammatically, transposing words in rather a strange way, and getting muddled if he attempted a sentence of any length. Liputin was perfectly aware of Stepan Trofimovitch’s alarm, and was obviously pleased at it. He sat down in a wicker chair which he dragged almost into the middle of the room, so as to be at an equal distance between his host and the visitor, who had installed themselves on sofas on opposite sides of the room. His sharp eyes darted inquisitively from one corner of the room to another. |
| – Я… давно уже не видал Петрушу… Вы за границей встретились? – пробормотал кое-как Степан Трофимович гостю. | “It’s.… a long while since I’ve seen Petrusha.… You met abroad?” Stepan Trofimovitch managed to mutter to the visitor. |
| – И здесь и за границей. | “Both here and abroad.” |
| – Алексей Нилыч сами только что из-за границы, после четырехлетнего отсутствия, – подхватил Липутин; – ездили для усовершенствования себя в своей специальности, и к нам прибыли, имея основание надеяться получить место при постройке нашего железнодорожного моста, и теперь ответа ожидают. Они с господами Дроздовыми, с Лизаветой Николаевной знакомы чрез Петра Степановича. | “Alexey Nilitch has only just returned himself after living four years abroad,” put in Liputin. “He has been travelling to perfect himself in his speciality and has come to us because he has good reasons to expect a job on the building of our railway bridge, and he’s now waiting for an answer about it. He knows the Drozdovs and Lizaveta Nikolaevna, through Pyotr Stepanovitch.” |
| Инженер сидел как будто нахохлившись и прислушивался с неловким нетерпением. Мне показалось, что он был на что-то сердит. | The engineer sat, as it were, with a ruffled air, and listened with awkward impatience. It seemed to me that he was angry about something. |
| – Они и с Николаем Всеволодовичем знакомы-с. | “He knows Nikolay Vsyevolodovitch too.” |
| – Знаете и Николая Всеволодовича? – осведомился Степан Трофимович. | “Do you know Nikolay Vsyevolodovitch?” inquired Stepan Trofimovitch. |
| – Знаю и этого. | “I know him too.” |
| – Я… я чрезвычайно давно уже не видал Петрушу и… так мало нахожу себя в праве называться отцом… c’est le mot; я… как же вы его оставили? | “It’s … it’s a very long time since I’ve seen Petrusha, and … I feel I have so little right to call myself a father … c’est le mot; I … how did you leave him?” |
| – Да так и оставил… он сам приедет, – опять поспешил отделаться господин Кириллов. Решительно он сердился. | “Oh, yes, I left him … he comes himself,” replied Mr. Kirillov, in haste to be rid of the question again. He certainly was angry. |
| – Приедет! Наконец-то я… видите ли, я слишком давно уже не видал Петрушу! – завяз на этой фразе Степан Трофимович; – жду теперь моего бедного мальчика, пред которым… о, пред которым я так виноват! То-есть, я собственно хочу сказать, что, оставляя его тогда в Петербурге, я… одним словом, я считал его за ничто, quelque chose dans ce genre. Мальчик, знаете, нервный, очень чувствительный и… боязливый. Ложась спать, клал земные поклоны и крестил подушку, чтобы ночью не умереть… je m’en souviens. Enfin, чувства изящного никакого, то-есть чего-нибудь высшего, основного, какого-нибудь зародыша будущей идеи… c’était comme un petit idiot. Впрочем, я сам, кажется, спутался, извините, я… вы меня застали… | “He’s coming! At last I … you see, it’s very long since I’ve seen Petrusha!” Stepan Trofimovitch could not get away from this phrase. “Now I expect my poor boy to whom … to whom I have been so much to blame! That is, I mean to say, when I left him in Petersburg, I … in short, I looked on him as a nonentity, quelque chose dans ce genre. He was a very nervous boy, you know, emotional, and … very timid. When he said his prayers going to bed he used to bow down to the ground, and make the sign of the cross on his pillow that he might not die in the night.… Je m’en souviens. Enfin, no artistic feeling whatever, not a sign of anything higher, of anything fundamental, no embryo of a future ideal … c’était comme un petit idiot, but I’m afraid I am incoherent; excuse me … you came upon me …” |
| – Вы серьезно, что он подушку крестил? – с каким-то особенным любопытством вдруг осведомился инженер. | “You say seriously that he crossed his pillow?” the engineer asked suddenly with marked curiosity. |
| – Да, крестил… | “Yes, he used to …” |
| – Нет, я так; продолжайте. | “All right. I just asked. Go on.” |
| Степан Трофимович вопросительно поглядел на Липутина. | Stepan Trofimovitch looked interrogatively at Liputin. |
| – Я очень вам благодарен за ваше посещение, но, признаюсь, я теперь… не в состоянии… Позвольте однако узнать, где квартируете? | “I’m very grateful to you for your visit. But I must confess I’m … not in a condition … just now … But allow me to ask where you are lodging.” |
| – В Богоявленской улице, в доме Филиппова. | “At Filipov’s, in Bogoyavlensky Street.” |
| – Ах, это там же, где Шатов живет, – заметил я невольно. | “Ach, that’s where Shatov lives,” I observed involuntarily. |
| – Именно, в том же самом доме, – воскликнул Липутин, – только Шатов наверху стоит, в мезонине, а они внизу поместились, у капитана Лебядкина. Они и Шатова знают, и супругу Шатова знают. Очень близко с нею за границей встречались. | “Just so, in the very same house,” cried Liputin, “only Shatov lodges above, in the attic, while he’s down below, at Captain Lebyadkin’s. He knows Shatov too, and he knows Shatov’s wife. He was very intimate with her, abroad.” |
| – Comment! Так неужели вы что-нибудь знаете об этом несчастном супружестве de се pauvre ami и эту женщину? – воскликнул Степан Трофимович, вдруг увлекшись чувством, – вас первого человека встречаю, лично знающего; и если только… | “Comment! Do you really know anything about that unhappy marriage de ce pauvre ami and that woman,” cried Stepan Trofimovitch, carried away by sudden feeling. “You are the first man I’ve met who has known her personally; and if only …” |
| – Какой вздор! – отрезал инженер, весь вспыхнув, – как вы, Липутин, прибавляете! Никак я не видал жену Шатова; раз только издали, а вовсе не близко… Шатова знаю. Зачем же вы прибавляете разные вещи? | “What nonsense!” the engineer snapped out, flushing all over. “How you add to things, Liputin! I’ve not seen Shatov’s wife; I’ve only once seen her in the distance and not at all close.… I know Shatov. Why do you add things of all sorts?” |
| Он круто повернулся на диване, захватил свою шляпу, потом опять отложил и, снова усевшись попрежнему, с каким-то вызовом уставился своими черными вспыхнувшими глазами на Степана Трофимовича. Я никак не мог понять такой странной раздражительности. | He turned round sharply on the sofa, clutched his hat, then laid it down again, and settling himself down once more as before, fixed his angry black eyes on Stepan Trofimovitch with a sort of defiance. I was at a loss to understand such strange irritability. |
| – Извините меня, – внушительно заметил Степан Трофимович, – я понимаю, что это дело может быть деликатнейшим… | “Excuse me,” Stepan Trofimovitch observed impressively. “I understand that it may be a very delicate subject.…” |
| – Никакого тут деликатнейшего дела нет и даже это стыдно, а я не вам кричал, что “вздор”, а Липутину, зачем он прибавляет. Извините меня, если на свое имя приняли. Я Шатова знаю, а жену его совсем не знаю… совсем не знаю! | “No sort of delicate subject in it, and indeed it’s shameful, and I didn’t shout at you that it’s nonsense, but at Liputin, because he adds things. Excuse me if you took it to yourself. I know Shatov, but I don’t know his wife at all … I don’t know her at all!” |
| – Я понял, понял, и если настаивал, то потому лишь, что очень люблю нашего бедного друга, notre irascible ami, и всегда интересовался… Человек этот слишком круто изменил, на мой взгляд, свои прежние, может быть, слишком молодые, но всё-таки правильные мысли. И до того кричит теперь об notre sainte Russie разные вещи, что я давно уже приписываю этот перелом в его организме – иначе назвать не хочу – какому-нибудь сильному семейному потрясению и именно неудачной его женитьбе. Я, который изучил мою бедную Россию как два мои пальца, а русскому народу отдал всю мою жизнь, я могу вас заверить, что он русского народа не знает, и вдобавок… | “I understand. I understand. And if I insisted, it’s only because I’m very fond of our poor friend, notre irascible ami, and have always taken an interest in him.… In my opinion that man changed his former, possibly over-youthful but yet sound ideas, too abruptly. And now he says all sorts of things about notre Sainte Russie to such a degree that I’ve long explained this upheaval in his whole constitution, I can only call it that, to some violent shock in his family life, and, in fact, to his unsuccessful marriage. I, who know my poor Russia like the fingers on my hand, and have devoted my whole life to the Russian people, I can assure you that he does not know the Russian people, and what’s more …” |
| – Я тоже совсем не знаю русского народа и… вовсе нет времени изучать! – отрезал опять инженер и опять круто повернулся на диване. Степан Трофимович осекся на половине речи. | “I don’t know the Russian people at all, either, and I haven’t time to study them,” the engineer snapped out again, and again he turned sharply on the sofa. Stepan Trofimovitch was pulled up in the middle of his speech. |
| – Они изучают, изучают, – подхватил Липутин, – они уже начали изучение и составляют любопытнейшую статью о причинах участившихся случаев самоубийства в России и вообще о причинах, учащающих или задерживающих распространение самоубийства в обществе. Дошли до удивительных результатов, Инженер страшно взволновался. | “He is studying them, he is studying them,” interposed Liputin. “He has already begun the study of them, and is writing a very interesting article dealing with the causes of the increase of suicide in Russia, and, generally speaking, the causes that lead to the increase or decrease of suicide in society. He has reached amazing results.” The engineer became dreadfully excited. |
| – Это вы вовсе не имеете права, – гневно забормотал он, – я вовсе не статью. Я не стану глупостей. Я вас конфиденциально спросил совсем нечаянно. Тут не статья вовсе; я не публикую, а вы не имеете права… | “You have no right at all,” he muttered wrathfully. “I’m not writing an article. I’m not going to do silly things. I asked you confidentially, quite by chance. There’s no article at all. I’m not publishing, and you haven’t the right …” |
| Липутин видимо наслаждался. | Liputin was obviously enjoying himself. |
| – Виноват-с, может быть, и ошибся, называя ваш литературный труд статьей. Они только наблюдения собирают, а до сущности вопроса или так-сказать до нравственной его стороны совсем не прикасаются, и даже самую нравственность совсем отвергают, а держатся новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей. Они уже больше чем сто миллионов голов требуют, для водворения здравого рассудка в Европе, гораздо больше чем на последнем конгрессе мира потребовали. В этом смысле Алексей Нилыч дальше всех пошли. | “I beg your pardon, perhaps I made a mistake in calling your literary work an article. He is only collecting observations, and the essence of the question, or, so to say, its moral aspect he is not touching at all. And, indeed, he rejects morality itself altogether, and holds with the last new principle of general destruction for the sake of ultimate good. He demands already more than a hundred million heads for the establishment of common sense in Europe; many more than they demanded at the last Peace Congress. Alexey Nilitch goes further than anyone in that sense.” |
| Инженер слушал с презрительною и бледною улыбкой. С полминуты все помолчали. | The engineer listened with a pale and contemptuous smile. For half a minute every one was silent. |
| – Всё это глупо, Липутин, – проговорил наконец г. Кириллов с некоторым достоинством. – Если я нечаянно сказал вам несколько пунктов, а вы подхватили, то как хотите. Но вы не имеете права, потому что я никогда никому не говорю, Я презираю, чтобы говорить… Если есть убеждения, то для меня ясно… а это вы глупо сделали. Я не рассуждаю об тех пунктах, где совсем кончено. Я терпеть не могу рассуждать. Я никогда не хочу рассуждать… | “All this is stupid, Liputin,” Mr. Kirillov observed at last, with a certain dignity. “If I by chance had said some things to you, and you caught them up again, as you like. But you have no right, for I never speak to anyone. I scorn to talk.… If one has a conviction then it’s clear to me.… But you’re doing foolishly. I don’t argue about things when everything’s settled. I can’t bear arguing. I never want to argue.…” |
| – И может быть, прекрасно делаете, – не утерпел Степан Трофимович. | “And perhaps you are very wise,” Stepan Trofimovitch could not resist saying. |
| – Я вам извиняюсь, но я здесь ни на кого не сержусь, – продолжал гость горячею скороговоркой; – я четыре года видел мало людей… Я мало четыре года разговаривал и старался не встречать, для моих целей, до которых нет дела, четыре года. Липутин это нашел и смеется. Я понимаю и не смотрю. Я не обидлив, а только досадно на его свободу. А если я с вами не излагаю мыслей, – заключил он неожиданно и обводя всех нас твердым взглядом, – то вовсе не с тем, что боюсь от вас доноса правительству; это нет; пожалуста не подумайте пустяков в этом смысле… | “I apologise to you, but I am not angry with anyone here,” the visitor went on, speaking hotly and rapidly. “I have seen few people for four years. For four years I have talked little and have tried to see no one, for my own objects which do not concern anyone else, for four years. Liputin found this out and is laughing. I understand and don’t mind. I’m not ready to take offence, only annoyed at his liberty. And if I don’t explain my ideas to you,” he concluded unexpectedly, scanning us all with resolute eyes, “it’s not at all that I’m afraid of your giving information to the government; that’s not so; please do not imagine nonsense of that sort.” |
| На эти слова уже никто ничего не ответил, а только переглянулись. Даже сам Липутин позабыл хихикнуть. | No one made any reply to these words. We only looked at each other. Even Liputin forgot to snigger. |
| – Господа, мне очень жаль, – с решимостью поднялся с дивана Степан Трофимович, – но я чувствую себя нездоровым и расстроенным. Извините. | “Gentlemen, I’m very sorry”—Stepan Trofimovitch got up resolutely from the sofa—“but I feel ill and upset. Excuse me.” |
| – Ах, это чтоб уходить, – спохватился господин Кириллов, схватывая картуз, – это хорошо, что сказали, а то я забывчив. | “Ach, that’s for us to go.” Mr. Kirillov started, snatching up his cap. “It’s a good thing you told us. I’m so forgetful.” |
| Он встал и с простодушным видом подошел с протянутою рукой к Степану Трофимовичу. | He rose, and with a good-natured air went up to Stepan Trofimovitch, holding out his hand. |
| – Жаль, что вы нездоровы, а я пришел. | “I’m sorry you’re not well, and I came.” |
| – Желаю вам всякого у нас успеха, – ответил Степан Трофимович, доброжелательно и неторопливо пожимая его руку. – Понимаю, что если вы, по вашим словам, так долго прожили за границей, чуждаясь для своих целей людей и – забыли Россию, то конечно вы на нас, коренных русаков, по неволе должны смотреть с удивлением, а мы равномерно на вас. Mais cela passera. В одном только я затрудняюсь: Вы хотите строить наш мост и в то же время объявляете, что стоите за принцип всеобщего разрушения. Не дадут вам строить наш мост! | “I wish you every success among us,” answered Stepan Trofimovitch, shaking hands with him heartily and without haste. “I understand that, if as you say you have lived so long abroad, cutting yourself off from people for objects of your own and forgetting Russia, you must inevitably look with wonder on us who are Russians to the backbone, and we must feel the same about you. Mais cela passera. I’m only puzzled at one thing: you want to build our bridge and at the same time you declare that you hold with the principle of universal destruction. They won’t let you build our bridge.” |
| – Как? Как это вы сказали… ах чорт! – воскликнул пораженный Кириллов и вдруг рассмеялся самым веселым и ясным смехом. На мгновение лицо его приняло самое детское выражение и, мне показалось, очень к нему идущее. Липутин потирал руки в восторге от удачного словца Степана Трофимовича. А я всё дивился про себя: чего Степан Трофимович так испугался Липутина и почему вскричал: “я пропал”, услыхав его. | “What! What’s that you said? Ach, I say!” Kirillov cried, much struck, and he suddenly broke into the most frank and good-humoured laughter. For a moment his face took a quite childlike expression, which I thought suited him particularly. Liputin rubbed his hand with delight at Stepan Trofimovitch’s witty remark. I kept wondering to myself why Stepan Trofimovitch was so frightened of Liputin, and why he had cried out “I am lost” when he heard him coming. |
| V. | V |
| Мы все стояли на пороге в дверях. Был тот миг, когда хозяева и гости обмениваются наскоро последними и самыми любезными словечками, а затем благополучно расходятся. | We were all standing in the doorway. It was the moment when hosts and guests hurriedly exchange the last and most cordial words, and then part to their mutual gratification. |
| – Это всё оттого они так угрюмы сегодня, – ввернул вдруг Липутин, совсем уже выходя из комнаты и так-сказать налету, – оттого, что с капитаном Лебядкиным шум у них давеча вышел из-за сестрицы. Капитан Лебядкин ежедневно свою прекрасную сестрицу, помешанную, нагайкой стегает, настоящей казацкой-с, по утрам и по вечерам. Так Алексей Нилыч в том же доме флигель даже заняли, чтобы не участвовать. Ну-с, до свиданья. | “The reason he’s so cross to-day,” Liputin dropped all at once, as it were casually, when he was just going out of the room, “is because he had a disturbance to-day with Captain Lebyadkin over his sister. Captain Lebyadkin thrashes that precious sister of his, the mad girl, every day with a whip, a real Cossack whip, every morning and evening. So Alexey Nilitch has positively taken the lodge so as not to be present. Well, good-bye.” |
| – Сестру? Больную? Нагайкой? – так и вскрикнул Степан Трофимович, – точно его самого вдруг схлестнули нагайкой, – какую сестру? Какой Лебядкин? | “A sister? An invalid? With a whip?” Stepan Trofimovitch cried out, as though he had suddenly been lashed with a whip himself. “What sister? What Lebyadkin?” |
| Давешний испуг воротился в одно мгновение. | All his former terror came back in an instant. |
| – Лебядкин? А это отставной капитан; прежде он только штабс-капитаном себя называл… | “Lebyadkin! Oh, that’s the retired captain; he used only to call himself a lieutenant before.…” |
| – Э, какое мне дело до чина! Какую сестру? Боже мой… вы говорите, Лебядкин? Но ведь у нас был Лебядкин… | “Oh, what is his rank to me? What sister? Good heavens!… You say Lebyadkin? |
| – Тот самый и есть, наш Лебядкин, вот, помните, у Виргинского? | But there used to be a Lebyadkin here.…”“That’s the very man. ‘Our’ Lebyadkin, at Virginsky’s, you remember?” |
| – Но ведь тот с фальшивыми бумажками попался? | “But he was caught with forged papers?” |
| – А вот и воротился, уж почти три недели и при самых особенных обстоятельствах. | “Well, now he’s come back. He’s been here almost three weeks and under the most peculiar circumstances.” |
| – Да ведь это негодяй! | “Why, but he’s a scoundrel?” |
| – Точно у нас и не может быть негодяя? – осклабился вдруг Липутин, как бы ощупывая своими вороватенькими глазками Степана Трофимовича. | “As though no one could be a scoundrel among us,” Liputin grinned suddenly, his knavish little eyes seeming to peer into Stepan Trofimovitch’s soul. |
| – Ах, боже мой, я совсем не про то… хотя впрочем о негодяе с вами совершенно согласен, именно с вами. Но что ж дальше, дальше? Что вы хотели этим сказать?.. Ведь вы непременно что-то хотите этим сказать! | “Good heavens! I didn’t mean that at all … though I quite agree with you about that, with you particularly. But what then, what then? What did you mean by that? You certainly meant something by that.” |
| – Да всё это такие пустяки-с… то-есть этот капитан, по всем видимостям, уезжал от нас тогда не для фальшивых бумажек, а единственно затем только, чтоб эту сестрицу свою разыскать, а та будто бы от него пряталась в неизвестном месте; ну а теперь привез, вот и вся история. Чего вы точно испугались, Степан Трофимович? Впрочем, я всё с его же пьяной болтовни говорю, а трезвый он и сам об этом прималчивает. Человек раздражительный и, как бы так сказать, военно-эстетический, но дурного только вкуса. А сестрица эта не только сумасшедшая, но даже хромоногая. Была будто бы кем-то обольщена в своей чести, и за это вот господин Лебядкин, уже многие годы, будто бы с обольстителя ежегодную дань берет, в вознаграждение благородной обиды, так по крайней мере из его болтовни выходит – а по-моему, пьяные только слова-с. Просто хвастается. Да и делается это гораздо дешевле. А что суммы у него есть, так это совершенно уж верно; полторы недели назад на босу ногу ходил, а теперь, сам видел, сотни в руках. У сестрицы припадки какие-то ежедневные, визжит она, а он-то ее “в порядок приводит” нагайкой. В женщину, говорит, надо вселять уважение. Вот не пойму, как еще Шатов над ними уживается. Алексей Нилыч только три денька и простояли с ними, еще с Петербурга были знакомы, а теперь флигелек от беспокойства занимают. | “Why, it’s all so trivial.… This captain to all appearances went away from us at that time; not because of the forged papers, but simply to look for his sister, who was in hiding from him somewhere, it seems; well, and now he’s brought her and that’s the whole story. Why do you seem frightened, Stepan Trofimovitch? I only tell this from his drunken chatter though, he doesn’t speak of it himself when he’s sober. He’s an irritable man, and, so to speak, æsthetic in a military style; only he has bad taste. And this sister is lame as well as mad. She seems to have been seduced by someone, and Mr. Lebyadkin has, it seems, for many years received a yearly grant from the seducer by way of compensation for the wound to his honour, so it would seem at least from his chatter, though I believe it’s only drunken talk. It’s simply his brag. Besides, that sort of thing is done much cheaper. But that he has a sum of money is perfectly certain. Ten days ago he was walking barefoot, and now I’ve seen hundreds in his hands. His sister has fits of some sort every day, she shrieks and he ‘keeps her in order’ with the whip. You must inspire a woman with respect, he says. What I can’t understand is how Shatov goes on living above him. Alexey Nilitch has only been three days with them. They were acquainted in Petersburg, and now he’s taken the lodge to get away from the disturbance.” |
| – Это всё правда? – обратился Степан Трофимович к инженеру. | “Is this all true?” said Stepan Trofimovitch, addressing the engineer. |
| – Вы очень болтаете, Липутин, – пробормотал тот гневно. | “You do gossip a lot, Liputin,” the latter muttered wrathfully. |
| – Тайны, секреты! Откуда у нас вдруг столько тайн и секретов явилось! – не сдерживая себя, восклицал Степан Трофимович. | “Mysteries, secrets! Where have all these mysteries and secrets among us sprung from?” Stepan Trofimovitch could not refrain from exclaiming. |
| Инженер нахмурился, покраснел, вскинул плечами и пошел было из комнаты. | The engineer frowned, flushed red, shrugged his shoulders and went out of the room. |
| – Алексей Нилыч даже нагайку вырвали-с, изломали и в окошко выбросили и очень поссорились, – прибавил Липутин. | “Alexey Nilitch positively snatched the whip out of his hand, broke it and threw it out of the window, and they had a violent quarrel,” added Liputin. |
| – Зачем вы болтаете, Липутин, это глупо, зачем? – мигом повернулся опять Алексей Нилыч. | “Why are you chattering, Liputin; it’s stupid. What for?” Alexey Nilitch turned again instantly. |
| – Зачем же скрывать, из скромности, благороднейшие движения своей души, то-есть вашей души-с, я не про свою говорю. | “Why be so modest and conceal the generous impulses of one’s soul; that is, of your soul? I’m not speaking of my own.” |
| – Как это глупо… и совсем ненужно… Лебядкин глуп и совершенно пустой – и для действия бесполезный и… совершенно вредный. Зачем вы болтаете разные вещи? Я ухожу. | “How stupid it is … and quite unnecessary. Lebyadkin’s stupid and quite worthless—and no use to the cause, and … utterly mischievous. Why do you keep babbling all sorts of things? I’m going.” |
| – Ах как жаль, – воскликнул Липутин с ясною улыбкой, – а то бы я вас, Степан Трофимович, еще одним анекдотцем насмешил-с. Даже и шел с тем намерением, чтобы сообщить, хотя вы впрочем наверно уж и сами слышали. Ну, да уж в другой раз, Алексей Нилыч так торопятся… До свиданья-с. С Варварой Петровной анекдотик-то вышел, насмешила она меня третьего дня, нарочно за мной посылала, просто умора. До свиданья-с. | “Oh, what a pity!” cried Liputin with a candid smile, “or I’d have amused you with another little story, Stepan Trofimovitch. I came, indeed, on purpose to tell you, though I dare say you’ve heard it already. Well, till another time, Alexey Nilitch is in such a hurry. Good-bye for the present. The story concerns Varvara Petrovna. She amused me the day before yesterday; she sent for me on purpose. It’s simply killing. Good-bye.” |
| Но уж тут Степан Трофимович так и вцепился в него: он схватил его за плечи, круто повернул назад в комнату и посадил на стул. Липутин даже струсил. | But at this Stepan Trofimovitch absolutely would not let him go. He seized him by the shoulders, turned him sharply back into the room, and sat him down in a chair. Liputin was positively scared. |
| – Да как же-с? – начал он сам, осторожно смотря на Степана Трофимовича с своего стула. – вдруг призвали меня и спрашивают “конфиденциально”, как я думаю в собственном мнении: помешан ли Николай Всеволодович или в своем уме? Как же не удивительно? | “Why, to be sure,” he began, looking warily at Stepan Trofimovitch from his chair, “she suddenly sent for me and asked me ‘confidentially’ my private opinion, whether Nikolay Vsyevolodovitch is mad or in his right mind. Isn’t that astonishing?” |
| – Вы с ума сошли! – пробормотал Степан Трофимович, и вдруг точно вышел из себя: | “You’re out of your mind!” muttered Stepan Trofimovitch, and suddenly, as though he were beside himself: |
| – Липутин, вы слишком хорошо знаете, что только затем и пришли, чтобы сообщить какую-нибудь мерзость в этом роде и… еще что-нибудь хуже! | “Liputin, you know perfectly well that you only came here to tell me something insulting of that sort and … something worse!” |
| В один миг припомнилась мне его догадка о том, что Липутин знает в нашем деле не только больше нашего, но и еще что-нибудь, чего мы сами никогда не узнаем. | In a flash, I recalled his conjecture that Liputin knew not only more than we did about our affair, but something else which we should never know. |
| – Помилуйте, Степан Трофимович! – бормотал Липутин будто бы в ужасном испуге, – помилуйте… | “Upon my word, Stepan Trofimovitch,” muttered Liputin, seeming greatly alarmed, “upon my word …” |
| – Молчите и начинайте! Я вас очень прошу, господин Кириллов, тоже воротиться и присутствовать, очень прошу! Садитесь. А вы, Липутин, начинайте прямо, просто… и без малейших отговорок! | “Hold your tongue and begin! I beg you, Mr. Kirillov, to come back too, and be present. I earnestly beg you! Sit down, and you, Liputin, begin directly, simply and without any excuses.” |
| – Знал бы только, что это вас так фрапирует, так я бы совсем и не начал-с… А я-то ведь думал, что вам уже всё известно от самой Варвары Петровны! | “If I had only known it would upset you so much I wouldn’t have begun at all. And of course I thought you knew all about it from Varvara Petrovna herself.” |
| – Совсем вы этого не думали! Начинайте, начинайте же, говорят вам! | “You didn’t think that at all. Begin, begin, I tell you.” |
| <<< | >>> |
| Двуязычные тексты книг, подготовленные Akirill.com , размещенные на сайте Akirill.com 11 июня, 2022. Каждую из книг (на французском или русском языках) можно забрать отдельно и повторно использовать в личных и некоммерческих целях. Они свободны от авторского права. При любом совместном использовании двух книг должно быть указано их происхождение Akirill.com | Bilingual text prepared by Akirill.com , deposited on the site Akirill.com on June 11, 2022. Each of the books (English or French) can be taken back separately and reused for personal and non-commercial purposes. They are free of copyright. Any use of the two books side by side must mention their origin https://www.Akirill.com |
Demons, by Fyodor Dostoevsky
| If you liked this page, don’t forget to like and share. Si vous avez aimé cette page, n’oublier pas d’aimer et de partager. |
| Subscribe to not miss anything Abonnez-vous pour ne rien manquer |
| Check out our latest posts |
| Découvrez nos derniers articles |