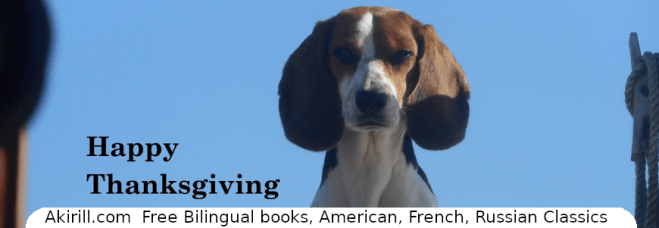Это не дословный перевод, а книга на двух языках, вышедшие бок о бок. Вы можете прочитать его на русском, английском или на обоих языках.
This is not a word-by-word translation but the books in the two languages put side by side. You can read it in Russian, in English or both.
Бедные люди – Федор Достоевский
| Бедные люди – Федор Достоевский | Poor People, by Fyodor Dostoyevsky |
| < < < | > > > |
| Макар Девушкин. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Июня 25. | June 25th. |
| Любезнейший Макар Алексеевич! Посылаю вам вашу книжку обратно. Это пренегодная книжонка! – и в руки брать нельзя. Откуда выкопали вы такую драгоценность? Кроме шуток, неужели вам нравятся такие книжки, Макар Алексеевич? Вот мне так обещались на днях достать чего-нибудь почитать. Я и с вами поделюсь, если хотите. А теперь до свидания. Право, некогда писать более. | MY BELOVED MAKAR ALEXIEVITCH—I return you your book. In my opinion it is a worthless one, and I would rather not have it in my possession. Why do you save up your money to buy such trash? Except in jest, do such books really please you? However, you have now promised to send me something else to read. I will share the cost of it. Now, farewell until we meet again. I have nothing more to say. |
| В. Д | B. D. |
| Июня 26. | June 26th. |
| Милая Варенька! Дело-то в том, что я действительно не читал этой книжонки, маточка. Правда, прочел несколько, вижу, что блажь, так, ради смехотворства одного написано,чтобы людей смешить; ну,думаю,оно,должно быть, и в самом деле весело; авось и Вареньке понравится; взял да и послал ее вам. | MY DEAR LITTLE BARBARA—To tell you the truth, I myself have not read the book of which you speak. That is to say, though I began to read it, I soon saw that it was nonsense, and written only to make people laugh. “However,” thought I, “it is at least a CHEERFUL work, and so may please Barbara.” That is why I sent it you. |
| А вот обещался мне Ратазяев дать почитать чего-нибудь настоящего литературного, ну, вот вы и будете с книжками, маточка. Ратазяев-то смекает, – дока; сам пишет, ух как пишет! Перо такое бойкое и слогу пропасть; то есть этак в каждом слове, – чего-чего, – в самом пустом, вот-вот в самом обыкновенном, подлом слове, что хоть бы и я иногда Фальдони или Терезе сказал, вот и тут у него слог есть. Я и на вечерах у него бываю. Мы табак курим, а он нам читает, часов по пяти читает, а мы все слушаем. Объядение, а не литература! Прелесть такая, цветы, просто цветы; со всякой страницы букет вяжи! Он обходительный такой, добрый, ласковый. Ну, что я перед ним, ну что? Ничего. Он человек с репутацией, а я что? Просто – не существую; а и ко мне благоволит. Я ему кое-что переписываю. Вы только не думайте, Варенька, что тут проделка какая-нибудь, что он вот именно оттого и благоволит ко мне, что я переписываю. Вы сплетням-то не верьте,маточка,вы сплетням-то подлым не верьте! Нет, это я сам от себя, по своей воле, для его удовольствия делаю, а что он ко мне благоволит, так это уж он для моего удовольствия делает. Я деликатность-то поступка понимаю, маточка. Он добрый, очень добрый человек и бесподобный писатель. Akirill.com | Rataziaev has now promised to give me something really literary to read; so you shall soon have your book, my darling. He is a man who reflects; he is a clever fellow, as well as himself a writer—such a writer! His pen glides along with ease, and in such a style (even when he is writing the most ordinary, the most insignificant of articles) that I have often remarked upon the fact, both to Phaldoni and to Theresa. Often, too, I go to spend an evening with him. He reads aloud to us until five o’clock in the morning, and we listen to him. It is a revelation of things rather than a reading. It is charming, it is like a bouquet of flowers—there is a bouquet of flowers in every line of each page. Besides, he is such an approachable, courteous, kind-hearted fellow! What am I compared with him? Why, nothing, simply nothing! He is a man of reputation, whereas I—well, I do not exist at all. Yet he condescends to my level. At this very moment I am copying out a document for him. But you must not think that he finds any DIFFICULTY in condescending to me, who am only a copyist. No, you must not believe the base gossip that you may hear. I do copying work for him simply in order to please myself, as well as that he may notice me—a thing that always gives me pleasure. I appreciate the delicacy of his position. He is a good—a very good—man, and an unapproachable writer. |
| А хорошая вещь литература, Варенька, очень хорошая; это я от них третьего дня узнал. Глубокая вещь! Сердце людей укрепляющая, поучающая, и – разное там еще обо всем об этом в книжке у них написано. Очень хорошо написано! Литература – это картина, то есть в некотором роде картина и зеркало; страсти выраженье, критика такая тонкая, поучение к назидательности и документ. Это я все у них наметался. Откровенно скажу вам, маточка, что ведь сидишь между ними, слушаешь (тоже, как и они, трубку куришь, пожалуй), – а как начнут они состязаться да спорить об разных материях, так уж тут я просто пасую, тут, маточка, нам с вами чисто пасовать придется. Тут я просто болван болваном оказываюсь, самого себя стыдно, так что целый вечер приискиваешь, как бы в общую-то материю хоть полсловечка ввернуть, да вот этого-то полсловечка как нарочно и нет! И пожалеешь, Варенька, о себе, что сам-то не того да не так; что, по пословице – вырос, а ума не вынес. Ведь что я теперь в свободное время делаю? Сплю, дурак дураком. А то бы вместо спанья-то ненужного можно было бы и приятным заняться; этак сесть бы да и пописать. И себе полезно и другим хорошо. Да что, маточка, вы посмотрите-ка только, сколько берут они, прости им господь! Вот хоть бы и Ратазяев, – как берет! Что ему лист написать? Да он в иной день и по пяти писывал, а по триста рублей, говорит, за лист берет. Там анекдотец какой-нибудь или из любопытного что-нибудь – пятьсот, дай не дай, хоть тресни, да дай! а нет – так мы и по тысяче другой раз в карман кладем! Каково, Варвара Алексеевна? Да что! Там у него стишков тетрадочка есть, и стишок все такой небольшой,семь тысяч, маточка, семь тысяч просит, подумайте. Да ведь это имение недвижимое, дом капитальный! Говорит, что пять тысяч дают ему, да он не берет. Я его урезониваю, говорю – возьмите, дескать, батюшка, пять-то тысяч от них, да и плюньте им, – ведь деньги пять тысяч! Нет, говорит, семь дадут, мошенники. Увертливый, право, такой! | What a splendid thing is literature, Barbara—what a splendid thing! This I learnt before I had known Rataziaev even for three days. It strengthens and instructs the heart of man…. No matter what there be in the world, you will find it all written down in Rataziaev’s works. And so well written down, too! Literature is a sort of picture—a sort of picture or mirror. It connotes at once passion, expression, fine criticism, good learning, and a document. Yes, I have learned this from Rataziaev himself. I can assure you, Barbara, that if only you could be sitting among us, and listening to the talk (while, with the rest of us, you smoked a pipe), and were to hear those present begin to argue and dispute concerning different matters, you would feel of as little account among them as I do; for I myself figure there only as a blockhead, and feel ashamed, since it takes me a whole evening to think of a single word to interpolate—and even then the word will not come! In a case like that a man regrets that, as the proverb has it, he should have reached man’s estate but not man’s understanding…. What do I do in my spare time? I sleep like a fool, though I would far rather be occupied with something else—say, with eating or writing, since the one is useful to oneself, and the other is beneficial to one’s fellows. You should see how much money these fellows contrive to save! How much, for instance, does not Rataziaev lay by? A few days’ writing, I am told, can earn him as much as three hundred roubles! Indeed, if a man be a writer of short stories or anything else that is interesting, he can sometimes pocket five hundred roubles, or a thousand, at a time! Think of it, Barbara! Rataziaev has by him a small manuscript of verses, and for it he is asking—what do you think? Seven thousand roubles! Why, one could buy a whole house for that sum! He has even refused five thousand for a manuscript, and on that occasion I reasoned with him, and advised him to accept the five thousand. But it was of no use. “For,” said he, “they will soon offer me seven thousand,” and kept to his point, for he is a man of some determination. Akirill.com |
| А что, маточка, уж если на то пошло, так я вам, так и быть, выпишу из “Итальянских страстей” местечко. Это у него сочинение так называется. Вот прочтите-ка, Варенька, да посудите сами. | Suppose, now, that I were to give you an extract from “Passion in Italy” (as another work of his is called). Read this, dearest Barbara, and judge for yourself: |
| “…Владимир вздрогнул,и страсти бешено заклокотали в нем, и кровь вскипела… | “Vladimir started, for in his veins the lust of passion had welled until it had reached boiling point. |
| – Графиня, – вскричал он, – графиня! Знаете ли вы, как ужасна эта страсть, как беспредельно это безумие? Нет, мои мечты меня не обманывали! Я люблю, люблю восторженно, бешено, безумно! Вся кровь твоего мужа не зальет бешеного, клокочущего восторга души моей! Ничтожные препятствия не остановят всеразрывающего, адского огня, бороздящего мою истомленную грудь. О Зинаида, Зинаида!.. | “‘Countess,’ he cried, ‘do you know how terrible is this adoration of mine, how infinite this madness? No! My fancies have not deceived me—I love you ecstatically, diabolically, as a madman might! All the blood that is in your husband’s body could never quench the furious, surging rapture that is in my soul! No puny obstacle could thwart the all-destroying, infernal flame which is eating into my exhausted breast! Oh Zinaida, my Zinaida!’ |
| – Владимир!.. – прошептала графиня вне себя, склоняясь к нему на плечо… | “‘Vladimir!’ she whispered, almost beside herself, as she sank upon his bosom. |
| – Зинаида! – закричал восторженный Смельский. | “‘My Zinaida!’ cried the enraptured Smileski once more. |
| Из груди его испарился вздох. Пожар вспыхнул ярким пламенем на алтаре любви и взбороздил грудь несчастных страдальцев. | “His breath was coming in sharp, broken pants. The lamp of love was burning brightly on the altar of passion, and searing the hearts of the two unfortunate sufferers. |
| – Владимир!.. – шептала в упоении графиня. Грудь ее вздымалась, щеки ее багровели, очи горели… | “‘Vladimir!’ again she whispered in her intoxication, while her bosom heaved, her cheeks glowed, and her eyes flashed fire. |
| Новый, ужасный брак был свершен! | “Thus was a new and dread union consummated. |
| Через полчаса старый граф вошел в будуар жены своей. | “Half an hour later the aged Count entered his wife’s boudoir. |
| – А что, душечка, не приказать ли для дорогого гостя самоварчик поставить? – сказал он, потрепав жену по щеке”. | “‘How now, my love?’ said he. ‘Surely it is for some welcome guest beyond the common that you have had the samovar [Tea-urn.] thus prepared?’ And he smote her lightly on the cheek.” |
| Ну вот, я вас спрошу, маточка, после этого – ну, как вы находите? Правда, немножко вольно, в этом спору нет, но зато хорошо. Уж что хорошо, так хорошо! А вот, позвольте, я вам еще отрывочек выпишу из повести “Ермак и Зюлейка”. | What think you of THAT, Barbara? True, it is a little too outspoken—there can be no doubt of that; yet how grand it is, how splendid! With your permission I will also quote you an extract from Rataziaev’s story, Ermak and Zuleika: Akirill.com |
| Представьте себе, маточка, что казак Ермак, дикий и грозный завоеватель Сибири, влюблен в Зюлейку, дочь сибирского царя Кучума, им в полон взятую. Событие прямо из времен Ивана Грозного, как вы видите. Вот разговор Ермака и Зюлейки: | |
| “-Ты любишь меня, Зюлейка! О, повтори, повтори!.. | “‘You love me, Zuleika? Say again that you love me, you love me!’ |
| – Я люблю тебя, Ермак, – -прошептала Зюлейка. | “‘I DO love you, Ermak,’ whispered Zuleika. |
| – Небо и земля, благодарю вас! я счастлив!.. Вы дали мне все, все, к чему с отроческих лет стремился взволнованный дух мой. Так вот куда вела ты меня, моя звезда путеводная; так вот для чего ты привела меня сюда, за Каменный Пояс! Я покажу всему свету мою Зюлейку, и люди, бешеные чудовища, не посмеют обвинять меня! О, если им понятны эти тайные страдания ее нежной души, если они способны видеть целую поэму в одной слезинке моей Зюлейки! О, дай мне стереть поцелуями эту слезинку, дай мне выпить ее, эту небесную слезинку… неземная! | “‘Then by heaven and earth I thank you! By heaven and earth you have made me happy! You have given me all, all that my tortured soul has for immemorial years been seeking! ‘Tis for this that you have led me hither, my guiding star—‘tis for this that you have conducted me to the Girdle of Stone! To all the world will I now show my Zuleika, and no man, demon or monster of Hell, shall bid me nay! Oh, if men would but understand the mysterious passions of her tender heart, and see the poem which lurks in each of her little tears! Suffer me to dry those tears with my kisses! Suffer me to drink of those heavenly drops, Oh being who art not of this earth!’ |
| – Ермак, – сказала Зюлейка, – свет зол, люди несправедливы! Они будут гнать, они осудят нас, мой милый Ермак! Что будет делать бедная дева, взросшая среди родных снегов Сибири, в юрте отца своего, в вашем холодном, ледяном, бездушном, самолюбивом свете? Люди не поймут меня, желанный мой, мой возлюбленный! | “‘Ermak,’ said Zuleika, ‘the world is cruel, and men are unjust. But LET them drive us from their midst—let them judge us, my beloved Ermak! What has a poor maiden who was reared amid the snows of Siberia to do with their cold, icy, self-sufficient world? Men cannot understand me, my darling, my sweetheart.’ |
| – Тогда казацкая сабля взовьется над ними и свистнет!вскричал Ермак, дико блуждая глазами”. | “‘Is that so? Then shall the sword of the Cossacks sing and whistle over their heads!’ cried Ermak with a furious look in his eyes.” |
| Каков же теперь Ермак, Варенька, когда он узнает, что его Зюлейка зарезана. Слепой старец Кучум, пользуясь темнотою ночи, прокрался, в отсутствие Ермака, в его шатер и зарезал дочь свою, желая нанесть смертельный удар Ермаку, лишившему его скипетра и короны. | What must Ermak have felt when he learnt that his Zuleika had been murdered, Barbara?—that, taking advantages of the cover of night, the blind old Kouchoum had, in Ermak’s absence, broken into the latter’s tent, and stabbed his own daughter in mistake for the man who had robbed him of sceptre and crown? |
| “- Любо мне шаркать железом о камень! – закричал Ермак в диком остервенении, точа булатный нож свой о шаманский камень. – Мне нужно их крови, крови! Их нужно пилить, пилить, пилить!!!” | “‘Oh that I had a stone whereon to whet my sword!’ cried Ermak in the madness of his wrath as he strove to sharpen his steel blade upon the enchanted rock. ‘I would have his blood, his blood! I would tear him limb from limb, the villain!’” |
| И после всего этого Ермак, будучи не в силах пережить свою Зюлейку, бросается в Иртыш, и тем все кончается. | Then Ermak, unable to survive the loss of his Zuleika, throws himself into the Irtisch, and the tale comes to an end. |
| Ну, а это, например, так, маленький отрывочек, в шуточно-описательном роде, сооственно для смехотворства написанный: | Here, again, is another short extract—this time written in a more comical vein, to make people laugh: |
| “Знаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза? Ну, вот тот самый, что укусил за ногу Прокофия Ивановича. | “Do you know Ivan Prokofievitch Zheltopuzh? He is the man who took a piece out of Prokofi Ivanovitch’s leg. |
| Иван Прокофьевич человек крутого характера, но зато редких добродетелей; напротив того, Прокофий Иванович чрезвычайно любит редьку с медом. Вот когда еще была с ним знакома Пелагея Антоновна… А вы знаете Пелагею Антоновну? Ну, вот та самая, которая всегда юбку надевает наизнанку”. | Ivan’s character is one of the rugged order, and therefore, one that is rather lacking in virtue. Yet he has a passionate relish for radishes and honey. Once he also possessed a friend named Pelagea Antonovna. Do you know Pelagea Antonovna? She is the woman who always puts on her petticoat wrong side outwards.” |
| Да ведь это умора, Варенька, просто умора. Мы со смеху катались, когда он читал нам это. Этакой он, прости его господи! Впрочем, маточка, оно хоть и немного затейливо и уж слишком игриво, но зато невинно, без малейшего вольнодумства и либеральных мыслей. Нужно заметить, маточка, что Ратазяев прекрасного поведения и потому превосходный писатель, не то что другие писа- тели. | What humour, Barbara—what purest humour! We rocked with laughter when he read it aloud to us. Yes, that is the kind of man he is. Possibly the passage is a trifle over-frolicsome, but at least it is harmless, and contains no freethought or liberal ideas. In passing, I may say that Rataziaev is not only a supreme writer, but also a man of upright life—which is more than can be said for most writers. |
| А что, в самом деле, ведь вот иногда придет же мысль в голову… ну что, если б я написал что-нибудь, ну что тогда будет? Ну вот, например, положим, что вдруг, ни с того ни с сего, вышла бы в свет книжка под титулом – “Стихотворения Макара Девушкина”! Ну что бы вы тогда сказали, мой ангельчик? Как бы вам это представилось и подумалосъ? А я про себя скажу, маточка, что как моя книжка-то вышла бы в свет, так я бы решительно тогда на Невский не смел бы показаться. Ведь каково это было бы, когда бы всякий сказал, что вот де идет сочинитель литературы и пиита Девушкин, что вот, дескать, это и есть сам Девушкин! Ну что бы я тогда, например, с моими сапогами стал делать? Они у меня, замечу вам мимоходом, маточка, почти всегда в заплатках, да и подметки, по правде сказать, отстают иногда весьма неблагопристойно. Ну что тогда б было, когда бы все узнали, что вот у сочинителя Девушкина сапоги в заплатках! Какая-нибудь там контесса-дюшесса узнала бы, ну что бы она-то, душка, сказала? Она-то, может быть, и не заметила бы; ибо, как я полагаю, контессы не занимаются сапогами, к тому же чиновничьими сапогами (потому что ведь сапоги сапогам рознь), да ей бы рассказали про все, свои бы приятели меня выдали. Да вот Ратазяев бы первый выдал; он к графине В. ездит; говорит, что каждый раз бывает у ней, и запросто бывает. Говорит, душка такая она, литературная, говорит, дама такая. Петля этот Ратазяев! | What, do you think, is an idea that sometimes enters my head? In fact, what if I myself were to write something? How if suddenly a book were to make its appearance in the world bearing the title of “The Poetical Works of Makar Dievushkin”? What THEN, my angel? How should you view, should you receive, such an event? I may say of myself that never, after my book had appeared, should I have the hardihood to show my face on the Nevski Prospect; for would it not be too dreadful to hear every one saying, “Here comes the literateur and poet, Dievushkin—yes, it is Dievushkin himself.” What, in such a case, should I do with my feet (for I may tell you that almost always my shoes are patched, or have just been resoled, and therefore look anything but becoming)? To think that the great writer Dievushkin should walk about in patched footgear! If a duchess or a countess should recognise me, what would she say, poor woman? Perhaps, though, she would not notice my shoes at all, since it may reasonably be supposed that countesses do not greatly occupy themselves with footgear, especially with the footgear of civil service officials (footgear may differ from footgear, it must be remembered). Besides, I should find that the countess had heard all about me, for my friends would have betrayed me to her—Rataziaev among the first of them, seeing that he often goes to visit Countess V., and practically lives at her house. She is said to be a woman of great intellect and wit. An artful dog, that Rataziaev! |
| Да, впрочем, довольно об этой материи; я ведь это все так пишу, ангельчик мой, ради баловства, чтобы вас потешить. Прощайте, голубчик мой! Много я вам тут настрочил, но это собственно оттого, что я сегодня в самом веселом душевном расположении. Обедали-то мы все вместе сегодня у Ратазяева, так (шалуны они, маточка!) пустили в ход такой романеи… ну да уж что вам писать об этом! Вы только смотрите не придумайте там чего про меня, Варенька. Я ведь это все так. Книжек пришлю, непременно пришлю… Ходит здесь по рукам Поль де Кока одно сочинение, только Поль де Кока-то вам, маточка, и не будет… Ни-ни! для вас Поль де Кок не годится. Говорят про него, маточка, что он всех критиков петербургских в благородное негодование приводит. Посылаю вам фунтик конфеток, – нарочно для вас купил. Скушайте, душечка, да при каждой конфетке меня поминайте. Только леденец-то вы не грызите, а так пососите его только, а то зубки разболятся. А вы, может быть, и цукаты любите? – вы напишите. Ну, прощайте же, прощайте. Христос с вами, голубчик мой. А я пребуду навсегда вашим вернейшим другом | But enough of this. I write this sort of thing both to amuse myself and to divert your thoughts. Goodbye now, my angel. This is a long epistle that I am sending you, but the reason is that today I feel in good spirits after dining at Rataziaev’s. There I came across a novel which I hardly know how to describe to you. Do not think the worse of me on that account, even though I bring you another book instead (for I certainly mean to bring one). The novel in question was one of Paul de Kock’s, and not a novel for you to read. No, no! Such a work is unfit for your eyes. In fact, it is said to have greatly offended the critics of St. Petersburg. Also, I am sending you a pound of bonbons—bought specially for yourself. Each time that you eat one, beloved, remember the sender. Only, do not bite the iced ones, but suck them gently, lest they make your teeth ache. Perhaps, too, you like comfits? Well, write and tell me if it is so. Goodbye, goodbye. Christ watch over you, my darling! —Always your faithful friend, |
| Макаром Девушкиным. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Июня 27. | June 27th. |
| Милостивый государь, | MY DEAREST |
| Макар Алексеевич! | MAKAR ALEXIEVITCH |
| Федора говорит, что если я захочу, то некоторые люди с удовольствием примут участие в моем положении и выхлопочут мне очень хорошее место в один дом, в гувернантки. Как вы думаете, друг мой, – идти или нет? Конечно, я вам тогда не буду в тягость, да и место, кажется, выгодное; но, с другой стороны, как-то жутко идти в незнакомый дом. Они какие-то помещики. Станут обо мне узнавать, начнут расспрашивать, любопытствовать – ну что я скажу тогда? К тому же я такая нелюдимка, дикарка; люблю пообжиться в привычном угле надолго. Как-то лучше там, где привыкнешь: хоть и с горем пополам живешь, а все-таки лучше. К тому же на выезд; да еще бог знает, какая должность будет; может быть, просто детей нянчить заставят. Да и люди-то такие: меняют уж третью гувернантку в два года. Посоветуйте же мне,Макар Алексеевич, ради бога, идти или нет? Да что вы никогда сами не зайдете ко мне? изредка только глаза покажете. Почти только по воскресеньям у обедни и видимся. Экой же вы нелюдим какой! Вы точно как я! А ведь я вам почти родная. Не любите вы меня, Макар Алексеевнч, а мне иногда одной очень грустно бывает. Иной раз, особенно в сумерки, сидишь себе одна-одинешенька. Федора уйдет куда-нибудь. Сидишь, думаешь-думаешь, – вспоминаешь все старое, и радостное, и грустное, – все идет перед глазами, все мелькает, как из тумана. Знакомые лица являются (я почти наяву начинаю видеть), – матушку вижу чаще всего… А какие бывают сны у меня! Я чувствую, что здоровье мое расстроено; я так слаба; вот и сегодня, когда вставала утром с постели, мне дурно сделалось; сверх того, у меня такой дурной кашель! Я чувствую, я знаю, что скоро умру. Кто-то меня похоронит? Кто-то за гробом. моим пойдет? Кто-то обо мне пожалеет?.. И вот придется, может быть, умереть в чужом месте, в чужом доме, в чужом угле!.. Боже мой, как грустно жить, Макар Алексеевич! Что вы меня, друг мой, все конфетами кормите? Я, право, не знаю, откуда вы денег столько берете? Ах, друг мой, берегите деньги, ради бога, берегите их. Федора продает ковер, который я вышила;дают пятьдесят рублей ассигнациями. Это очень хорошо: я думала, меньше будет. Я Федоре дам три целковых да себе сошью платьице, так, простенькое, потеплее. Вам жилетку сделаю, сама сделаю и материи хорошей выберу. | —Thedora tells me that, should I wish, there are some people who will be glad to help me by obtaining me an excellent post as governess in a certain house. What think you, my friend? Shall I go or not? Of course, I should then cease to be a burden to you, and the post appears to be a comfortable one. On the other hand, the idea of entering a strange house appals me. The people in it are landed gentry, and they will begin to ask me questions, and to busy themselves about me. What answers shall I then return? You see, I am now so unused to society—so shy! I like to live in a corner to which I have long grown used. Yes, the place with which one is familiar is always the best. Even if for companion one has but sorrow, that place will still be the best…. God alone knows what duties the post will entail. Perhaps I shall merely be required to act as nursemaid; and in any case, I hear that the governess there has been changed three times in two years. For God’s sake, Makar Alexievitch, advise me whether to go or not. Why do you never come near me now? Do let my eyes have an occasional sight of you. Mass on Sundays is almost the only time when we see one another. How retiring you have become! So also have I, even though, in a way, I am your kinswoman. You must have ceased to love me, Makar Alexievitch. I spend many a weary hour because of it. Sometimes, when dusk is falling, I find myself lonely—oh, so lonely! Thedora has gone out somewhere, and I sit here and think, and think, and think. I remember all the past, its joys and its sorrows. It passes before my eyes in detail, it glimmers at me as out of a mist; and as it does so, well-known faces appear, which seem actually to be present with me in this room! Most frequently of all, I see my mother. Ah, the dreams that come to me! I feel that my health is breaking, so weak am I. When this morning I arose, sickness took me until I vomited and vomited. Yes, I feel, I know, that death is approaching. Who will bury me when it has come? Who will visit my tomb? Who will sorrow for me? And now it is in a strange place, in the house of a stranger, that I may have to die! Yes, in a corner which I do not know!… My God, how sad a thing is life!… Why do you send me comfits to eat? Whence do you get the money to buy them? Ah, for God’s sake keep the money, keep the money. Thedora has sold a carpet which I have made. She got fifty roubles for it, which is very good—I had expected less. Of the fifty roubles I shall give Thedora three, and with the remainder make myself a plain, warm dress. Also, I am going to make you a waistcoat—to make it myself, and out of good material. |
| Федора мне достала книжку-“Повести Белкина”, которую вам посылаю, если захотите читать. Пожалуйста, только не запачкайте и не задержите: книга чужая; это Пушкина сочинение. Два года тому назад мы читали эти повести вместе с матушкой, и теперь мне так грустно было их перечитывать. Если у вас есть какие-нибудь книги, то пришлите мне, – только в таком случае,когда вы их не от Ратазяева получили. Он, наверно, даст своего сочинения, если он что-нибудь напечатал. Как это вам нравятся его сочинения, Макар Алексеевич? Такие пустякн… Ну, прощайте! как я заболталась! Когда мне грустно, так я рада болтать, хоть об чем-нибудъ. Это лекарство: тотчас легче сделается, а особливо если выскажешь все, что лежит на сердце. Прощайте, прощайте, мой друг! | Also, Thedora has brought me a book—“The Stories of Bielkin”—which I will forward you, if you would care to read it. Only, do not soil it, nor yet retain it, for it does not belong to me. It is by Pushkin. Two years ago I read these stories with my mother, and it would hurt me to read them again. If you yourself have any books, pray let me have them—so long as they have not been obtained from Rataziaev. Probably he will be giving you one of his own works when he has had one printed. How is it that his compositions please you so much, Makar Alexievitch? I think them SUCH rubbish! —Now goodbye. How I have been chattering on! When feeling sad, I always like to talk of something, for it acts upon me like medicine—I begin to feel easier as soon as I have uttered what is preying upon my heart. Good bye, good-bye, my friend |
| Ваша | —Your own |
| В. Д. | B. D. |
| Июня 28. | June 28th. |
| Маточка, Варвара Алексеевна! | MY DEAREST BARBARA ALEXIEVNA |
| Полно кручиниться! Как же это не стыдно вам! Ну полноте, ангельчик мой; как это вам такие мысли приходят? Вы не больны, душечка, вовсе не больны; вы цветете, право цветете; бледненьки немножко, а все-таки цветете. И что это у вас за сны да за видения такие! Стыдно, голубчик мой, полноте; вы плюньте на сны-то эти, просто плюньте. Отчего же я сплю хорошо? Отчего же мне ничего не делается? Вы посмотрите-ка на меня, маточка. Живу себе, сплю покойно, здоровехонек, молодец молодцом, любо смотреть. Полноте, полноте, душечка, стыдно. Исправьтесь. Я ведь головку-то вашу знаю, маточка, чуть что-нибудь найдет, вы уж и пошли мечтать да тосковать о чем-то. Ради меня перестаньте, душенька. В люди идти? – никогда! Нет, нет и нет! Да и что это вам думается такое, что это находит на вас? Да еще и на выезд! Да нет же, маточка, не позволю, вооружаюсь всеми силами против такого намерения. Мой фрак старый продам и в одной рубашке стану ходить по улицам, а уж вы у нас нуждаться не будете. Нет, Варенька, нет; уж я знаю вас! Это блажь, чистая блажь! А что верно, так это то, что во всем Федора одна виновата: она, видно, глупая баба, вас на все надоумила. А вы ей, маточка, не верьте. Да вы еще, верно, не знаете всего-то, душенька?.. Она баба глупая, сварливая, вздорная; она и мужа своего покойника со свету выжила. Или она, верно, вас рассердила там какнибудь? Нет, нет, маточка, ни за что! И я-то как же буду тогда, что мне-то останется делать? Нет, Варенька, душенька, вы это из головки-то выкиньте. Чего вам недостает у нас? Мы на вас не нарадуемся, вы нас любите – так и живите себе там смирненько; шейте или читайте, а пожалуй, и не шейте, – все равно, только с нами живите. А то вы сами посудите, ну на что это будет похоже тогда?.. Вот я вам книжек достану, а потом, пожалуй, и опять куда-нибудь гулять соберемся. Только вы-то полноте, маточка, полноте, наберитесь ума и из пустяков не блажите! Я к вам приду, и в весьма скором времени, только вы за это мое прямое и откровенное признание примите: нехорошо, душенька, очень нехорошо! Я, конечно, неученый человек и сам знаю, что неученый, что на медные деньги учился, да я не к тому и речь клоню, не во мне тут и дело-то, а за Ратазяева заступлюсь, воля ваша. Он мне друг, потому я за него и заступлюсь. Он хорошо пишет, очень, очень и опять-таки очень хорошо пишет. Не соглашаюсь я с вами и никак не могу согласиться. Писано цветисто, отрывисто, с фигурами, разные мысли есть; очень хорошо! Вы, может быть, без чувства читали, Варенька, или не в духе были, когда читали, на Федору за что-нибудь рассердились, или что-нибудь у вас там нехорошее вышло. Нет, вы прочтите-ка это с чувством, получше, когда вы довольны и веселы и в расположении духа приятном находитесь, вот, например, когда конфетку во рту держите, – вот когда прочтите. Я не спорю (кто же против этого), есть и лучше Ратазяева писатели, есть даже и очень лучшие. но и они хороши, и Ратазяев хорош; они хорошо пишут и он хорошо пишет. Он себе особо, он так себе пописывает, и очень хорошо делает, что пописывает. Ну, прошайте, маточка; писать более не могу; нужно спешить, дело есть. Смотрите же, маточка, ясочка ненаглядная, успокойтесь, и господь да пребудет с вами, а я пребываю | —Away with melancholy! Really, beloved, you ought to be ashamed of yourself! How can you allow such thoughts to enter your head? Really and truly you are quite well; really and truly you are, my darling. Why, you are blooming—simply blooming. True, I see a certain touch of pallor in your face, but still you are blooming. A fig for dreams and visions! Yes, for shame, dearest! Drive away those fancies; try to despise them. Why do I sleep so well? Why am I never ailing? Look at ME, beloved. I live well, I sleep peacefully, I retain my health, I can ruffle it with my juniors. In fact, it is a pleasure to see me. Come, come, then, sweetheart! Let us have no more of this. I know that that little head of yours is capable of any fancy—that all too easily you take to dreaming and repining; but for my sake, cease to do so. Are you to go to these people, you ask me? Never! No, no, again no! How could you think of doing such a thing as taking a journey? I will not allow it—I intend to combat your intention with all my might. I will sell my frockcoat, and walk the streets in my shirt sleeves, rather than let you be in want. But no, Barbara. I know you, I know you. This is merely a trick, merely a trick. And probably Thedora alone is to blame for it. She appears to be a foolish old woman, and to be able to persuade you to do anything. Do not believe her, my dearest. I am sure that you know what is what, as well as SHE does. Eh, sweetheart? She is a stupid, quarrelsome, rubbish-talking old woman who brought her late husband to the grave. Probably she has been plaguing you as much as she did him. No, no, dearest; you must not take this step. What should I do then? What would there be left for ME to do? Pray put the idea out of your head. What is it you lack here? I cannot feel sufficiently overjoyed to be near you, while, for your part, you love me well, and can live your life here as quietly as you wish. Read or sew, whichever you like—or read and do not sew. Only, do not desert me. Try, yourself, to imagine how things would seem after you had gone. Here am I sending you books, and later we will go for a walk. Come, come, then, my Barbara! Summon to your aid your reason, and cease to babble of trifles. As soon as I can I will come and see you, and then you shall tell me the whole story. This will not do, sweetheart; this certainly will not do. Of course, I know that I am not an educated man, and have received but a sorry schooling, and have had no inclination for it, and think too much of Rataziaev, if you will; but he is my friend, and therefore, I must put in a word or two for him. Yes, he is a splendid writer. Again and again I assert that he writes magnificently. I do not agree with you about his works, and never shall. He writes too ornately, too laconically, with too great a wealth of imagery and imagination. Perhaps you have read him without insight, Barbara? Or perhaps you were out of spirits at the time, or angry with Thedora about something, or worried about some mischance? Ah, but you should read him sympathetically, and, best of all, at a time when you are feeling happy and contented and pleasantly disposed—for instance, when you have a bonbon or two in your mouth. Yes, that is the way to read Rataziaev. I do not dispute (indeed, who would do so?) that better writers than he exist—even far better; but they are good, and he is good too—they write well, and he writes well. It is chiefly for his own sake that he writes, and he is to be approved for so doing. Now goodbye, dearest. More I cannot write, for I must hurry away to business. Be of good cheer, and the Lord God watch over you! |
| вашим верным другом | —Your faithful friend, |
| Макаром Девушкиным. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| P. S. Спасибо за книжку, родная моя, прочтем и Пушкина; а сегодня я, повечеру, непременно зайду к вам. | P.S—Thank you so much for the book, darling! I will read it through, this volume of Pushkin, and tonight come to you. |
| Июля 1. | |
| Дорогой мой Макар Алексеевич! | MY DEAR MAKAR ALEXIEVITCH |
| Нет, друг мой, нет, мне не житье между вами. Я раздумала и нашла, что очень дурно делаю, отказываясь от такого выгодного места. Там будет у меня по крайней мере хоть верный кусок хлеба; я буду стараться, я заслужу ласку чужих людей, даже постараюсь переменить свой характер, если будет надобно. Оно, конечно, больно и тяжело жить между чужими, искать чужой милости, скрываться и принуждать себя, да бог мне поможет. Не оставаться же век нелюдимкой. Со мною уж бывали такие же случаи. Я помню, когда я, бывало, еще маленькая, в пансион хаживала. Бывало, все воскресенье дома резвишься, прыгаешь, иной раз и побранит матушка – все ничего, все хорошо на сердце, светло на душе. Станет подходить вечер, и грусть нападет смертельная, нужно в девять часов в пансион идти, а там все чужое, холодное, строгое, гувернантки по понедельникам такие сердитые, так и щемит, бывало, за душу, плакать хочется; пойдешь в уголок и поплачешь одна-одинешенька, слезы скрываешь,скажут, ленивая; а я вовсе не о том и плачу, бывало, что учиться надобно. Ну, что ж? я привыкла, и потом, когда выходила из пансиона, так тоже плакала, прощаясь с подружками. Да и нехорошо я делаю, что живу в тягость обоим вам. Эта мысль – мне мученье. Я вам откровенно говорю все это, потому что привыкла быть с вами откровенною. Разве я не вижу, как Федора встает каждый день раным-ранехонько, да за стирку свою принимается и до поздней ночи работает? – а старые кости любят покой. Разве я не вижу, что вы на меня разоряетесь, последнюю копейку ребром ставите да на меня ее тратите? не с вашим состоянием, мой друг! Пишете вы, что последнее продадите, а меня в нужде не оставите. Верю, друг мой, я верю в ваше доброе сердце – но это вы теперь так говорите. Теперь у вас есть деньги неожиданные, вы получили награждение; но потом что будет, потом? Вы знаете сами – я больная всегда; я не могу так же, как и вы, работать, хотя бы душою рада была, да и работа не всегда бывает. Что же мне остается? Надрываться с тоски, глядя на вас обоих, сердечных. Чем я могу оказать вам хоть малейшую пользу? И отчего я вам так необходима, друг мой? Что я вам хорошего сделала? Я только привязана к вам всею душою, люблю вас крепко, сильно, всем сердцем, но – горька судьба моя! – я умею любить и могу любить, но только, а не творить добро, не платить вам за ваши благодеяния. Не держите же меня более, подумайте и скажите ваше последнее мнение. В ожидании пребываю | —No, no, my friend, I must not go on living near you. I have been thinking the matter over, and come to the conclusion that I should be doing very wrong to refuse so good a post. I should at least have an assured crust of bread; I might at least set to work to earn my employers’ favour, and even try to change my character if required to do so. Of course it is a sad and sorry thing to have to live among strangers, and to be forced to seek their patronage, and to conceal and constrain one’s own personality—but God will help me. I must not remain forever a recluse, for similar chances have come my way before. I remember how, when a little girl at school, I used to go home on Sundays and spend the time in frisking and dancing about. Sometimes my mother would chide me for so doing, but I did not care, for my heart was too joyous, and my spirits too buoyant, for that. Yet as the evening of Sunday came on, a sadness as of death would overtake me, for at nine o’clock I had to return to school, where everything was cold and strange and severe—where the governesses, on Mondays, lost their tempers, and nipped my ears, and made me cry. On such occasions I would retire to a corner and weep alone; concealing my tears lest I should be called lazy. Yet it was not because I had to study that I used to weep, and in time I grew more used to things, and, after my schooldays were over, shed tears only when I was parting with friends… It is not right for me to live in dependence upon you. The thought tortures me. I tell you this frankly, for the reason that frankness with you has become a habit. Cannot I see that daily, at earliest dawn, Thedora rises to do washing and scrubbing, and remains working at it until late at night, even though her poor old bones must be aching for want of rest? Cannot I also see that YOU are ruining yourself for me, and hoarding your last kopeck that you may spend it on my behalf? You ought not so to act, my friend, even though you write that you would rather sell your all than let me want for anything. I believe in you, my friend—I entirely believe in your good heart; but, you say that to me now (when, perhaps, you have received some unexpected sum or gratuity) and there is still the future to be thought of. You yourself know that I am always ailing—that I cannot work as you do, glad though I should be of any work if I could get it; so what else is there for me to do? To sit and repine as I watch you and Thedora? But how would that be of any use to you? AM I necessary to you, comrade of mine? HAVE I ever done you any good? Though I am bound to you with my whole soul, and love you dearly and strongly and wholeheartedly, a bitter fate has ordained that that love should be all that I have to give—that I should be unable, by creating for you subsistence, to repay you for all your kindness. Do not, therefore, detain me longer, but think the matter out, and give me your opinion on it. |
| вас любящая | In expectation of which I remain your sweetheart, |
| В. Д. | B. D. |
| Июля 1. | July 1st. |
| Блажь, блажь, Варенька, просто блажь! Оставь вас так, так вы там головкой своей и чего-чего не передумаете. И то не так и это не так! А я вижу теперь, что это все блажь. Да чего же вам недостает у нас, маточка, вы только это скажите! Вас любят, вы нас любите, мы все довольны и счастливы – чего же более? Ну, а что вы в чужих-то людях будете делать? Ведь вы, верно, еще не знаете, что такое чужой человек?.. Нет, вы меня извольте-ка порасспросить, так я вам скажу, что такое чужой человек. Знаю я его, маточка, хорошо знаю; случалось хлеб его есть. Зол он, Варенька, зол, уж так зол, что сердечка твоего недостанет, так он его истерзает укором, попреком да взглядом дурным. У нас вам тепло, хорошо, – словно в гнездышке приютились. Да и нас-то вы как без головы оставите. Ну что мы будем делать без вас; что я, старик, буду делать тогда? Вы нам не нужны? Не полезны? Как не полезны? Нет, вы, маточка, сами рассудите, как же вы не полезны? Вы мне очень полезны, Варенька. Вы этакое влияние имеете благотворное… Вот я об вас думаю теперь, и мне весело… Я вам иной раз письмо напишу и все чувства в нем изложу, на что подробный ответ от вас получаю. Гардеробцу вам накупил, шляпку сделал; от вас комиссия подчас выходит какая-нибудь, я и комиссию… Нет, как же вы не полезны? Да и что я один буду делать на старости, на что годиться буду? Вы, может быть, об этом и не подумали, Варенька; нет, вы именно об этом подумайте – что вот, дескать, на что он будет без меня-то годиться? Я привык к вам, родная моя. А то что из этого будет? Пойду к Неве, да и дело с концом. Да, право же, будет такое, Варенька; что же мне без вас делать останется! Ах, душечка моя, Варенька! Хочется, видно, вам, чтобы меня ломовой извозчик на Волково свез; чтобы какая-нибудь там нищая старуха-пошлепница одна мой гроб провожала, чтобы меня там песком засыпали, да прочь пошли, да одного там оставили. Грешно, грешно, маточка! Право, грешно, ей-богу, грешно! Отсылаю вам вашу книжку, дружочек мой, Варенька, и если вы, дружочек мой, спросите мнения моего насчет вашей книжки, то я скажу, что в жизнь мою не случалось мне читать таких славных книжек. Спрашиваю я теперь себя, маточка, как же это я жил до сих пор таким олухом, прости господи? Что делал? Из каких я лесов? Ведь ничего-то я не знаю, маточка, ровно ничего не знаю! совсем ничего не знаю! Я вам, Варенька, спроста скажу, – я человек неученый; читал я до сей поры мало, очень мало читал, да почти ничего: “Картину человека”, умное сочинение, читал; “Мальчика, наигрывающего разные штучки на колокольчиках” читал да “Ивиковы журавли”, – вот только и всего, а больше ничего никогда не читал. Теперь я “Станционного смотрителя” здесь в вашей книжке прочел; ведь вот скажу я вам, маточка, случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было, так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. И наконец, вот отчего еще я полюбил вашу книжку: иное творение, какое там ни есть, читаешь-читаешь, иной раз хоть треснитак хитро, что как будто бы его и не понимаешь. Я, например,я туп, я от природы моей туп, так я не могу слишком важных сочинений читать; а это читаешь, – словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно – вот как! Да и дело-то простое, бог мой; да чего! право, и я так же бы написал; отчего же бы и не написал? Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга. Да и сколько между нами-то ходит Самсонов Выриных, таких же горемык сердечных! И как ловко описано все! Меня чуть слезы не прошибли, маточка, когда я прочел, что он спился, грешный, так, что память потерял, горьким сделался и спит себе целый день под овчинным тулупом, да горе пуншиком захлебывает, да плачет жалостно, грязной полою глаза утирая, когда вспоминает о заблудшей овечке своей, об дочке Дуняше! Нет, это натурально! Вы прочтите-ка; это натурально! это живет! Я сам это видал,это вот все около меня живет; вот хоть Тереза – да чего далеко ходить! – вот хоть бы и наш бедный чиновник,ведь он, может быть, такой же Самсон Вырин, только у него другая фамилия, Горшков. Дело-то оно общее, маточка, и над вами и надо мной может слулиться. И граф, что на Невском или на набережной живет, и он будет то же самое, так только казаться будет другим, потому что у них все по-своему, по высшему тону, но и он будет то же самое, все может случиться, и со мною то же самое может случиться. Вот оно что, маточка, а вы еще тут от нас отходить хотите; да ведь грех, Варенька, может застигнуть меня. И себя и меня сгубить можете, родная моя. Ах, ясочка вы моя, выкиньте, ради бога, из головки своей все эти вольные мысли и не терзайте меня напрасно. Ну где же, птенчик вы мой слабенький, неоперившийся, где же вам самое себя прокормить, от погибели себя удержать, от злодеев защититься! Полноте, Варенька, поправьтесь; вздорных советов и наговоров не слушайте, а книжку вашу еще раз прочтите, со вниманием прочтите: вам это пользу принесет. | Rubbish, rubbish, Barbara!—What you say is sheer rubbish. Stay here, rather, and put such thoughts out of your head. None of what you suppose is true. I can see for myself that it is not. Whatsoever you lack here, you have but to ask me for it. Here you love and are loved, and we might easily be happy and contented together. What could you want more? What have you to do with strangers? You cannot possibly know what strangers are like. I know it, though, and could have told you if you had asked me. There is a stranger whom I know, and whose bread I have eaten. He is a cruel man, Barbara—a man so bad that he would be unworthy of your little heart, and would soon tear it to pieces with his railings and reproaches and black looks. On the other hand, you are safe and well here—you are as safe as though you were sheltered in a nest. Besides, you would, as it were, leave me with my head gone. For what should I have to do when you were gone? What could I, an old man, find to do? Are you not necessary to me? Are you not useful to me? Eh? Surely you do not think that you are not useful? You are of great use to me, Barbara, for you exercise a beneficial influence upon my life. Even at this moment, as I think of you, I feel cheered, for always I can write letters to you, and put into them what I am feeling, and receive from you detailed answers…. I have bought you a wardrobe, and also procured you a bonnet; so you see that you have only to give me a commission for it to be executed…. No—in what way are you not useful? What should I do if I were deserted in my old age? What would become of me? Perhaps you never thought of that, Barbara—perhaps you never said to yourself, “How could HE get on without me?” You see, I have grown so accustomed to you. What else would it end in, if you were to go away? Why, in my hiking to the Neva’s bank and doing away with myself. Ah, Barbara, darling, I can see that you want me to be taken away to the Volkovo Cemetery in a broken-down old hearse, with some poor outcast of the streets to accompany my coffin as chief mourner, and the gravediggers to heap my body with clay, and depart and leave me there. How wrong of you, how wrong of you, my beloved! Yes, by heavens, how wrong of you! I am returning you your book, little friend; and, if you were to ask of me my opinion of it, I should say that never before in my life had I read a book so splendid. I keep wondering how I have hitherto contrived to remain such an owl. For what have I ever done? From what wilds did I spring into existence? I KNOW nothing—I know simply NOTHING. My ignorance is complete. Frankly, I am not an educated man, for until now I have read scarcely a single book—only “A Portrait of Man” (a clever enough work in its way), “The Boy Who Could Play Many Tunes Upon Bells”, and “Ivik’s Storks”. That is all. But now I have also read “The Station Overseer” in your little volume; and it is wonderful to think that one may live and yet be ignorant of the fact that under one’s very nose there may be a book in which one’s whole life is described as in a picture. Never should I have guessed that, as soon as ever one begins to read such a book, it sets one on both to remember and to consider and to foretell events. Another reason why I liked this book so much is that, though, in the case of other works (however clever they be), one may read them, yet remember not a word of them (for I am a man naturally dull of comprehension, and unable to read works of any great importance),—although, as I say, one may read such works, one reads such a book as YOURS as easily as though it had been written by oneself, and had taken possession of one’s heart, and turned it inside out for inspection, and were describing it in detail as a matter of perfect simplicity. Why, I might almost have written the book myself! Why not, indeed? I can feel just as the people in the book do, and find myself in positions precisely similar to those of, say, the character Samson Virin. In fact, how many good-hearted wretches like Virin are there not walking about amongst us? How easily, too, it is all described! I assure you, my darling, that I almost shed tears when I read that Virin so took to drink as to lose his memory, become morose, and spend whole days over his liquor; as also that he choked with grief and wept bitterly when, rubbing his eyes with his dirty hand, he bethought him of his wandering lamb, his daughter Dunasha! How natural, how natural! You should read the book for yourself. The thing is actually alive. Even I can see that; even I can realise that it is a picture cut from the very life around me. In it I see our own Theresa (to go no further) and the poor tchinovnik—who is just such a man as this Samson Virin, except for his surname of Gorshkov. The book describes just what might happen to ourselves—to myself in particular. Even a count who lives in the Nevski Prospect or in Naberezhnaia Street might have a similar experience, though he might APPEAR to be different, owing to the fact that his life is cast on a higher plane. Yes, just the same things might happen to him—just the same things…. Here you are wishing to go away and leave us; yet, be careful lest it would not be I who had to pay the penalty of your doing so. For you might ruin both yourself and me. For the love of God, put away these thoughts from you, my darling, and do not torture me in vain. How could you, my poor little unfledged nestling, find yourself food, and defend yourself from misfortune, and ward off the wiles of evil men? Think better of it, Barbara, and pay no more heed to foolish advice and calumny, but read your book again, and read it with attention. It may do you much good. |
| Говорил я про “Станционного смотрителя” Ратазяеву. Он мне сказал, что это все старое и что теперь все пошли книжки с картинками и с разными описаниями; уж я, право, в толк не взял хорошенько, что он тут говорил такое. Заключил же, что Пушкин хорош и что он святую Русь прославил, и много еще мне про него говорил. Да, очень хорошо, Варенька, очень хорошо; прочтите-ка книжку еще раз со вниманием, советам моим последуйте и послушанием своим меня, старика, осчастливьте. Тогда сам господь наградит вас, моя родная, непременно наградит. | I have spoken of Rataziaev’s “The Station Overseer”. However, the author has told me that the work is old-fashioned, since, nowadays, books are issued with illustrations and embellishments of different sorts (though I could not make out all that he said). Pushkin he adjudges a splendid poet, and one who has done honour to Holy Russia. Read your book again, Barbara, and follow my advice, and make an old man happy. The Lord God Himself will reward you. Yes, He will surely reward you. |
| Ваш искренний друг | —Your faithful friend, |
| Макар Девушкин. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Июля 6. | |
| Милостивый государь, Макар Алексеевич! | MY DEAREST MAKAR ALEXIEVITCH, |
| Федора принесла мне сегодня пятнадцать рублей серебром. Как она была рада, бедная, когда я ей три целковых дала! Пишу вам наскоро. Я теперь крою вам жилетку, – прелесть какая материя, – желтенькая с цветочками. Посылаю вам одну книжку; тут все разные повести; я прочла кое-какие; прочтите одну из них под названием “Шинель”. Вы меня уговариваете в театр идти вместе с вами; не дорого ли это будет? Разве уж куданибудь в галерею. Я уж очень давно не была в театре, да и, право, не помню когда. Только опять все боюсь, не дорого ли будет стоить эта затея? Федора только головой покачивает. Она говорит, что вы совсем не по достаткам жить начали; да я и сама это вижу; сколько вы на меня одну истратили! Смотрите, друг мой, не было бы беды. Федора и так мне говорила про какие-то слухи – что вы имели, кажется, спор с вашей хозяйкой за неуплату ей денег; я очень боюсь за вас. Ну, прощайте; я спешу. Дело есть маленькое; я переменяю ленты на шляпке. | —Today Thedora came to me with fifteen roubles in silver. How glad was the poor woman when I gave her three of them! I am writing to you in great haste, for I am busy cutting out a waistcoat to send to you—buff, with a pattern of flowers. Also I am sending you a book of stories; some of which I have read myself, particularly one called “The Cloak.” … You invite me to go to the theatre with you. But will it not cost too much? Of course we might sit in the gallery. It is a long time (indeed I cannot remember when I last did so) since I visited a theatre! Yet I cannot help fearing that such an amusement is beyond our means. Thedora keeps nodding her head, and saying that you have taken to living above your income. I myself divine the same thing by the amount which you have spent upon me. Take care, dear friend, that misfortune does not come of it, for Thedora has also informed me of certain rumours concerning your inability to meet your landlady’s bills. In fact, I am very anxious about you. Now, goodbye, for I must hasten away to see about another matter—about the changing of the ribands on my bonnet. |
| В. Д. | |
| P. S. Знаете ли, если мы пойдем в театр, то я надену мою новенькую шляпку, а на плеча черную мантилью. Хорошо ли это будет? | P.S.—Do you know, if we go to the theatre, I think that I shall wear my new hat and black mantilla. Will that not look nice? |
| Июля 7. | July 7th. |
| Милостивая государыня, Варвара Алексеевна! | MY DEAREST BARBARA ALEXIEVNA |
| …Так вот я все про вчерашнее. Да, маточка, и на нас в одно время блажь находила. Врезался в эту актрисочку, по уши врезался, да это бы еще ничего; а самое-то чудное то, что я ее почти совсем не видал и в театре был всего один раз, а при всем том врезался. Жили тогда со мною стенка об стенку человек пятеро молодого, раззадорного народу. Сошелся я с ними, поневоле сошелся, хотя всегда был от них в пристойных границах. Ну, чтобы не отстать, я и сам им во всем поддакиваю. Насказали они мне об этой актриске! Каждый вечер, как только театр идет, вся компания – на нужное у них никогда гроша не бывало – вся компания отправлялась в театр, в галерею, и уж хлопают-хлопают, вызывают-вызывают эту актриску – просто беснуются! А потом и заснуть не дадут; всю ночь напролет об ней толкуют, всякий ее своей Глашей зовет, все в одну в нее влюблены, у всех одна канарейка на сердце. Раззадорили они меня, беззащитного; я тогда еще молоденек был. Сам не знаю, как очутился я с ними в театре, в четвертом ярусе, в галерее. Видеть-то я один только краешек занавески видел, зато все слышал. У актрисочки, точно, голосок был хорошенький, – звонкий, соловьиный, медовый! Мы все руки у себя отхлопали, кричаликричали, – одним словом, до нас чуть не добрались, одного уж и вывели, правда. Пришел я домой, – как в чаду хожу! в кармане только один целковый рубль оставался, а до жалованья еще добрых дней десять. Так как бы вы думали, маточка? На другой день, прежде чем на службу идти, завернул я к парфюмеру-французу, купил у него духов каких-то да мыла благовонного на весь капитал – уж и сам не знаю, зачем я тогда накупил всего этого? Да и не обедал дома, а все мимо ее окон ходил. Она жила на Невском, в четвертом этаже. Пришел домой, часочек какой-нибудь там отдохнул и опять на Невский пошел, чтобы только мимо ее окошек пройти. Полтора месяца я ходил таким образом, волочился за нею; извозчиков-лихачей нанимал поминутно и все мимо ее окон концы давал; замотался совсем, задолжал, а потом уж и разлюбил ее: наскучило! Так вот что актриска из порядочного человека сделать в состоянии, маточка! Впрочем, молоденек-то я, молоденек был тогда!.. Милостивая государыня моя, | —SO much for yesterday! Yes, dearest, we have both been caught playing the fool, for I have become thoroughly bitten with the actress of whom I spoke. Last night I listened to her with all my ears, although, strangely enough, it was practically my first sight of her, seeing that only once before had I been to the theatre. In those days I lived cheek by jowl with a party of five young men—a most noisy crew—and one night I accompanied them, willy-nilly, to the theatre, though I held myself decently aloof from their doings, and only assisted them for company’s sake. How those fellows talked to me of this actress! Every night when the theatre was open, the entire band of them (they always seemed to possess the requisite money) would betake themselves to that place of entertainment, where they ascended to the gallery, and clapped their hands, and repeatedly recalled the actress in question. In fact, they went simply mad over her. Even after we had returned home they would give me no rest, but would go on talking about her all night, and calling her their Glasha, and declaring themselves to be in love with “the canary-bird of their hearts.” My defenseless self, too, they would plague about the woman, for I was as young as they. What a figure I must have cut with them on the fourth tier of the gallery! Yet, I never got a sight of more than just a corner of the curtain, but had to content myself with listening. She had a fine, resounding, mellow voice like a nightingale’s, and we all of us used to clap our hands loudly, and to shout at the top of our lungs. In short, we came very near to being ejected. On the first occasion I went home walking as in a mist, with a single rouble left in my pocket, and an interval of ten clear days confronting me before next pay-day. Yet, what think you, dearest? The very next day, before going to work, I called at a French perfumer’s, and spent my whole remaining capital on some eau-de-Cologne and scented soap! Why I did so I do not know. Nor did I dine at home that day, but kept walking and walking past her windows (she lived in a fourth-storey flat on the Nevski Prospect). At length I returned to my own lodging, but only to rest a short hour before again setting off to the Nevski Prospect and resuming my vigil before her windows. For a month and a half I kept this up—dangling in her train. Sometimes I would hire cabs, and discharge them in view of her abode; until at length I had entirely ruined myself, and got into debt. Then I fell out of love with her—I grew weary of the pursuit…. You see, therefore, to what depths an actress can reduce a decent man. In those days I was young. Yes, in those days I was VERY young. |
| Варвара Алексеевна! М. Д. | M. D. |
| Июля 8. | July 8th. |
| MY DEAREST BARBARA ALEXIEVNA, | |
| Книжку вашу, полученную мною 6-го сего месяца, спешу возвратить вам и вместе с тем спешу в сем письме моем объясниться с вами. Дурно, маточка, дурно то, что вы меня в такую крайность поставили. Позвольте, маточка: всякое состояние определено всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником; такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано; иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим богом. Состою я уже около тридцати лет на службе; служу безукоризненно, поведения трезвого, в беспорядках никогда не замечен. Как гражданин, считаю себя, собственным сознанием моим, как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Уважаем начальством, и сами его превосходительство мною довольны; хотя еще они доселе не оказывали мне особенных знаков благорасположения, но я знаю, что они довольны. Дожил до седых волос; греха за собою большого не знаю. Конечно, кто же в малом не грешен? Всякий грешен, и даже вы грешчы, маточка! Но в больших проступках и продерзостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствня, в этом я никогда не замечен, этого не было; даже крестик выходил – ну да уж что! Все это вы по совести должны бы были знать, маточка, и он должен бы был знать; уж как взялся описывать, так должен бы был все знать. Нет, я этого не ожидал от вас, маточка; нет, Варенька! Вот от вас-то именно такого и не ожидал. | —The book which I received from you on the 6th of this month I now hasten to return, while at the same time hastening also to explain matters to you in this accompanying letter. What a misfortune, my beloved, that you should have brought me to such a pass! Our lots in life are apportioned by the Almighty according to our human deserts. To such a one He assigns a life in a general’s epaulets or as a privy councillor—to such a one, I say, He assigns a life of command; whereas to another one, He allots only a life of unmurmuring toil and suffering. These things are calculated according to a man’s CAPACITY. One man may be capable of one thing, and another of another, and their several capacities are ordered by the Lord God himself. I have now been thirty years in the public service, and have fulfilled my duties irreproachably, remained abstemious, and never been detected in any unbecoming behaviour. As a citizen, I may confess—I confess it freely—I have been guilty of certain shortcomings; yet those shortcomings have been combined with certain virtues. I am respected by my superiors, and even his Excellency has had no fault to find with me; and though I have never been shown any special marks of favour, I know that every one finds me at least satisfactory. Also, my writing is sufficiently legible and clear. Neither too rounded nor too fine, it is a running hand, yet always suitable. Of our staff only Ivan Prokofievitch writes a similar hand. Thus have I lived till the grey hairs of my old age; yet I can think of no serious fault committed. Of course, no one is free from MINOR faults. Everyone has some of them, and you among the rest, my beloved. But in grave or in audacious offences never have I been detected, nor in infringements of regulations, nor in breaches of the public peace. No, never! This you surely know, even as the author of your book must have known it. Yes, he also must have known it when he sat down to write. I had not expected this of you, my Barbara. I should never have expected it. |
| Как! Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем,каков уж он там ни есть, – жить водой не замутя, по пословице, никого не трогая, зная страх божий да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались да не подсмотрели – что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хорошая, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?.. Да и что же тут такого, маточка, что вот хоть бы и я, где мостовая плоховата, пройду иной раз на цыпочках, что я сапоги берегу! Зачем писать про другого, что вот де он иной раз нуждается, что чаю не пьет? А точно все и должны уж так непременно чай пить! Да разве я смотрю в рот каждому, что, дескать, какой он там кусок жует? Кого же я обижал таким образом? Нет, маточка, зачем же других обижать, когда тебя не затрогивают! Ну, и вот вам пример, Варвара Алексеевна, вот что значит оно: служишь-служишь, ревностно, усердно, – чего! – и начальство само тебя уважает (уж как бы там ни было, а все-таки уважает),и вот кто-нибудь под самым носом твоим, безо всякой видимой причины, ни с того ни с сего, испечет тебе пасквиль. Конечно, правда, иногда сошьешь себе чтонибудь новое,радуешься, не спишь, а радуешься, сапоги новые, например, с таким сладострастием надеваешь – это правда, я ощущал, потому что приятно видеть свою ногу в тонком щегольском сапоге, – это верно описано! Но я все-таки истинно удивляюсь, как Федор-то Федорович без внимания книжку такую пропустили и за себя не вступились. Правда, что он еще молодой сановник и любит подчас покричать; но отчего же и не покричать? Отчего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь. Ну да положим и так, например, для тона распечьну и для тона можно; нужно приучать; нужно острастку давать; потому что – между нами будь это, Варенька,наш брат ничего без острастки не сделает, всякий норовит только где-нибудь числиться, что вот, дескать, я тамто и там-то, а от дела-то бочком да стороночкой. А так как разные чины бывают и каждый чин требует совершенно соответственной по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный,это в порядке вещей! Да ведь на том и свет стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаем, что всяк из нас один другого распекает. Без этой предосторожности и свет бы не стоял и порядка бы не было. Истинно удивляюсь, как Федор Федорович такую обиду пропустили без внимания! | What? In future I am not to go on living peacefully in my little corner, poor though that corner be I am not to go on living, as the proverb has it, without muddying the water, or hurting any one, or forgetting the fear of the Lord God and of oneself? I am not to see, forsooth, that no man does me an injury, or breaks into my home—I am not to take care that all shall go well with me, or that I have clothes to wear, or that my shoes do not require mending, or that I be given work to do, or that I possess sufficient meat and drink? Is it nothing that, where the pavement is rotten, I have to walk on tiptoe to save my boots? If I write to you overmuch concerning myself, is it concerning ANOTHER man, rather, that I ought to write—concerning HIS wants, concerning HIS lack of tea to drink (and all the world needs tea)? Has it ever been my custom to pry into other men’s mouths, to see what is being put into them? Have I ever been known to offend any one in that respect? No, no, beloved! Why should I desire to insult other folks when they are not molesting ME? Let me give you an example of what I mean. A man may go on slaving and slaving in the public service, and earn the respect of his superiors (for what it is worth), and then, for no visible reason at all, find himself made a fool of. Of course he may break out now and then (I am not now referring only to drunkenness), and (for example) buy himself a new pair of shoes, and take pleasure in seeing his feet looking well and smartly shod. Yes, I myself have known what it is to feel like that (I write this in good faith). Yet I am nonetheless astonished that Thedor Thedorovitch should neglect what is being said about him, and take no steps to defend himself. True, he is only a subordinate official, and sometimes loves to rate and scold; yet why should he not do so—why should he not indulge in a little vituperation when he feels like it? Suppose it to be NECESSARY, for FORM’S sake, to scold, and to set everyone right, and to shower around abuse (for, between ourselves, Barbara, our friend cannot get on WITHOUT abuse—so much so that every one humours him, and does things behind his back)? Well, since officials differ in rank, and every official demands that he shall be allowed to abuse his fellow officials in proportion to his rank, it follows that the TONE also of official abuse should become divided into ranks, and thus accord with the natural order of things. All the world is built upon the system that each one of us shall have to yield precedence to some other one, as well as to enjoy a certain power of abusing his fellows. Without such a provision the world could not get on at all, and simple chaos would ensue. Yet I am surprised that our Thedor should continue to overlook insults of the kind that he endures. |
| И для чего же такое писать? И для чего оно нужно? Что мне за это шинель кто-нибудь из читателей сделает, что ли? Сапоги, что ли, новые купит? Нет, Варенька, прочтет да еще продолжения потребует. Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать – куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено! Да тут и на улицу нельзя показаться будет; ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь. Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали: что вот, дескать, при всем этом он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, послушествовал старшим (тут бы пример можно какой-нибудь), никому зла не желал, верил в бога и умер (если ему хочется, чтобы он уж непременно умер) – оплаканный. А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал, узнавши подробнее об его добродетелях, перепросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалованья, так что, видите ли, как бы это было: зло было бы наказано, а добродетель восторжествовала бы, и канцеляристы-товарищи все бы ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал; а то что тут у него особенного, что у него тут хорошего? Так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта. Да и как вы-то решились мне такую книжку прислать, родная моя. Да ведь это злонамеренная книжка, Варенька; это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться. | Why do I do my official work at all? Why is that necessary? Will my doing of it lead anyone who reads it to give me a greatcoat, or to buy me a new pair of shoes? No, Barbara. Men only read the documents, and then require me to write more. Sometimes a man will hide himself away, and not show his face abroad, for the mere reason that, though he has done nothing to be ashamed of, he dreads the gossip and slandering which are everywhere to be encountered. If his civic and family life have to do with literature, everything will be printed and read and laughed over and discussed; until at length, he hardly dare show his face in the street at all, seeing that he will have been described by report as recognisable through his gait alone! Then, when he has amended his ways, and grown gentler (even though he still continues to be loaded with official work), he will come to be accounted a virtuous, decent citizen who has deserved well of his comrades, rendered obedience to his superiors, wished no one any evil, preserved the fear of God in his heart, and died lamented. Yet would it not be better, instead of letting the poor fellow die, to give him a cloak while yet he is ALIVE—to give it to this same Thedor Thedorovitch (that is to say, to myself)? Yes, ‘twere far better if, on hearing the tale of his subordinate’s virtues, the chief of the department were to call the deserving man into his office, and then and there to promote him, and to grant him an increase of salary. Thus vice would be punished, virtue would prevail, and the staff of that department would live in peace together. Here we have an example from everyday, commonplace life. How, therefore, could you bring yourself to send me that book, my beloved? It is a badly conceived work, Barbara, and also unreal, for the reason that in creation such a tchinovnik does not exist. No, again I protest against it, little Barbara; again I protest. |
| Покорнейший слуга ваш | —Your most humble, devoted servant, |
| Макар Девушкин. | M. D. |
| Июля 27. | July 27th. |
| Милостивый государь, Макар Алексеевич! | MY DEAREST MAKAR ALEXIEVITCH, |
| Последние происшествия и письма ваши испугали, поразили меня и повергли в недоумение, а рассказы Федоры объяснили мне все. Но зачем же было так отчаиваться и вдруг упасть в такую бездну, в какую вы упали, Макар Алексеевич? Ваши объяснения вовсе не удовольствовали меня. Видите ли, была ли я права, когда настаивала взять то выгодное место, которое мне предлагали? К тому же и последнее мое приключение пугает меня не на шутку. Вы говорите, что любовь ваша ко мне заставила вас таиться от меня. Я и тогда уже видела, что многим обязана вам, когда вы уверяли, что издерживаете на меня только запасные деньги свои, которые, как говорили, у вас в ломбарде на всякий случай лежали. Теперь же, когда я узнала, что у вас вовсе не было никаких денег, что вы, случайно узнавши о моем бедственном положении и тронувшись им, решились издержать свое жалованье, забрав его вперед, и продали даже свое платье, когда я больна была, – теперь я, открытием всего этого, поставлена в такое мучительное положение, что до сих пор не знаю, как принять все это и что думать об этом. Ах! Макар Алексеевич! вы должны были остановиться на первых благодеяниях своих, внушенных вам состраданием и родственною любовью, а не расточать деньги впоследствии на ненужное. Вы изменили дружбе нашей, Макар Алексеевич, потому что не были откровенны со мною, и теперь, когда я вижу, что ваше последнее пошло мне на наряды, на конфеты, на прогулки, на театр и на книги,то за все это я теперь дорого плачу сожалением о своей непростительной ветрености (ибо я принимала от вас все, не заботясь о вас самих); и все то, чем вы хотели доставить мне удовольствие, обратилось теперь в горе для меня и оставило по себе одно бесполезное сожаление. Я заметила вашу тоску в последнее время, и хотя сама тоскливо ожидала чего-то, но то, что случилось теперь, мне и в ум не входило. Как! вы до такой уже степени могли упасть духом, Макар Алексеевич! Но что теперь о вас подумают, что теперь скажут о вас все, кто вас знает? Вы, которого я и все уважали за доброту души, скромность и благоразумие, вы теперь вдруг впали в такой отвратительный порок, в котором, кажется, никогда не были замечены прежде. Что со мною было, когда Федора рассказала мне, что вас нашли на улице в нетрезвом виде и привезли на квартиру с полицией! Я остолбенела от изумления, хотя и ожидала чего-то необыкновенного, потому что вы четыре дня пропадали.Но подумали ли вы, Макар Алексеевич, что скажут ваши начальники, когда узнают настоящую причину вашего отсутствия? Вы говорите, что над вами смеются все; что все узнали о нашей связи и что и меня упоминают в насмешках своих соседи ваши. Не обращайте внимания на это, Макар Алексеевич, и, ради бога, успокойтесь. Меня пугает еще ваша история с этими офицерами; я об ней темно слышала. Растолкуйте мне, что это все значит? Пишете вы, что боялись открыться мне, боялись потерять вашим признанием мою дружбу, что были в отчаянии, не зная, чем помочь мне в моей болезни, что продали все, чтобы поддержать меня и не пускать в больницу, что задолжали сколько возможно задолжать и имеете каждый день неприятности с хозяйкой,но, скрывая все это от меня, вы выбрали худшее. Но ведь теперь же я все узнала. Вы совестились заставить меня сознаться, что я была причиною вашего несчастного положения, а теперь вдвое более принесли мне горя своим поведением. Все это меня поразило, Макар Алексеевич. Ах, друг мой! несчастие – заразительная болезнь. Несчастным и бедным нужно сторониться друг от друга, чтоб еще более не заразиться. Я принесла вам такие несчастия, которых вы и не испытывали прежде в вашей скромной и уединенной жизни. Все это мучит и убивает меня. | —Your latest conduct and letters had frightened me, and left me thunderstruck and plunged in doubt, until what you have said about Thedor explained the situation. Why despair and go into such frenzies, Makar Alexievitch? Your explanations only partially satisfy me. Perhaps I did wrong to insist upon accepting a good situation when it was offered me, seeing that from my last experience in that way I derived a shock which was anything but a matter for jesting. You say also that your love for me has compelled you to hide yourself in retirement. Now, how much I am indebted to you I realised when you told me that you were spending for my benefit the sum which you are always reported to have laid by at your bankers; but, now that I have learned that you never possessed such a fund, but that, on hearing of my destitute plight, and being moved by it, you decided to spend upon me the whole of your salary—even to forestall it—and when I had fallen ill, actually to sell your clothes—when I learned all this I found myself placed in the harassing position of not knowing how to accept it all, nor what to think of it. Ah, Makar Alexievitch! You ought to have stopped at your first acts of charity—acts inspired by sympathy and the love of kinsfolk, rather than have continued to squander your means upon what was unnecessary. Yes, you have betrayed our friendship, Makar Alexievitch, in that you have not been open with me; and, now that I see that your last coin has been spent upon dresses and bon-bons and excursions and books and visits to the theatre for me, I weep bitter tears for my unpardonable improvidence in having accepted these things without giving so much as a thought to your welfare. Yes, all that you have done to give me pleasure has become converted into a source of grief, and left behind it only useless regret. Of late I have remarked that you were looking depressed; and though I felt fearful that something unfortunate was impending, what has happened would otherwise never have entered my head. To think that your better sense should so play you false, Makar Alexievitch! What will people think of you, and say of you? Who will want to know you? You whom, like everyone else, I have valued for your goodness of heart and modesty and good sense—YOU, I say, have now given way to an unpleasant vice of which you seem never before to have been guilty. What were my feelings when Thedora informed me that you had been discovered drunk in the street, and taken home by the police? Why, I felt petrified with astonishment—although, in view of the fact that you had failed me for four days, I had been expecting some such extraordinary occurrence. Also, have you thought what your superiors will say of you when they come to learn the true reason of your absence? You say that everyone is laughing at you, that every one has learnt of the bond which exists between us, and that your neighbours habitually refer to me with a sneer. Pay no attention to this, Makar Alexievitch; for the love of God, be comforted. Also, the incident between you and the officers has much alarmed me, although I had heard certain rumours concerning it. Pray explain to me what it means. You write, too, that you have been afraid to be open with me, for the reason that your confessions might lose you my friendship. Also, you say that you are in despair at the thought of being unable to help me in my illness, owing to the fact that you have sold everything which might have maintained me, and preserved me in sickness, as well as that you have borrowed as much as it is possible for you to borrow, and are daily experiencing unpleasantness with your landlady. Well, in failing to reveal all this to me you chose the worse course. Now, however, I know all. You have forced me to recognise that I have been the cause of your unhappy plight, as well as that my own conduct has brought upon myself a twofold measure of sorrow. The fact leaves me thunderstruck, Makar Alexievitch. Ah, friend, an infectious disease is indeed a misfortune, for now we poor and miserable folk must perforce keep apart from one another, lest the infection be increased. Yes, I have brought upon you calamities which never before in your humble, solitary life you had experienced. This tortures and exhausts me more than I can tell to think of. |
| Напишите мне теперь все откровенно, что с вами было и как вы решились на такой поступок. Успокойте меня, если можно. Не самолюбие заставляет меня писать теперь о моем спокойствии, но моя дружба и любовь к вам, которые ничем не изгладятся из моего сердца. Прощайте. Жду ответа вашего с нетерпением. Вы худо думали обо мне, Макар Алексеевич. | Write to me quite frankly. Tell me how you came to embark upon such a course of conduct. Comfort, oh, comfort me if you can. It is not self-love that prompts me to speak of my own comforting, but my friendship and love for you, which will never fade from my heart. Goodbye. I await your answer with impatience. You have thought but poorly of me, Makar Alexievitch. |
| Вас сердечно любящая | —Your friend and lover, |
| Варвара Доброселова. | BARBARA DOBROSELOVA. |
| Июля 28. | July 28th. |
| Бесценная моя Варвара Алексеевна! | MY PRICELESS BARBARA ALEXIEVNA, |
| Ну уж, как теперь все кончено и все мало-помалу приходнт в прежнее положение, то вот что скажу я вам, маточка: вы беспокоитесь об том, что обо мне подумают, на что спешу объявить вам, Варвара Алексеевна, что амбиция моя мне дороже всего. Вследствие чего и донося вам об несчастиях моих и всех этих беспорядках, уведомляю вас, что из начальства еще никто ничего не знает, да и не будет знать, так что они все будут питать ко мне уважение по-прежнему. Одного боюсь: сплетен боюсь. Дома у нас хозяйка кричит, а теперь, когда я с помощью ваших десяти рублей уплатил ей часть долга, только ворчит, а более ничего. Что же касается до прочих, то и они ничего; у них только не нужно денег взаймы просить, а то и они ничего. А в заключение объяснений моих скажу вам, маточка, что ваше уважение ко мне считаю я выше всего на свете и тем утешаюсъ теперь во временных беспорядках моих. Слава богу, что первый удар и первые передряги миновали и вы приняли это так, что не считаете меня вероломным другом и себялюбцем за то, что я вас у себя держал и обманывал вас, не в силах будучи с вами расстаться и любя вас, как моего ангельчика. Рачительно теперь принялся за службу и должность свою стал исправлять хорошо. Евстафий Иванович хоть бы слово сказал, когда я мимо их вчера проходил. Не скрою от вас. маточка, что убивают меня долги мои и худое положение моего гардероба, но это опять ничего, и об этом тоже, молю вас – не отчаивайтесь, маточка. Посылаете мне еще полтинничек, Варенька, и этот полтинничек мне мое сердце пронзил. Так так-то оно теперь стало, так вот оно как! то есть это не я, старый дурак, вам, ангельчику, помогаю, а вы, сироточка моя бедненькая, мне! Хорошо сделала Федора, что достала денег. Я покамест не имею надежд никаких, маточка, на получение, а если чуть возродятся какие-нибудь надежды, то отпишу вам обо всем подробно. Но сплетни, сплетни меня беспокоят более всего. Прощайте, мой ангельчик. Целую вашу ручку и умоляю вас выздоравливать. Пишу оттого не подробно, что в должность спешу, ибо старанием и рачением хочу загладить все вины мои в упущении по службе; дальнейшее же повествование о всех происшествиях и о приключении с офицерами откладываю до вечера. | —What am I to say to you, now that all is over, and we are gradually returning to our old position? You say that you are anxious as to what will be thought of me. Let me tell you that the dearest thing in life to me is my self-respect; wherefore, in informing you of my misfortunes and misconduct, I would add that none of my superiors know of my doings, nor ever will know of them, and that therefore, I still enjoy a measure of respect in that quarter. Only one thing do I fear—I fear gossip. Garrulous though my landlady be, she said but little when, with the aid of your ten roubles, I today paid her part of her account; and as for the rest of my companions, they do not matter at all. So long as I have not borrowed money from them, I need pay them no attention. To conclude my explanations, let me tell you that I value your respect for me above everything in the world, and have found it my greatest comfort during this temporary distress of mine. Thank God, the first shock of things has abated, now that you have agreed not to look upon me as faithless and an egotist simply because I have deceived you. I wish to hold you to myself, for the reason that I cannot bear to part with you, and love you as my guardian angel…. I have now returned to work, and am applying myself diligently to my duties. Also, yesterday Evstafi Ivanovitch exchanged a word or two with me. Yet I will not conceal from you the fact that my debts are crushing me down, and that my wardrobe is in a sorry state. At the same time, these things do not REALLY matter and I would bid you not despair about them. Send me, however, another half-rouble if you can (though that half-rouble will stab me to the heart—stab me with the thought that it is not I who am helping you, but YOU who are helping ME). Thedora has done well to get those fifteen roubles for you. At the moment, fool of an old man that I am, I have no hope of acquiring any more money; but as soon as ever I do so, I will write to you and let you know all about it. What chiefly worries me is the fear of gossip. Goodbye, little angel. I kiss your hands, and beseech you to regain your health. If this is not a detailed letter, the reason is that I must soon be starting for the office, in order that, by strict application to duty, I may make amends for the past. Further information concerning my doings (as well as concerning that affair with the officers) must be deferred until tonight. |
| Вас уважающий и вас сердечно любящий | —Your affectionate and respectful friend, |
| Макар Девушкин. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Июля 28. | July 28th. |
| Эх, Варенька, Варенька! Вот именно-то теперь грех на вашей стороне и на совести вашей останется. Письмецом-то своим вы меня с толку последнего сбили, озадачили, да уж только теперь, как я на досуге во внутренность сердца моего проник, так и увидел, что прав был, совершенно был прав. Я не про дебош мой говорю (ну его, маточка, ну его!), а про то, что я люблю вас и что вовсе не неблагоразумно мне было любить вас, вовсе не неблагоразумно. Вы, маточка, не знаете ничего; а вот если бы знали только, отчего это все, отчего это я должен вас любить, так вы бы не то сказали. Вы это все резонное-то только так говорите, а я уверен, что на сердце-то у вас вовсе не то. | DEAREST LITTLE BARBARA,—It is YOU who have committed a fault—and one which must weigh heavily upon your conscience. Indeed, your last letter has amazed and confounded me,—so much so that, on once more looking into the recesses of my heart, I perceive that I was perfectly right in what I did. Of course I am not now referring to my debauch (no, indeed!), but to the fact that I love you, and to the fact that it is unwise of me to love you—very unwise. You know not how matters stand, my darling. You know not why I am BOUND to love you. Otherwise you would not say all that you do. Yet I am persuaded that it is your head rather than your heart that is speaking. I am certain that your heart thinks very differently. |
| Маточка моя, я и сам-то не знаю и не помню хорошо всего, что было у меня с офицерами. Нужно вам заметить, ангельчик мой, что до того времени я был в смущении ужаснейшем. Вообразите себе, что уже целый месяц, так сказать, на одной ниточке крепился. Положение было пребедственное. От вас-то я скрывался, да и дома тоже, но хозяйка моя шуму и крику наделала. Оно бы мне и ничего. Пусть бы кричала баба негодная, да одно то, что срам, а второе то, что она, господь ее знает как, об нашей связи узнала и такое про нее на весь дом кричала, что я обомлел да и уши заткнул. Да дело-то в том, что другие своих ушей не затыкали, а, напротив, развесили их. Я и теперь, маточка, куда мне деваться, не знаю… | What occurred that night between myself and those officers I scarcely know, I scarcely remember. You must bear in mind that for some time past I have been in terrible distress—that for a whole month I have been, so to speak, hanging by a single thread. Indeed, my position has been most pitiable. Though I hid myself from you, my landlady was forever shouting and railing at me. This would not have mattered a jot—the horrible old woman might have shouted as much as she pleased—had it not been that, in the first place, there was the disgrace of it, and, in the second place, she had somehow learned of our connection, and kept proclaiming it to the household until I felt perfectly deafened, and had to stop my ears. The point, however, is that other people did not stop their ears, but, on the contrary, pricked them. Indeed, I am at a loss what to do. |
| И вот, ангельчик мой, все-то это, весь-то этот сброд всяческого бедствия и доконал меня окончательно. Вдруг странные вещи слышу я от Федоры, что в дом к вам явился недостойный искатель и оскорбил вас недостойным предложением; что он вас оскорбил, глубоко оскорбил, я по себе сужу, маточка, потому что и я сам глубоко оскорбился. Тут-то я, ангельчик вы мой, и свихнулся, тут-то я и потерялся и пропал совершенно. Я, друг вы мой, Варенька, выбежал в бешенстве каком-то неслыханном, я к нему хотел идти, греховоднику; я уж и не знал, что я делать хотел, потому что я не хочу, чтобы вас, ангельчика моего, обижали! Ну, грустно было! а на ту пору дождь, слякоть, тоска была страшная!.. Я было уж воротиться хотел… Тут-то я и пал, маточка. Я Емелю встретил, Емельяна Ильича. он чиновник, то есть был чиновник, а те перь уж не чиновник, потому что его от нас выключили. Он уж я и не знаю, что делает, как-то там мается; вот мы с ним и пошли. Тут -ну, да что вам, Варенька, ну, весело, что ли, про несчастия друга своего читать, бедствия его и историю искушений, им претерпенных? На третий день, вечером, уж это Емеля подбил меня, я и пошел к нему, к офицеру-то. Адрес-то я у нашего дворника спросил. Я, маточка, уж если к слову сказать пришлось, давно за этим молодцом примечал; следил его, когда еще он в доме у нас квартировал. Теперь-то я вижу, что я неприличие сделал, потому что я не в своем виде был, когда обо мне ему доложили. Я, Варенька, ничего, по правде, и не помню; помню только, что у него было очень много офицеров, или это двоилось у меня – бог знает. Я не помню также, что я говорил, только я знаю, что я много говорил в благородном негодовании моем. Ну, тут-то меня и выгнали, тут-то меня и с лестницы сбросили, то есть оно не то чтобы совсем сбросили, а только так вытолкали. Вы уж знаете, Варенька, как я воротился; вот оно и все. Конечно, я себя уронил и амбиция моя пострадала, но ведь этого никто не знает из посторонних-то, никто, кроме вас, не знает; ну, а в таком случае это все равно что как бы его и не было. Может быть, это и так, Варенька, как вы думаете? Что мне только достоверно известно, так это то, что прошлый год у нас Аксентий Осипович таким же образом дерзнул на личность Петра Петровича, но по секрету, он это сделал по секрету. Он его зазвал в сторожевскую комнату, я это все в щелочку видел; да уж там он как надобно было и распорядился, но благородным образом, потому что этого никто не видал, кроме меня; ну, а я ничего, то есть я хочу сказать, что я не объявлял никому. Ну, а после этого Петр Петрович и Аксентий Осипович ничего. Петр Петрович, знаете, амбиционный такой, так он и никому не сказал, так что они теперь и кланяются и руки жмут. Я не спорю, я, Варенька, с вами спорить не смею, я глубоко упал и, что всего ужаснее, в собственном мнении своем проиграл, но уж это, верно, мне так на роду было написано, уж это, верно, судьба, – а от судьбы не убежишь, сами знаете. Ну, вот и подробное объяснение несчастий моих и бедствий, Варенька, вот – все такое, что хоть бы и не читать, так в ту же пору. Я немного нездоров, маточка моя, и всей игривости чувств лишился. Посему теперь, свидетельствуя вам мою привязанность, любовь и уважение, пребываю, милостивая государыня моя, Варвара Алексеевна, | Really this wretched rabble has driven me to extremities. It all began with my hearing a strange rumour from Thedora—namely, that an unworthy suitor had been to visit you, and had insulted you with an improper proposal. That he had insulted you deeply I knew from my own feelings, for I felt insulted in an equal degree. Upon that, my angel, I went to pieces, and, losing all self-control, plunged headlong. Bursting into an unspeakable frenzy, I was at once going to call upon this villain of a seducer—though what to do next I knew not, seeing that I was fearful of giving you offence. Ah, what a night of sorrow it was, and what a time of gloom, rain, and sleet! Next, I was returning home, but found myself unable to stand upon my feet. Then Emelia Ilyitch happened to come by. He also is a tchinovnik—or rather, was a tchinovnik, since he was turned out of the service some time ago. What he was doing there at that moment I do not know; I only know that I went with him…. Surely it cannot give you pleasure to read of the misfortunes of your friend—of his sorrows, and of the temptations which he experienced?… On the evening of the third day Emelia urged me to go and see the officer of whom I have spoken, and whose address I had learned from our dvornik. More strictly speaking, I had noticed him when, on a previous occasion, he had come to play cards here, and I had followed him home. Of course I now see that I did wrong, but I felt beside myself when I heard them telling him stories about me. Exactly what happened next I cannot remember. I only remember that several other officers were present as well as he. Or it may be that I saw everything double—God alone knows. Also, I cannot exactly remember what I said. I only remember that in my fury I said a great deal. Then they turned me out of the room, and threw me down the staircase—pushed me down it, that is to say. How I got home you know. That is all. Of course, later I blamed myself, and my pride underwent a fall; but no extraneous person except yourself knows of the affair, and in any case it does not matter. Perhaps the affair is as you imagine it to have been, Barbara? One thing I know for certain, and that is that last year one of our lodgers, Aksenti Osipovitch, took a similar liberty with Peter Petrovitch, yet kept the fact secret, an absolute secret. He called him into his room (I happened to be looking through a crack in the partition-wall), and had an explanation with him in the way that a gentleman should—no one except myself being a witness of the scene; whereas, in my own case, I had no explanation at all. After the scene was over, nothing further transpired between Aksenti Osipovitch and Peter Petrovitch, for the reason that the latter was so desirous of getting on in life that he held his tongue. As a result, they bow and shake hands whenever they meet…. I will not dispute the fact that I have erred most grievously—that I should never dare to dispute, or that I have fallen greatly in my own estimation; but, I think I was fated from birth so to do—and one cannot escape fate, my beloved. Here, therefore, is a detailed explanation of my misfortunes and sorrows, written for you to read whenever you may find it convenient. I am far from well, beloved, and have lost all my gaiety of disposition, but I send you this letter as a token of my love, devotion, and respect, Oh dear lady of my affections. |
| покорнейшим слугою вашим | —Your humble servant, |
| Макаром Девушкиным. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Июля 29. | July 29th. |
| Милостивый государь, | MY DEAREST |
| Макар Алексеевич! | MAKAR ALEXIEVITCH, |
| Я прочла ваши оба письма, да так и ахнула! Послушайте, друг моч, вы или от меня умалчиваете что-нибудь и написали мне только часть всех неприятностей ваших, или… право, Макар Алексеевич, письма ваши еще отзываются каким-то расстройством… Приходите ко мне, ради бога, приходите сегодня; да послушайте, вы знаете, уж так прямо приходите к нам обедать. Я уж и не знаю, как вы там живете и как с хозяйкой вашей уладились. Вы об этом обо всем ничего не пишете и как будто с намереннем умалчиваете. Так до свидания, друг мой; заходите к нам непременно сегодня; да уж лучше бы вы сделали, если б и всегда приходили к нам обедать. Федора готовит очень хорошо. Прощайте. | —I have read your two letters, and they make my heart ache. See here, dear friend of mine. You pass over certain things in silence, and write about a PORTION only of your misfortunes. Can it be that the letters are the outcome of a mental disorder?… Come and see me, for God’s sake. Come today, direct from the office, and dine with us as you have done before. As to how you are living now, or as to what settlement you have made with your landlady, I know not, for you write nothing concerning those two points, and seem purposely to have left them unmentioned. Au revoir, my friend. Come to me today without fail. You would do better ALWAYS to dine here. Thedora is an excellent cook. Goodbye |
| Ваша | —Your own, |
| Варвара Доброселова. | BARBARA DOBROSELOVA. |
| Августа 1. | August 1st. |
| Матушка, Варвара Алексеевна! | MY DARLING BARBARA ALEXIEVNA, |
| Рады вы, маточка, что бог вам случай послал в свою очередь за добро добром отслужить и меня отблагодарить. Я этому верю, Варенька, и в доброту ангельского сердечка вашего верю, и не в укор вам говорю, – только не попрекайте меня, как тогда, что я на старости лет замотался. Ну, уж был грех такой, что ж делать! – если уж хотите непременно, чтобы тут грех какой был; только вот от вас-то, дружочек мой, слушать такое мне многого стоит! А вы на меня не сердитесь, что я это говорю; у меня в груди-то, маточка, все изныло. Бедные люди капризны,это уж так от природы устроено. Я это и прежде чувствовал, а теперь еще больше почувствовал. Он, бедный-то человек, он взыскателен; он и на свет-то божий иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит,да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому слову, – дескать, не про него ли там что говорят? Что вот, дескать, что же он такой неказистый? что бы он такое именно чувствовал? что вот, например, каков он будет с этого боку, каков будет с того боку? И ведомо каждому, Варенька, что бедный человек хуже ветошки и никакого ни от кого уважения получить не может, что уж там ни пиши! Они-то, пачкуны-то эти, что уж там ни пиши! – все будет в бедном человеке так, как и было. А отчего же так и будет по-прежнему? А оттого, что уж у бедного человека, по-ихнему, все наизнанку должно быть; что уж у него ничего не должно быть заветного,там амбиции какой-нибудь ни-ни-ни! Вон Емеля говорил намедни,что ему гдето подписку делали, так ему за каждый гривенник,в некотором роде, официальный осмотр делали.Они думали, что они даром свои гривенники ему дают – ан нет:они заплатили за то, что им бедного человека показывали.Нынче, маточка, и благодеяния-то как-то чудно делаются… а может быть, и всегда так делались, кто их знает! Ила не умеют они делать, или уж мастера большие – одно из двух. Вы, может быть, этого не знали, ну, так вот вам! В чем другом мы пас, а уж в этом известны! А почему бедный человек знает все это да думает все такое? А почему? – ну, по опыту! А оттого, например, что он знает, что есть под боком у него такой господин, что вот идет куда-нибудь к ресторану да говорит сам с собой: что вот, дескать, эта голь чиновник что будет есть сегодня? а я сотепапильйот буду есть, а он,может быть, кашу без масла есть будет. А какое ему дело, что я буду кашу без масла есть? Бывает такой человек, Варенька, бывает, что только об таком и думает. И они ходят, пасквилянты неприличные, да смотрят, что, дескать, всей ли ногой на камень ступаешь али носочком одним; что-де вот у такого-то чиновника, такого-то ведомства, титулярного советника, из сапога голые пальцы торчат, что вот у него локти продраны – и потом там себе это все и описывают и дрянь такую печатают… А какое тебе дело, что у меня локти продраны? Да уж если вы мне простите, Варенька, грубое слово, так я вам скажу, что у бедного человека на этот счет тот же самый стыд, как и у вас, примером сказать, девический. Ведь вы перед всеми – грубое-то словцо мое простите – разоблачаться не станете; вот так точно и бедный человек не любит, чтобы в его конуру заглядывали, что, дескать, каковы-то там его отношения будут семейные, – вот. А то что было тогда обижать меня, Варенька, купно со врагами моими, на честь и амбицию честного человека посягающими! | —Thank God that He has sent you a chance of repaying my good with good. I believe in so doing, as well as in the sweetness of your angelic heart. Therefore, I will not reproach you. Only I pray you, do not again blame me because in the decline of my life I have played the spendthrift. It was such a sin, was it not?—such a thing to do? And even if you would still have it that the sin was there, remember, little friend, what it costs me to hear such words fall from your lips. Do not be vexed with me for saying this, for my heart is fainting. Poor people are subject to fancies—this is a provision of nature. I myself have had reason to know this. The poor man is exacting. He cannot see God’s world as it is, but eyes each passer-by askance, and looks around him uneasily in order that he may listen to every word that is being uttered. May not people be talking of him? How is it that he is so unsightly? What is he feeling at all? What sort of figure is he cutting on the one side or on the other? It is matter of common knowledge, my Barbara, that the poor man ranks lower than a rag, and will never earn the respect of any one. Yes, write about him as you like—let scribblers say what they choose about him—he will ever remain as he was. And why is this? It is because, from his very nature, the poor man has to wear his feelings on his sleeve, so that nothing about him is sacred, and as for his self-respect—! Well, Emelia told me the other day that once, when he had to collect subscriptions, official sanction was demanded for every single coin, since people thought that it would be no use paying their money to a poor man. Nowadays charity is strangely administered. Perhaps it has always been so. Either folk do not know how to administer it, or they are adept in the art—one of the two. Perhaps you did not know this, so I beg to tell it you. And how comes it that the poor man knows, is so conscious of it all? The answer is—by experience. He knows because any day he may see a gentleman enter a restaurant and ask himself, “What shall I have to eat today? I will have such and such a dish,” while all the time the poor man will have nothing to eat that day but gruel. There are men, too—wretched busybodies—who walk about merely to see if they can find some wretched tchinovnik or broken-down official who has got toes projecting from his boots or his hair uncut! And when they have found such a one they make a report of the circumstance, and their rubbish gets entered on the file…. But what does it matter to you if my hair lacks the shears? If you will forgive me what may seem to you a piece of rudeness, I declare that the poor man is ashamed of such things with the sensitiveness of a young girl. YOU, for instance, would not care (pray pardon my bluntness) to unrobe yourself before the public eye; and in the same way, the poor man does not like to be pried at or questioned concerning his family relations, and so forth. A man of honour and self-respect such as I am finds it painful and grievous to have to consort with men who would deprive him of both. |
| Да и в присутствии-то я сегодня сидел таким медвежонком, таким воробьем ощипанным, что чуть сам за себя со стыда не сгорел. Стыдненько мне было, Варенька! Да уж натурально робеешь, когда сквозь одежду голые локти светятся да пуговки на ниточках мотаются.А у меня, как нарочно, все это было в таком беспорядке! Поневоле упадаешь духом. Чего!.. сам Степан Карлович сегодня начал было по делу со мной говорить, говорил-говорил, да как будто невзначай и прибавил: “Эх вы, батюшка Макар Алексеевич!” – да и не договорил остальногото, об чем он думал, а только я уж сам обо всем догадался да так покраснел, что даже лысина моя покраснела. Оно в сущности-то и ничего, да все-таки беспокойно, на размышления наводит тяжкие. Уж не проведали ли чего они! А боже сохрани, ну, как об чем-нибудь проведали! Я, признаюсь, подозреваю, сильно подозреваю одного человечка. Ведь этим злодеям нипочем! выдадут! всю частную твою жизнь ни за грош выдадут; святого ничего не имеется. | Today I sat before my colleagues like a bear’s cub or a plucked sparrow, so that I fairly burned with shame. Yes, it hurt me terribly, Barbara. Naturally one blushes when one can see one’s naked toes projecting through one’s boots, and one’s buttons hanging by a single thread! As though on purpose, I seemed, on this occasion, to be peculiarly dishevelled. No wonder that my spirits fell. When I was talking on business matters to Stepan Karlovitch, he suddenly exclaimed, for no apparent reason, “Ah, poor old Makar Alexievitch!” and then left the rest unfinished. But I knew what he had in his mind, and blushed so hotly that even the bald patch on my head grew red. Of course the whole thing is nothing, but it worries me, and leads to anxious thoughts. What can these fellows know about me? God send that they know nothing! But I confess that I suspect, I strongly suspect, one of my colleagues. Let them only betray me! They would betray one’s private life for a groat, for they hold nothing sacred. |
| Я знаю теперь, чья это штука: это Ратазяева штука. Он с кем-то знаком в нашем ведомстве, да, верно, так, между разговором, и передал ему все с прибавлениями; или, пожалуй, рассказал в своем ведомстве, а оно выползло в наше ведомство. А в квартире у нас все все до последнего знают и к вам в окно пальцем показывают; это уж я знаю, что показывают. А как я вчера к вам обедать 71 пошел, то все они из окон повысовывались, а хозяйка сказала, что вот, дескать, черт с младенцем связались, да и вас она назвала потом неприлично. Но все же это ничего перед гнусным намерением Ратазяева нас с вами в литературу свою поместить и в тонкой сатире нас описать; он это сам говорил, а мне добрые люди из наших пересказали. Я уж и думать ни о чем не могу, маточка, и решиться не знаю на что. Нечего греха таить, прогневили мы господа бога, ангельчик мой! Вы, маточка, мне книжку какуюто хотели, ради скуки, прислать. А ну ее,книжку,маточка! Что она, книжка? Она небылица в лицах! И роман вздор, и для вздора написан, так, праздным людям читать: поверьте мне, маточка, опытности моей многолетней поверьте. И что там, если они вас заговорят Шекспиром каким-нибудь, что, дескать, видишь ли, в литературе Шекспир есть, – так и Шекспир вздор, все это сущий вздор, и все для одного пасквиля сделано! | I have an idea who is at the bottom of it all. It is Rataziaev. Probably he knows someone in our department to whom he has recounted the story with additions. Or perhaps he has spread it abroad in his own department, and thence, it has crept and crawled into ours. Everyone here knows it, down to the last detail, for I have seen them point at you with their fingers through the window. Oh yes, I have seen them do it. Yesterday, when I stepped across to dine with you, the whole crew were hanging out of the window to watch me, and the landlady exclaimed that the devil was in young people, and called you certain unbecoming names. But this is as nothing compared with Rataziaev’s foul intention to place us in his books, and to describe us in a satire. He himself has declared that he is going to do so, and other people say the same. In fact, I know not what to think, nor what to decide. It is no use concealing the fact that you and I have sinned against the Lord God…. You were going to send me a book of some sort, to divert my mind—were you not, dearest? What book, though, could now divert me? Only such books as have never existed on earth. Novels are rubbish, and written for fools and for the idle. Believe me, dearest, I know it through long experience. Even should they vaunt Shakespeare to you, I tell you that Shakespeare is rubbish, and proper only for lampoons |
| Ваш | —Your own, |
| Макар Девушкин. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Августа 2. | August 2nd. |
| Милостивый государь, Макар Алексеевич! | MY DEAREST MAKAR ALEXIEVITCH, |
| Не беспокойтесь ни об чем; даст господь бог, все уладится. Федора достала и себе и мне кучу работы, и мы превесело принялись за дело; может быть, и все поправим. Подозревает она, что все мои последние неприятности не чужды Анны Федоровны; но теперь мне все равно. Мне сегодня как-то необыкновенно весело.Вы хотите занимать деньги, – сохрани вас господи! после не оберетесь беды, когда отдавать будет нужно. Лучше живите-ка с нами покороче, приходите к нам почаще и не обращайте внимания на вашу хозяйку. Что же касается до остальных врагов и недоброжелателей ваших, то я уверена, что вы мучаетесь напрасными сомнениями, Макар Алексеевич! Смотрите, ведь я вам говорила прошедший раз, что у вас слог чрезвычайно неровный. Ну, прощайте, до свидания. Жду вас непременно к себе. | —Do not disquiet yourself. God will grant that all shall turn out well. Thedora has obtained a quantity of work, both for me and herself, and we are setting about it with a will. Perhaps it will put us straight again. Thedora suspects my late misfortunes to be connected with Anna Thedorovna; but I do not care—I feel extraordinarily cheerful today. So you are thinking of borrowing more money? If so, may God preserve you, for you will assuredly be ruined when the time comes for repayment! You had far better come and live with us here for a little while. Yes, come and take up your abode here, and pay no attention whatever to what your landlady says. As for the rest of your enemies and ill-wishers, I am certain that it is with vain imaginings that you are vexing yourself…. In passing, let me tell you that your style differs greatly from letter to letter. Goodbye until we meet again. I await your coming with impatience |
| Ваша | —Your own, |
| В. Д. | B. D. |
| Августа 3. | August 3rd. |
| Ангельчик мой, Варвара Алексеевна! | MY ANGEL, BARBARA ALEXIEVNA, |
| Спешу вам сообщить, жизненочек вы мой, что у меня надежды родились кое-какие. Да позвольте, дочечка вы моя, – пишете, ангельчик, чтоб мне займов не делать? Голубчик вы мой, невозможно без них; уж и мне-то худо, да и с вами-то, чего доброго, что-нибудь вдруг да не так! ведь вы слабенькие; так вот я к тому и пишу, что заняться непременно нужно. Ну, так я и продолжаю. | —I hasten to inform you, Oh light of my life, that my hopes are rising again. But, little daughter of mine—do you really mean it when you say that I am to indulge in no more borrowings? Why, I could not do without them. Things would go badly with us both if I did so. You are ailing. Consequently, I tell you roundly that I MUST borrow, and that I must continue to do so. |
| Замечу вам, Варвара Алексеевна, что в присутствии я сижу рядом с Емельяном Ивановичем. Это не с тем Емельяном, которого вы знаете. Этот, так же как и я, титулярный советник, и мы с ним во всем нашем ведомстве чуть ли не самые старые, коренные служивые. Он добрая душа, бескорыстная душа, да неразговорчивый такой и всегда настоящим медведем смотрит. Зато деловой, перо у него – чистый английский почерк,и если уж всю правду сказать, то не хуже меня пишет, – достойный человек! Коротко мы с ним никогда не сходились, а так только, по обычаю, прощайте да здравствуйте; да если подчас мне ножичек надобился,то, случалось, попрошу – дескать, дайте, Емельян Иванович, ножичка, одним словом, было только то, что общежитием требуется. Вот он и говорит мне сегодня: Макар Алексеевич, что, дескать, вы так призадумались? Я вижу, что добра желает мне человек, да и открылся ему – дескать, так и так, Емельян Иванович, то есть всего не сказал, да и, боже сохрани, никогда не скажу, потому что сказать-то нет духу, а так кое в чем открылся ему, что вот, дескать, стеснен и тому подобное. “А вы бы, батюшка, – говорит Емельян Иванович,вы бы заняли; вот хоть бы у Петра Петровича заняли, он дает на проценты; я занимал; и процент берет пристойный – неотягчительный”. Ну, Варенька, вспрыгнуло у меня сердечко.Думаю-думаю,авось господь ему на душу положит, Петру Петровичу благодетелю, да и даст он мне взаймы. Сам уж и рассчитываю, что вот бы де и хозяйке-то заплатил, и вам бы помог, да и сам бы кругом обчинился, а то такой срам: жутко даже на месте сидеть, кроме того, что вот зубоскалы-то наши смеются, бог с ними! Да и его-то превосходительство мимо нашего стола иногда проходят; ну, сохрани боже, бросят взор на меня да приметят, что я одет неприлично! А у них главное – чистота и опрятность. Они-то, пожалуй, и ничего не скажут, да я-то от стыда умру, – вот как это будет. Вследствие чего я, скрепившись и спрятав свой стыд в дырявый карман, направился к Петру Петровичу и надежды-то полн и ни жив ни мертв от ожидания – все вместе. Ну, что же, Варенька, ведь все вздором и кончилось! Он что-то был занят, говорил с Федосеем Ивановичем. Я к нему подошел сбоку, да и дернул его за рукав: дескать, Петр Петрович, а Петр Петрович! Он оглянулся, а я продолжаю: что, дескать, вот так и так, рублей тридцать и т. д. Он сначала было не понял меня, а потом, когда я ооъяснил ему все, так он и засмеялся, да и ничего, замолчал. Я опять к нему с тем же. А он мне – заклад у вас есть? А сам уткнулся в свою бумагу, пишет и на меня не глядит. Я немного оторопел. Нет, говорю, Петр Петрович, заклада нет, да и объясняю ему – что вот, дескать, как будет жалованье, так я и отдам, непременно отдам, первым долгом почту. Тут его кто-то позвал, я подождал его, он воротился, да и стал перо чинить, а меня как будто не замечает. А я все про свое – что, дескать, Петр Петрович, нельзя ли как-нибудь? Он молчит и как будто не слышит, я постоял-постоял, ну, думаю, попробую в последний раз, да и дернул его за рукав Он хоть бы что-нибудь вымолвил, очинил перо, да и стал писать; я и отошел. Они, маточка, видите ли, может быть, и достойные люди все, да гордые, очень гор дые. – что мне! Куда нам до них, Варенька! Я к тому вам и писал все это. Емельян Иванович тоже засмеялся да головой покачал, зато обнадежил меня, сердечный. Емельян Иванович достойный человек. Обещал он меня рекомендовать одному человеку; человек-то этот, Варенька, на Выборгской живет, тоже дает на проценты, 14-го класса какой-то. Емельян Иванович говорит, что этот уже непременно даст; я завтра, ангельчик мой, пойду, – а? Как вы думаете? Ведь беда не занять! Хозяйка меня чуть с квартиры не гонит и обедать мне давать не соглашается. Да и сапоги-то у меня больно худы, маточка, да и пуговок нет… да того ли еще нет у меня! а ну как из начальства-то кто-нибудь заметит подобное неприличие? Беда, Варенька, беда, просто | Also, I may tell you that my seat in the office is now next to that of a certain Emelia Ivanovitch. He is not the Emelia whom you know, but a man who, like myself, is a privy councillor, as well as represents, with myself, the senior and oldest official in our department. Likewise he is a good, disinterested soul, and one that is not over-talkative, though a true bear in appearance and demeanour. Industrious, and possessed of a handwriting purely English, his caligraphy is, it must be confessed, even worse than my own. Yes, he is a good soul. At the same time, we have never been intimate with one another. We have done no more than exchange greetings on meeting or parting, borrow one another’s penknife if we needed one, and, in short, observe such bare civilities as convention demands. Well, today he said to me, “Makar Alexievitch, what makes you look so thoughtful?” and inasmuch as I could see that he wished me well, I told him all—or, rather, I did not tell him EVERYTHING, for that I do to no man (I have not the heart to do it); I told him just a few scattered details concerning my financial straits. “Then you ought to borrow,” said he. “You ought to obtain a loan of Peter Petrovitch, who does a little in that way. I myself once borrowed some money of him, and he charged me fair and light interest.” Well, Barbara, my heart leapt within me at these words. I kept thinking and thinking,—if only God would put it into the mind of Peter Petrovitch to be my benefactor by advancing me a loan! I calculated that with its aid I might both repay my landlady and assist yourself and get rid of my surroundings (where I can hardly sit down to table without the rascals making jokes about me). Sometimes his Excellency passes our desk in the office. He glances at me, and cannot but perceive how poorly I am dressed. Now, neatness and cleanliness are two of his strongest points. Even though he says nothing, I feel ready to die with shame when he approaches. Well, hardening my heart, and putting my diffidence into my ragged pocket, I approached Peter Petrovitch, and halted before him more dead than alive. Yet I was hopeful, and though, as it turned out, he was busily engaged in talking to Thedosei Ivanovitch, I walked up to him from behind, and plucked at his sleeve. He looked away from me, but I recited my speech about thirty roubles, et cetera, et cetera, of which, at first, he failed to catch the meaning. Even when I had explained matters to him more fully, he only burst out laughing, and said nothing. Again I addressed to him my request; whereupon, asking me what security I could give, he again buried himself in his papers, and went on writing without deigning me even a second glance. Dismay seized me. “Peter Petrovitch,” I said, “I can offer you no security,” but to this I added an explanation that some salary would, in time, be due to me, which I would make over to him, and account the loan my first debt. At that moment someone called him away, and I had to wait a little. On returning, he began to mend his pen as though he had not even noticed that I was there. But I was for myself this time. “Peter Petrovitch,” I continued, “can you not do ANYTHING?” Still he maintained silence, and seemed not to have heard me. I waited and waited. At length I determined to make a final attempt, and plucked him by the sleeve. He muttered something, and, his pen mended, set about his writing. There was nothing for me to do but to depart. He and the rest of them are worthy fellows, dearest—that I do not doubt—but they are also proud, very proud. What have I to do with them? Yet I thought I would write and tell you all about it. Meanwhile Emelia Ivanovitch had been encouraging me with nods and smiles. He is a good soul, and has promised to recommend me to a friend of his who lives in Viborskaia Street and lends money. Emelia declares that this friend will certainly lend me a little; so tomorrow, beloved, I am going to call upon the gentleman in question…. What do you think about it? It would be a pity not to obtain a loan. My landlady is on the point of turning me out of doors, and has refused to allow me any more board. Also, my boots are wearing through, and have lost every button—and I do not possess another pair! Could anyone in a government office display greater shabbiness? It is dreadful, my Barbara—it is simply dreadful! |
| Макар Девушкин. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Августа 4. | August 4th. |
| Любезный Макар Алексеевич! | MY BELOVED MAKAR ALEXIEVITCH, |
| Ради бога, Макар Алексеевич, как только можно скорее займите сколько-нибудь денег; я бы ни за что не попросила у вас помощи в теперешних обстоятельствах, но если бы вы знали, каково мое положение! В этой квартире нам никак нельзя оставаться. У меня случились ужаснейшие неприятности, и если бы вы знали, в каком я теперь расстройстве и волнении! Вообразите, друг мой: сегодня утром входит к нам человек незнакомый, пожилых лет, почти старик, с орденами. Я изумилась, не понимая, чего ему нужно у нас? Федора вышла в это время в лавочку. Он стал меня расспрашивать, как я живу и что делаю, и не дождавшись ответа, объявил мне, что он дядя того офицера; что он очень сердит на племянника за его дурное поведение и за то, что он ославил нас на весь дом; сказал, что племянник его мальчишка и ветрогон и что он готов взять меня под свою защиту; не советовал мне слушать молодых людей, прибавил, что он соболезнует обо мне, как отец, что он питает ко мне отеческие чувства и готов мне во всем помогать. Я вся краснела, не знала что и подумать, но не спешила благодарить. Он взял меня насильно за руку, потрепал меня по щеке, сказал, что я прехорошенькая и что он чрезвычайно доволен тем, что у меня есть на щеках ямочки (бог знает, что он говорил!), и, наконед, хотел меня поцеловать, говоря, что он уже старик (он был такой гадкий!). Тут вошла Федора. Он немного смутился и опять заговорил, что чувствует ко мне уважение за мою скромность и благонравие и что очень желает, чтобы я его не чуждалась. Потом отозвал в сторону Федору и под каким-то странным предлогом хотел дать ей сколько-то денег. Федора, разумеется, не взяла. Наконец он собрался домой, повторил еще раз все свои уверения, сказал, что еще раз ко мне приедет и привезет мне сережки (кажется, он сам был очень смущен); советовал мне переменить квартиру и рекомендовал мне одну прекрасную квартиру, которая у него на примете и которая мне ничего не будет стоить; сказал, что он очень полюбил меня, затем что я честная и благоразумная девушка, советовал остерегаться развратной молодежи и, наконец, объявил, что знает Анну Федоровну и что Анна Федоровна поручила ему сказать мне, что она сама навестит меня. Тут я все поняла. Я не знаю, что со мною сталось; в первый раз в жизни я испытывала такое положение; я из себя вышла; я застыдила его совсем. Федора помогла мне и почти выгнала его из квартиры. Мы решили,что это все дело Анны Федоровны: иначе с какой стороны ему знать о нас? | —For God’s sake borrow some money as soon as you can. I would not ask this help of you were it not for the situation in which I am placed. Thedora and myself cannot remain any longer in our present lodgings, for we have been subjected to great unpleasantness, and you cannot imagine my state of agitation and dismay. The reason is that this morning we received a visit from an elderly—almost an old—man whose breast was studded with orders. Greatly surprised, I asked him what he wanted (for at the moment Thedora had gone out shopping); whereupon he began to question me as to my mode of life and occupation, and then, without waiting for an answer, informed me that he was uncle to the officer of whom you have spoken; that he was very angry with his nephew for the way in which the latter had behaved, especially with regard to his slandering of me right and left; and that he, the uncle, was ready to protect me from the young spendthrift’s insolence. Also, he advised me to have nothing to say to young fellows of that stamp, and added that he sympathised with me as though he were my own father, and would gladly help me in any way he could. At this I blushed in some confusion, but did not greatly hasten to thank him. Next, he took me forcibly by the hand, and, tapping my cheek, said that I was very good-looking, and that he greatly liked the dimples in my face (God only knows what he meant!). Finally he tried to kiss me, on the plea that he was an old man, the brute! At this moment Thedora returned; whereupon, in some confusion, he repeated that he felt a great respect for my modesty and virtue, and that he much wished to become acquainted with me; after which he took Thedora aside, and tried, on some pretext or another, to give her money (though of course she declined it). At last he took himself off—again reiterating his assurances, and saying that he intended to return with some earrings as a present; that he advised me to change my lodgings; and, that he could recommend me a splendid flat which he had in his mind’s eye as likely to cost me nothing. Yes, he also declared that he greatly liked me for my purity and good sense; that I must beware of dissolute young men; and that he knew Anna Thedorovna, who had charged him to inform me that she would shortly be visiting me in person. Upon that, I understood all. What I did next I scarcely know, for I had never before found myself in such a position; but I believe that I broke all restraints, and made the old man feel thoroughly ashamed of himself—Thedora helping me in the task, and well-nigh turning him neck and crop out of the tenement. Neither of us doubt that this is Anna Thedorovna’s work—for how otherwise could the old man have got to know about us? |
| Теперь я к вам обращаюсь, Макар Алексеевич, и молю вас о помощи. Не оставляйте меня, ради бога, в таком положении! Займите, пожалуйста, хоть сколько-нибудь достаньте денег, нам не на что съехать с квартиры, а оставаться здесь никак нельзя более: так и Федора советует. Нам нужно но крайней мере рублей двадцать пять; я вам этй деньги отдам; я их заработаю; Федора мне на днях еще работы достанет, так что еслц вас будут останавливать большие проценты, то вы не смотрите на них и согласитесь на все. Я вам все отдам, только, ради бога, не оставьте меня помощию. Мне многого стоит беспокоить вас теперь, когда вы в таких обстоятельствах, но на вас одного вся надежда моя! Прощайте, Макар Алексеевич, подумайте обо мне, и дай вам бог успеха! | Now, therefore, Makar Alexievitch, I turn to you for help. Do not, for God’s sake, leave me in this plight. Borrow all the money that you can get, for I have not the wherewithal to leave these lodgings, yet cannot possibly remain in them any longer. At all events, this is Thedora’s advice. She and I need at least twenty-five roubles, which I will repay you out of what I earn by my work, while Thedora shall get me additional work from day to day, so that, if there be heavy interest to pay on the loan, you shall not be troubled with the extra burden. Nay, I will make over to you all that I possess if only you will continue to help me. Truly, I grieve to have to trouble you when you yourself are so hardly situated, but my hopes rest upon you, and upon you alone. Goodbye, Makar Alexievitch. Think of me, and may God speed you on your errand! |
| В. Д. | B.D. |
| Ангуста 4. | August 4th. |
| Голубчик мой, Варвара Алексеевна! | MY BELOVED BARBARA ALEXIEVNA, |
| Вот эти-то все удары неожиданные и потрясают меня! Вот такие-то бедствия страшные и убивают дух мой! Кроме того, что сброд этих лизоблюдников разных и старикашек негодных вас, моего ангельчика, на болезненный одр свести хочет. кроме этого в:его – они и меня, лизоблюды-то эти, извести хотят. И изведут, клятву кладу, что изведут! Ведь вот и теперь скорее умереть готов, чем вам не помочь! Не помоги я вам, так уж тут смерть моя, Варенька, тут уж чистая, настоящая смерть, а помоги, так вы тогда у меня улетите, как пташка из гнездышка, которую совы-то эти, хищные птицы заклевать собрались. Вот это-то мена и мучает, маточка. Да и выто, Варенька, вы-то какие жестокие! Как же вы это? Вас мучают, вас обижают, вы, птенчик мой, страдаете, да еще горюете, что меня беспокоить нужно, да еще обещаетесь долг заработать, то есть, но правде сказать, убивать:я будете с вашим здоровьем слабеньким, чтоб меня к сроку выручить. Да ведь вы, Варенька, только подумайте, о чем вы толкуете! Да зачем же вам шить, зачем же работать, головку свою бедную заботою мучить, ваши глазки хорошенькие портить и здоровье свое убивать? Ах, Варенька, Варенька, видите ли, голубчик мой, я никуда не гожусь, и сам знаю, что никуда не гожусъ, но я сделаю так, что буду годиться! Я все превозмогу, я сам работы посторонней достану, переписывать буду разные бумаги разным литераторам, пойду к ним, сам пойду, навяжусь на работу; потому что ведь они, маточка, ищут хороших писцов, я это знаю, что ищут, я вам себя изнурять не дам; пагубного такого намерения не дам вам исполнить.Я,ангельчик мой, непременно займу, и скорее умру, чем не займу. И пишете, голубушка вы моя, чтобы я проценту не испугался большого,и не испугаюсь, маточка, не испугаюсь, ничего теперь не испугаюсь. Я, маточка, попрошу сорок рублей ассигнациями; ведь не много, Варенька, как вы думаете? Можно ли сорок-то рублей мне с первого слова поверить? то есть, я хочу сказать, считаете ли вы меня способным внушить с первого взгляда вероятие и доверенность? По физиономии-то, по первому взгляду, можно ли судить обо мне благоприятным образом? Вы припомните, ангельчик, способен ли я ко внушению-то? Как вы там от себя полагаете? Знаете ли, страх такой чувствуется, – болезненно, истинно сказать болезненно! Из сорока рублей двадцать пять отлагаю на вас, Варенька; два целковых хозяйке, а остальное назначено для собственной траты. Видите ли, хозяйке-то следовало бы дать и побольше, даже необходимо; но вы сообразите все дело, маточка, перечтите-ка все мои нужды, так и увидите, что уж никак нельзя более дать, следовательно, нечего и говорить об этом, да и упоминать не нужно. На рубль серебром куплю сапоги; я уж и не знаю, способен ли я буду в старых-то завтра в должность явиться. Платочек шейный тоже был бы необходим, ибо старому скоро год минет; но так как вы мне из старого фартучка вашего не только платок, но и манишку выкроить обещались, то я о платке и думать больше не буду. Так вот, сапоги и платок есть. Теперь пуговки,дружок мой! Ведь вы согласитесь,крошечка моя,что мне без пуговок быть нельзя:. а у меня чуть ли не половина борта обсыпалась! Я трепещу, когда подумаю, что его превосходительство могут такой беспорядок заметить да скажут – да что скажут! Я, маточка, и не услышу, что скажут: ибо умру, умру, на месте умру, так-таки возьму да и умру от стыда, от мысли одной! Ох, маточка! Да вот еще останется от всех необходимостей трехрублевик; да вот это на жизнь и на полфунтика табачку; потому что, ангельчик мой, я без табаку-то жить не могу, а уж вот девятый день трубки в рот не брал. Я бы, по совести говоря, купил бы, да и вам ничего не сказал, да совестно. Вот у вас там беда, вы последнего лишаетесь, а я здесь разными удовольствиями наслаждаюсь; так вот для того и говорю вам все это, чтобы угрызения совести не мучили. Я вам откровенно признаюсь, Варенька, я теперь в крайне бедственном положении, то есть решительно ничего подобного никогда со мной не бывало. Хозяйка презирает меня, уважения ни от кого нет никакого; недостатки страшнейшие, долги; а в должности, где от своего брата чиновника и прежде мне не было масленицы,теперь, маточка, и говорить нечего. Я скрываю, я тщательно от всех все скрываю, и сам скрываюсь, и в должность-то вхожу когда, так бочком-бочком, сторонюсь от всех. Ведь это вам только признаться достает у меня силы душевной… А ну, как не даст! Ну, нет, лучше, Варенька, и не думать об этом и такими мыслями заранее не убивать души своей.К тому и пишу это, чтобы предостеречь вас, чтобы сами вы об этом не думали и мы: лию злою не мучились. Ах, боже мой, что это с вами-то будет тогда! Оно правда и то,что вы тогда с этой квартиры не съедете, и я буду с вами, – да нет, уж я и не ворочусь тогда, я просто сгину куда-нибудь, пропаду. Вот я вам здесь расписался, а побрнться бы нужно, оно все благообразнее, а благообразие всегда умеет найти. Ну, дай-то господи! Помолюсь, да и в путь! | —These unlooked-for blows have shaken me terribly, and these strange calamities have quite broken my spirit. Not content with trying to bring you to a bed of sickness, these lickspittles and pestilent old men are trying to bring me to the same. And I assure you that they are succeeding—I assure you that they are. Yet I would rather die than not help you. If I cannot help you I SHALL die; but, to enable me to help you, you must flee like a bird out of the nest where these owls, these birds of prey, are seeking to peck you to death. How distressed I feel, my dearest! Yet how cruel you yourself are! Although you are enduring pain and insult, although you, little nestling, are in agony of spirit, you actually tell me that it grieves you to disturb me, and that you will work off your debt to me with the labour of your own hands! In other words, you, with your weak health, are proposing to kill yourself in order to relieve me to term of my financial embarrassments! Stop a moment, and think what you are saying. WHY should you sew, and work, and torture your poor head with anxiety, and spoil your beautiful eyes, and ruin your health? Why, indeed? Ah, little Barbara, little Barbara! Do you not see that I shall never be any good to you, never any good to you? At all events, I myself see it. Yet I WILL help you in your distress. I WILL overcome every difficulty, I WILL get extra work to do, I WILL copy out manuscripts for authors, I WILL go to the latter and force them to employ me, I WILL so apply myself to the work that they shall see that I am a good copyist (and good copyists, I know, are always in demand). Thus there will be no need for you to exhaust your strength, nor will I allow you to do so—I will not have you carry out your disastrous intention… Yes, little angel, I will certainly borrow some money. I would rather die than not do so. Merely tell me, my own darling, that I am not to shrink from heavy interest, and I will not shrink from it, I will not shrink from it—nay, I will shrink from nothing. I will ask for forty roubles, to begin with. That will not be much, will it, little Barbara? Yet will any one trust me even with that sum at the first asking? Do you think that I am capable of inspiring confidence at the first glance? Would the mere sight of my face lead any one to form of me a favourable opinion? Have I ever been able, remember you, to appear to anyone in a favourable light? What think you? Personally, I see difficulties in the way, and feel sick at heart at the mere prospect. However, of those forty roubles I mean to set aside twenty-five for yourself, two for my landlady, and the remainder for my own spending. Of course, I ought to give more than two to my landlady, but you must remember my necessities, and see for yourself that that is the most that can be assigned to her. We need say no more about it. For one rouble I shall buy me a new pair of shoes, for I scarcely know whether my old ones will take me to the office tomorrow morning. Also, a new neck-scarf is indispensable, seeing that the old one has now passed its first year; but, since you have promised to make of your old apron not only a scarf, but also a shirt-front, I need think no more of the article in question. So much for shoes and scarves. Next, for buttons. You yourself will agree that I cannot do without buttons; nor is there on my garments a single hem unfrayed. I tremble when I think that some day his Excellency may perceive my untidiness, and say—well, what will he NOT say? Yet I shall never hear what he says, for I shall have expired where I sit—expired of mere shame at the thought of having been thus exposed. Ah, dearest!… Well, my various necessities will have left me three roubles to go on with. Part of this sum I shall expend upon a half-pound of tobacco—for I cannot live without tobacco, and it is nine days since I last put a pipe into my mouth. To tell the truth, I shall buy the tobacco without acquainting you with the fact, although I ought not so to do. The pity of it all is that, while you are depriving yourself of everything, I keep solacing myself with various amenities—which is why I am telling you this, that the pangs of conscience may not torment me. Frankly, I confess that I am in desperate straits—in such straits as I have never yet known. My landlady flouts me, and I enjoy the respect of no one; my arrears and debts are terrible; and in the office, though never have I found the place exactly a paradise, no one has a single word to say to me. Yet I hide, I carefully hide, this from every one. I would hide my person in the same way, were it not that daily I have to attend the office where I have to be constantly on my guard against my fellows. Nevertheless, merely to be able to CONFESS this to you renews my spiritual strength. We must not think of these things, Barbara, lest the thought of them break our courage. I write them down merely to warn you NOT to think of them, nor to torture yourself with bitter imaginings. Yet, my God, what is to become of us? Stay where you are until I can come to you; after which I shall not return hither, but simply disappear. Now I have finished my letter, and must go and shave myself, inasmuch as, when that is done, one always feels more decent, as well as consorts more easily with decency. God speed me! One prayer to Him, and I must be off. |
| М. Девушкин. | M. DIEVUSHKIN. |
| Августа 5. | August 5th. |
| Любезнейший Макар Алексеевич! | DEAREST MAKAR ALEXIEVITCH, |
| Уж хоть вы-то бы не отчаивались! И так горя довольно. Посылаю вам тридцать копеек серебром; больше никак не могу. Купите себе там, что вам более нужно, чтобы хоть до завтра прожить как-нибудь.У нас у самих почти ничего не осталось, а завтра уж и не знаю, что будег. Грустно, Макар Алексеевич! Впрочем, не грустите; не удалось, так что ж делать! Федора говорит, что еще не беда, что можно до времени и на этой квартире остаться, что если бы и переехали, так все бы немного выгадали, и что если захотят, так везде нас найдут. Да только все как-то нехорошо здесь оставаться теперь. Если бы не грустно было, я бы вам кое-что написала. | —You must not despair. Away with melancholy! I am sending you thirty kopecks in silver, and regret that I cannot send you more. Buy yourself what you most need until tomorrow. I myself have almost nothing left, and what I am going to do I know not. Is it not dreadful, Makar Alexievitch? Yet do not be downcast—it is no good being that. Thedora declares that it would not be a bad thing if we were to remain in this tenement, since if we left it suspicions would arise, and our enemies might take it into their heads to look for us. On the other hand, I do not think it would be well for us to remain here. If I were feeling less sad I would tell you my reason. |
| Какой у вас странный характер, Макар Алексеевич! Вы уж слишком сильно все принимаете к сердцу; от этого вы всегда будете несчастнейшим человеком. Я внимательно читаю все ваши письма и вижу, что в каждом письме вы обо мне так мучаетесь и заботитесь, как никогда о себе не заботились. Все, конечно, скажут, что у вас доброе сердце,но я скажу,что оно уж слишком доброе. Я вам даю дружеский совет,Макар Алексеевич. Я вам благодарна,очень благодарна за все,что вы для меня сделали,я все это очень чувствую;так судите же,каково мне видеть, что вы и теперь, после всех ваших бедствий, которых я была невольною причиною, – что и теперь живете только тем, что я живу: моими радостями, моими горестями, моим сердцем! Если принимать все чужое так к сердцу и если так сильно всему сочувствовать, то, право, есть отчего быть несчастнейшим человеком. Сегодня, когда вы вошли ко мне после должности, я испугалась. глядя на вас. Вы были такой бледный, перепуганный, отчаянный: на вас лица не было, – и все оттого, что вы боялись мне рассказать о своей неудаче, боялись меня огорчить, меня испугать, а как увидели, что я чуть не засмеялась, то у вас почти все отлегло от сердца. Макар Алексеевич! вы не печальтесь, не отчаивайтесь, будьте благоразумнее, – прошу вас, умоляю вас об этом. Ну, вот вы увидите, что все будет хорошо, все переменится к лучшему; а то вам тяжело будет жить, вечно тоскуя и болея чужим горем. Прощайте, мой друг; умоляю вас, не беспокойтесь слишком обо мне. | What a strange man you are, Makar Alexievitch! You take things so much to heart that you never know what it is to be happy. I read your letters attentively, and can see from them that, though you worry and disturb yourself about me, you never give a thought to yourself. Yes, every letter tells me that you have a kind heart; but I tell YOU that that heart is overly kind. So I will give you a little friendly advice, Makar Alexievitch. I am full of gratitude towards you—I am indeed full for all that you have done for me, I am most sensible of your goodness; but, to think that I should be forced to see that, in spite of your own troubles (of which I have been the involuntary cause), you live for me alone—you live but for MY joys and MY sorrows and MY affection! If you take the affairs of another person so to heart, and suffer with her to such an extent, I do not wonder that you yourself are unhappy. Today, when you came to see me after office-work was done, I felt afraid even to raise my eyes to yours, for you looked so pale and desperate, and your face had so fallen in. Yes, you were dreading to have to tell me of your failure to borrow money—you were dreading to have to grieve and alarm me; but, when you saw that I came very near to smiling, the load was, I know, lifted from your heart. So do not be despondent, do not give way, but allow more rein to your better sense. I beg and implore this of you, for it will not be long before you see things take a turn for the better. You will but spoil your life if you constantly lament another person’s sorrow. Goodbye, dear friend. I beseech you not to be over-anxious about me. |
| В. Д. | B. D. |
| Августа 5. | August 5th. |
| Голубчик мой, Варенька! | MY DARLING LITTLE BARBARA, |
| Ну, хорошо, ангельчик мой, хорошо! Вы решили, что еще не беда оттого, что я денег не достал. Ну, хорошо, я спокоен, я счастлив на ваш счет. Даже рад, что вы меня, старика, не покидаете и на этой квартире останетесь. Да уж если все говорить, так и сердце-то мое все радостию переполнилось, когда я увидел, что вы обо мне в своем письмеце так хорошо написали и чувствам моим должную похвалу воздали. Я это не от гордости говорю, но оттого, что вижу, как вы меня любите, когда об сердце моем так беспокоитесь. Ну, хорошо; что уж теперь об сердце-то моем говорить! Сердце само по себе; а вот вы наказываете, маточка, чтобы я малодушным не был. Да, ангельчик мой, пожалуй, и сам скажу, что не нужно его, малодушия-то; да при всем этом, решите сами, маточка моя, в каких сапогах я завтра на службу пойду! Вот оно что, маточка; а ведь подобная мысль погубить человека может, совершенно погубить. А главное,родная моя,что я не для себя и тужу,не для себя и страдаю; по мне все равно, хоть бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить, я перетерплю и все вынесу, мне ничего; человек-то я простой, маленький, – но что люди скажут. Враги-то мои, злые-то языки эти все что заговорят, когда без шинели пойдешь? Ведь для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь. Сапоги в таком случае, маточка, душечка вы моя, нужны мне для поддержки чести и доброго имени; в дырявых же сапогах и то и другое пропало, – поверьте, маточка, опытности моей многолетней поверьте; меня, старика, знающего свет и людей, послушайте, а не пачкунов какихнибудь и марателей. | —This is well, this is well, my angel! So you are of opinion that the fact that I have failed to obtain any money does not matter? Then I too am reassured, I too am happy on your account. Also, I am delighted to think that you are not going to desert your old friend, but intend to remain in your present lodgings. Indeed, my heart was overcharged with joy when I read in your letter those kindly words about myself, as well as a not wholly unmerited recognition of my sentiments. I say this not out of pride, but because now I know how much you love me to be thus solicitous for my feelings. How good to think that I may speak to you of them! You bid me, darling, not be faint-hearted. Indeed, there is no need for me to be so. Think, for instance, of the pair of shoes which I shall be wearing to the office tomorrow! The fact is that over-brooding proves the undoing of a man—his complete undoing. What has saved me is the fact that it is not for myself that I am grieving, that I am suffering, but for YOU. Nor would it matter to me in the least that I should have to walk through the bitter cold without an overcoat or boots—I could bear it, I could well endure it, for I am a simple man in my requirements; but the point is—what would people say, what would every envious and hostile tongue exclaim, when I was seen without an overcoat? It is for OTHER folk that one wears an overcoat and boots. In any case, therefore, I should have needed boots to maintain my name and reputation; to both of which my ragged footgear would otherwise have spelled ruin. Yes, it is so, my beloved, and you may believe an old man who has had many years of experience, and knows both the world and mankind, rather than a set of scribblers and daubers. |
| А я вам еще и не рассказывал в подробности, маточка, как это в сущности все было сегодня, чего я натерпелся сегодня. А того я натерпелся, столько тяготы душевной в одно утро вынес, чего иной и в целый год не вынесет. Вот оно было как: пошел, во-первых, я раным-ранешенько, чтобы и его-то застать да и на службу поспеть. Дождь был такой, слякоть такая была сегодня! Я, ясочка моя, в шинель-то закутался, иду-иду да все думаю: “Господи! прости, дескать, мои согрешения и пошли исполнение желаний”. Мимо-ской церкви прошел, перекрестился, во всех грехах покаялся да вспомнил, что недостойно мне с господом богом уговариваться. Погрузился я в себя самого, и глядеть ни на что не хотелось; так уж, не разбирая дороги, пошел. На улицах было пусто, а кто встречался, так все такие занятые, озабоченные, да и не диво: кто в такую пору раннюю и в такую погоду гулять пойдет! Артель работников испачканных повстречалась со мною; затолкали меня, мужичье! Робость нашла на меня, жутко становилось, уж я об деньгах-то и думать, по правде, не хотел,на авось, так на авось! У самого Воскресенского моста у меня подошва отстала, так что уж и сам не знаю, на чем я пошел. А тут наш писарь Ермолаев повстречался со мною, вытянулся, стоит, глазами провожает, словно на водку просит; эх, братец, подумал я, на водку, уж какая тут водка! Устал я ужасно, приостановился.. отдохнул немного, да и потянулся дальше. Нарочно разглядывал, к чему бы мыслями прилепиться, развлечься, приободриться: да нет – ни одной мысли ни к чему не мог прилепить, да и загрязнился вдобавок так, что самого себя стыдно стало. Увидел наконец я издали дом деревянный, желтый, с мезонином вроде бельведера – ну, так, думаю, так оно и есть, так и Емельян Иванович говорил, – Маркова дом. (Он и есть этот Марков, маточка, что на проценты дает.) Я уж и себя тут не вспомнил, и ведь знал, что Маркова дом, а спросил-таки будочника – чей, дескать, это, братец, дом? Будочник такой грубиян, говорит нехотя, словно сердится на кого-то, слова сквозь зубы цедит, – да уж так, говорит, это Маркова дом. Будочники эти все такие нечувствительные,а что мне будочник? А вот все как-то было впечатление дурное и неприятное, словом, все одно к одному; изо всего что-нибудь выведешь сходное с своим положеним, и это всегда так бывает. Мимо дома-то я три конца дал по улице, и чем больше хожу, тем хуже становится,нет, думаю, не даст, ни за что не даст! И человек-то я незнакомый, и дело-то мое щекотливое, и фигурой я не беру, – ну, думаю, как судьба решит; чтобы после только не каяться, за попытку не съедят же меня,да и отворил потихоньку калитку. А тут другая беда: навязалась на меня дрянная, глупая собачонка дворная; лезет из кожи, заливается! И вот такие-то подлые, мелкие случаи и взбесят всегда человека, маточка, и робость на него наведут, и всю решимость, которую заране оодумал, уничтожат; так что я вошел в дом ни жив ни мертв, вошел да прямо еще на беду -не разглядел, что такое внизу впотьмах у порога, ступил да и споткнулся об какую-то бабу, а баба молоко из подойника в кувшины цедила и все молоко пролила. Завизжала, затрещала глупая баба, – дескать, куда ты, батюшка, лезешь, чего тебе надо? да и пошла причитать про нелегкое. Я. маточка, это к тому замечаю, что всегда со мной такое же случалось в подобного рода делах; знать, уж мне написано так; вечно-то я зацеплюсь за что-нибудь постороннее. Высунулась на шум старая ведьма и чухонка хозяйка, я прямо к ней, – здесь, дескать, Марков живет? Нет, говорит; постояла, оглядела меня хорошенько. “А вам что до него?” Я объясняю ей, что, дескать, так и так, Емельян Иванович, – ну, и про остальное,говорю,дельце есть. Старуха кликнула дочку – вышла и дочка,девочка в летах босоногая, –”кликни отца;он наверху у жильцов, – пожалуйте”.Вошел я. Комната ничего, на стенах картинки висят, все генералов каких-то портреты, диван стоит, стол круглый, резеда, бальзаминчики, – думаю-думаю, не убраться ли,полно,мне подобру-поздорову, уйти или нет? и ведь ей-ей, маточка, хотел убежать! Я лучше, думаю, завтра приду;и погода лучше будет, и я-то пережду, – а сегодня вон и молоко пролито, и генералы-то смотрят такие сердитые… Я уж и к двери, да он-то вошел – так себе, седенький, глазки такие вороватенькие, в халате засаленном и веревкой подпоясан. Осведомился к чему и как, а я ему: дескать, так и так, вот Емельян Иванович, – рублей сорок, говорю; дело такое, – да и не договорил. Из глаз его увидал, что проиграно дело. “Нет, уж что, говорит, дело, у меня денег нет; а что у вас заклад, что ли, какой?” Я было стал объяснять, что, дескать, заклада нет, а вот Емельян Иванович,объясняю, одним словом, что нужно. Выслушав все, – нет, говорит, что Емельян Иванович! у меня денег нет. Ну, думаю, так, все так; знал я про это, предчувствовал – ну, просто, Варенька, лучше бы было, если бы земля подо мной расступилась; холод такой, ноги окоченели, мурашки по спине пробежали. Я на него смотрю, а он на меня смотрит да чуть не говорит – что, дескать, ступай-ка ты,браг, здесь тебе нечего делать-так что, если б в другом случае было бы такое же, так совсем бы засовестился. Да что вам, зачем деньги надобны? (Ведь вот про что спросил, маточка!) Я было рот разинул, чтобы только так не стоять даром, да он и слушать не стал – нет, говорит, денег нет; я бы, говорит, с удовольствием. Уж я ему представлял, представлял, говорю, что ведь я немножко, я, дескать, говорю, вам отдам, в срок отдам, и что я еще до срока отдам, что и процент пусть какой угодно берет и что я, ей-богу, отдам. Я, маточка, в это мгновение вас вспомнил, все ваши несчастия и нужды вспомнил, ваш полтинничек вспомнил, – да нет, говорит, что проценты, вот если б заклад! А то у меня денег нет, ей-богу нет; я бы, говорит, с удовольствием, – еще и побожился, разбойник! | But I have not yet told you in detail how things have gone with me today. During the morning I suffered as much agony of spirit as might have been experienced in a year. ‘Twas like this: First of all, I went out to call upon the gentleman of whom I have spoken. I started very early, before going to the office. Rain and sleet were falling, and I hugged myself in my greatcoat as I walked along. “Lord,” thought I, “pardon my offences, and send me fulfilment of all my desires;” and as I passed a church I crossed myself, repented of my sins, and reminded myself that I was unworthy to hold communication with the Lord God. Then I retired into myself, and tried to look at nothing; and so, walking without noticing the streets, I proceeded on my way. Everything had an empty air, and everyone whom I met looked careworn and preoccupied, and no wonder, for who would choose to walk abroad at such an early hour, and in such weather? Next a band of ragged workmen met me, and jostled me boorishly as they passed; upon which nervousness overtook me, and I felt uneasy, and tried hard not to think of the money that was my errand. Near the Voskresenski Bridge my feet began to ache with weariness, until I could hardly pull myself along; until presently I met with Ermolaev, a writer in our office, who, stepping aside, halted, and followed me with his eyes, as though to beg of me a glass of vodka. “Ah, friend,” thought I, “go YOU to your vodka, but what have I to do with such stuff?” Then, sadly weary, I halted for a moment’s rest, and thereafter dragged myself further on my way. Purposely I kept looking about me for something upon which to fasten my thoughts, with which to distract, to encourage myself; but there was nothing. Not a single idea could I connect with any given object, while, in addition, my appearance was so draggled that I felt utterly ashamed of it. At length I perceived from afar a gabled house that was built of yellow wood. This, I thought, must be the residence of the Monsieur Markov whom Emelia Ivanovitch had mentioned to me as ready to lend money on interest. Half unconscious of what I was doing, I asked a watchman if he could tell me to whom the house belonged; whereupon grudgingly, and as though he were vexed at something, the fellow muttered that it belonged to one Markov. Are ALL watchmen so unfeeling? Why did this one reply as he did? In any case I felt disagreeably impressed, for like always answers to like, and, no matter what position one is in, things invariably appear to correspond to it. Three times did I pass the house and walk the length of the street; until the further I walked, the worse became my state of mind. “No, never, never will he lend me anything!” I thought to myself, “He does not know me, and my affairs will seem to him ridiculous, and I shall cut a sorry figure. However, let fate decide for me. Only, let Heaven send that I do not afterwards repent me, and eat out my heart with remorse!” Softly I opened the wicket-gate. Horrors! A great ragged brute of a watch-dog came flying out at me, and foaming at the mouth, and nearly jumping out his skin! Curious is it to note what little, trivial incidents will nearly make a man crazy, and strike terror to his heart, and annihilate the firm purpose with which he has armed himself. At all events, I approached the house more dead than alive, and walked straight into another catastrophe. That is to say, not noticing the slipperiness of the threshold, I stumbled against an old woman who was filling milk-jugs from a pail, and sent the milk flying in every direction! The foolish old dame gave a start and a cry, and then demanded of me whither I had been coming, and what it was I wanted; after which she rated me soundly for my awkwardness. Always have I found something of the kind befall me when engaged on errands of this nature. It seems to be my destiny invariably to run into something. Upon that, the noise and the commotion brought out the mistress of the house—an old beldame of mean appearance. I addressed myself directly to her: “Does Monsieur Markov live here?” was my inquiry. “No,” she replied, and then stood looking at me civilly enough. “But what want you with him?” she continued; upon which I told her about Emelia Ivanovitch and the rest of the business. As soon as I had finished, she called her daughter—a barefooted girl in her teens—and told her to summon her father from upstairs. Meanwhile, I was shown into a room which contained several portraits of generals on the walls and was furnished with a sofa, a large table, and a few pots of mignonette and balsam. “Shall I, or shall I not (come weal, come woe) take myself off?” was my thought as I waited there. Ah, how I longed to run away! “Yes,” I continued, “I had better come again tomorrow, for the weather may then be better, and I shall not have upset the milk, and these generals will not be looking at me so fiercely.” In fact, I had actually begun to move towards the door when Monsieur Markov entered—a grey-headed man with thievish eyes, and clad in a dirty dressing-gown fastened with a belt. Greetings over, I stumbled out something about Emelia Ivanovitch and forty roubles, and then came to a dead halt, for his eyes told me that my errand had been futile. “No.” said he, “I have no money. Moreover, what security could you offer?” I admitted that I could offer none, but again added something about Emelia, as well as about my pressing needs. Markov heard me out, and then repeated that he had no money. “Ah,” thought I, “I might have known this—I might have foreseen it!” And, to tell the truth, Barbara, I could have wished that the earth had opened under my feet, so chilled did I feel as he said what he did, so numbed did my legs grow as shivers began to run down my back. Thus I remained gazing at him while he returned my gaze with a look which said, “Well now, my friend? Why do you not go since you have no further business to do here?” Somehow I felt conscience-stricken. “How is it that you are in such need of money?” was what he appeared to be asking; whereupon, I opened my mouth (anything rather than stand there to no purpose at all!) but found that he was not even listening. “I have no money,” again he said, “or I would lend you some with pleasure.” Several times I repeated that I myself possessed a little, and that I would repay any loan from him punctually, most punctually, and that he might charge me what interest he liked, since I would meet it without fail. Yes, at that moment I remembered our misfortunes, our necessities, and I remembered your half-rouble. “No,” said he, “I can lend you nothing without security,” and clinched his assurance with an oath, the robber! |
| Ну, тут уж, родная моя, я и не помню, как вышел, как прошел Выборгскую, как на Воскресенский мост попал, устал ужасно, прозяб, продрог и только в десять часов в должность успел явиться. Хотел было себя пообчистить от грязи, да Снегирев, сторож, сказал. что нельзя, что щетку испортишь, а щетка, говорит, барин, казенная. Вот они как теперь, маточка, так что я и у этих господ чуть ли не хуже ветошки, об которую ноги обтирают. Ведь меня что, Варенька, убивает? Не деньги меня убивают, а все эти тревоги житейские, все эти шепоты, улыбочки, шуточки. Его превосходительство невзначай как-нибудь могут отнестись на мой счет, – ох, маточка, времена-то мои прошли золотые! Сегодня перечитал я все ваши письма; грустно, маточка! Прощайте, родная, господь вас храни! | How I contrived to leave the house and, passing through Viborskaia Street, to reach the Voskresenski Bridge I do not know. I only remember that I felt terribly weary, cold, and starved, and that it was ten o’clock before I reached the office. Arriving, I tried to clean myself up a little, but Sniegirev, the porter, said that it was impossible for me to do so, and that I should only spoil the brush, which belonged to the Government. Thus, my darling, do such fellows rate me lower than the mat on which they wipe their boots! What is it that will most surely break me? It is not the want of money, but the LITTLE worries of life—these whisperings and nods and jeers. Any day his Excellency himself may round upon me. Ah, dearest, my golden days are gone. Today I have spent in reading your letters through; and the reading of them has made me sad. Goodbye, my own, and may the Lord watch over you! |
| М. Девушкин. | M. DIEVUSHKIN. |
| P. S. Горе-то мое, Варенька, хотел я вам описать пополам с шуточкой, только, видно, она не дается мне, шуточка-то. Вам хотелось угодить. Я к вам зайду, маточка, непременно зайду, завтра зайду. | P.S.—To conceal my sorrow I would have written this letter half jestingly; but, the faculty of jesting has not been given me. My one desire, however, is to afford you pleasure. Soon I will come and see you, dearest. Without fail I will come and see you. |
| Августа 11. | August 11th. |
| Варвара Алексеевна! голубчик мой, маточка! Пропал я, пропали мы оба, оба вместе, безвозвратно пропали. Моя репутация, амбиция – все потеряно! Я погиб, и вы погибли, маточка, и вы, вместе со мной,безвозвратно погибли! Это я, я вас в погибель ввел! Меня гонят, маточка, презирают, на смех подымают, а хозяйка просто меня бранить стала; кричала, кричала на меня сегодня, распекала, распекала меня,ниже щепки поставила.А вечером у Ратазяева кто-то из них стал вслух читать одно письмо черновое, которое я вам написал,да выронил невзначай из кармана. Матушка моя, какую они насмешку подняли! Величали, величали нас, хохотали, хохотали, предатели! Я вошел к ним и уличил Ратазяева в вероломстве; сказал ему, что он предатель! А Ратазяев отвечал мне, что я сам предатель, что я конкетами разными занимаюсь; говорит,вы скрывались от нас, вы, дескать, Ловелас; и теперь все меня Ловеласом зовут, и имени другого нег у меня! Слышите ли, ангельчик мой, слышите ли, – они теперь все знают, обо всем известны, и об вас, родная моя, знают, и обо всем, что ни есть у вас,обо всем знают! Да чего! и Фальдони туда же, и он заодно с ними;послал я его сегодня в колбасную, так, принести кой-чего; не идет да и только, дело есть, говорит! “Да ведь ты ж обязан”, – я говорю. “Да нет же, говорит, не обязан, вы вон моей барыне денег не платите, так я вам и не обязан”. Я не вытерпел от него, от необразованного мужика, оскорбления, да и сказал ему дурака; а он мне – “от дурака слышал”. Я думаю, что он с пьяных глаз мне такую грубость сказал – да и говорю, ты, дескать, пьян, мужик ты этакой! а он мне: “Вы, что ли, мне поднеслито? У самих-то есть ли на что опохмелиться; сами у какой-то по гривенничку христарадничаете, – да еще прибавил:Эх, дескать, а еще барин!” Вот, маточка, вот до чего дошло дело! Жить, Варенька, совестно! точно оглашенный какой-нибудь; хуже чем беспаспортному бродяге какому-нибудь. Бедствия тяжкие! – погиб я, просто погиб! безвозвратно погиб. | O Barbara Alexievna, I am undone—we are both of us undone! Both of us are lost beyond recall! Everything is ruined—my reputation, my self-respect, all that I have in the world! And you as much as I. Never shall we retrieve what we have lost. I—I have brought you to this pass, for I have become an outcast, my darling. Everywhere I am laughed at and despised. Even my landlady has taken to abusing me. Today she overwhelmed me with shrill reproaches, and abased me to the level of a hearth-brush. And last night, when I was in Rataziaev’s rooms, one of his friends began to read a scribbled note which I had written to you, and then inadvertently pulled out of my pocket. Oh beloved, what laughter there arose at the recital! How those scoundrels mocked and derided you and myself! I walked up to them and accused Rataziaev of breaking faith. I said that he had played the traitor. But he only replied that I had been the betrayer in the case, by indulging in various amours. “You have kept them very dark though, Mr. Lovelace!” said he—and now I am known everywhere by this name of “Lovelace.” They know EVERYTHING about us, my darling, EVERYTHING—both about you and your affairs and about myself; and when today I was for sending Phaldoni to the bakeshop for something or other, he refused to go, saying that it was not his business. “But you MUST go,” said I. “I will not,” he replied. “You have not paid my mistress what you owe her, so I am not bound to run your errands.” At such an insult from a raw peasant I lost my temper, and called him a fool; to which he retorted in a similar vein. Upon this I thought that he must be drunk, and told him so; whereupon he replied: “WHAT say you that I am? Suppose you yourself go and sober up, for I know that the other day you went to visit a woman, and that you got drunk with her on two grivenniks.” To such a pass have things come! I feel ashamed to be seen alive. I am, as it were, a man proclaimed; I am in a worse plight even than a tramp who has lost his passport. How misfortunes are heaping themselves upon me! I am lost—I am lost for ever! |
| М. Д. | M. D. |
| Августа 13. | August 13th. |
| Любезнейший Макар Алексеевич! Над нами все беды да беды, я уж и сама не знаю, что делать! Что с вамито будет теперь, а на меня надежда плохая; я сегодня обожгла себе утюгом левую руку; уронила нечаянно, и ушибла и обожгла, все вместе. Работать никак нельзя, а Федора уж третий день хворает. Я в мучительном беспокойстве. Посылаю вам тридцать копеек серебром; это почти все последнее наше, а я, бог видит, как желала бы вам помочь теперь в ваших нуждах. До слез досадно! Прощайте, друг мой! Весьма бы вы утешили меня, если б пришли к нам сегодня. | MY BELOVED MAKAR ALEXIEVITCH,—It is true that misfortune is following upon misfortune. I myself scarcely know what to do. Yet, no matter how you may be fairing, you must not look for help from me, for only today I burned my left hand with the iron! At one and the same moment I dropped the iron, made a mistake in my work, and burned myself! So now I can no longer work. Also, these three days past, Thedora has been ailing. My anxiety is becoming positively torturous. Nevertheless, I send you thirty kopecks—almost the last coins that I have left to me, much as I should have liked to have helped you more when you are so much in need. I feel vexed to the point of weeping. Goodbye, dear friend of mine. You will bring me much comfort if only you will come and see me today. |
| В. Д. | B. D. |
| Августа 14. | August 14th. |
| Макар Алексеевич! что это с вами? Бога вы не боитесь, верно! Вы меня просто с ума сведете. Не стыдно ли вам! Вы себя губите, вы подумайте только о своей репутации. Вы человек честный, благородный, амбиционный – ну, как все узнают про вас! Да вы просто со стыда должны будете умеретъ! Или не жаль вам седых волос ваших? Ну, боитесь ли вы бога! Федора сказала, что уже теперь не будет вам более помогать, да и я тоже вам денег давать не буду. До чего вы меня довели, Макар Алексеевич! Вы думаете, верно, что мне ничего, что вы так дурно ведете себя; вы еще не знате,что я из-за вас терплю! Мне по нашей лестнице и пройти нельзя: все на меня смотрят, пальцем на меня указывают и такие страшные вещи говорят; да, прямо говорят, что связалась я с пьяницей. Каково это слышать! Когда вас привозят, то на вас все жильцы с презрением указывают: вот, говорят.. того чиновника привезли. А мне-то за вас мочи нет как совестно. Клянусь вам, что я перееду отсюда. Пойду куда-нибудь в горчнчные, в прачки, а здесь не останусь. Я вам писала, чтоб вы зашли ко мне, а вы не зашли. Знать. вам ничего мои слезы и просьбы, Макар Алексеевич! И откуда вы денег достали? Ради создателя, поберегитесь. Ведь пропадете, ни за что пропадете! И стыд-то и срам-то какой! Вас хозяйка и впустить вчера не хотела, вы в сенях ночевали: я все знаю. Если б вы знали, как мне тяжело было, когда я все это узнала. Приходите ко мне, вам будет у нас весело: мы будем вместе читать, будем старое вспоминать. Федора о своих богомольных странствиях рассказывать будет. Ради меня, голубчик мой, не губите себя и меня не губите. Ведь я для вас одного и живу, для вас и остаюсь с вами. Так-то вы теперь! Будьте благородным человеком, твердым в несчастиях; помннте, что бедность не порок. Да и чего отчаиваться: это все временное! Даст бог–все поправится, только вы-то удержитесь теперь. Посылаю вам двугривенный, купите себе табаку или всего, что вам захочется,только, ради бога, на дурное не тратьте. Приходите к нам, непременно приходите. Вам, может быть, как и прежде, стыдно будет, но вы не стыдитесь: это ложный стыд. Только бы вы искреннее раскаяние принесли. Надейтесь на бога. Он все устроит к лучшему. | What is the matter with you, Makar Alexievitch? Surely you cannot fear the Lord God as you ought to do? You are not only driving me to distraction but also ruining yourself with this eternal solicitude for your reputation. You are a man of honour, nobility of character, and self-respect, as everyone knows; yet, at any moment, you are ready to die with shame! Surely you should have more consideration for your grey hairs. No, the fear of God has departed from you. Thedora has told you that it is out of my power to render you anymore help. See, therefore, to what a pass you have brought me! Probably you think it is nothing to me that you should behave so badly; probably you do not realise what you have made me suffer. I dare not set foot on the staircase here, for if I do so I am stared at, and pointed at, and spoken about in the most horrible manner. Yes, it is even said of me that I am “united to a drunkard.” What a thing to hear! And whenever you are brought home drunk folk say, “They are carrying in that tchinovnik.” THAT is not the proper way to make me help you. I swear that I MUST leave this place, and go and get work as a cook or a laundress. It is impossible for me to stay here. Long ago I wrote and asked you to come and see me, yet you have not come. Truly my tears and prayers must mean NOTHING to you, Makar Alexievitch! Whence, too, did you get the money for your debauchery? For the love of God be more careful of yourself, or you will be ruined. How shameful, how abominable of you! So the landlady would not admit you last night, and you spent the night on the doorstep? Oh, I know all about it. Yet if only you could have seen my agony when I heard the news!… Come and see me, Makar Alexievitch, and we will once more be happy together. Yes, we will read together, and talk of old times, and Thedora shall tell you of her pilgrimages in former days. For God’s sake beloved, do not ruin both yourself and me. I live for you alone; it is for your sake alone that I am still here. Be your better self once more—the self which still can remain firm in the face of misfortune. Poverty is no crime; always remember that. After all, why should we despair? Our present difficulties will pass away, and God will right us. Only be brave. I send you two grivenniks for the purchase of some tobacco or anything else that you need; but, for the love of heaven, do not spend the money foolishly. Come you and see me soon; come without fail. Perhaps you may be ashamed to meet me, as you were before, but you NEED not feel like that—such shame would be misplaced. Only do bring with you sincere repentance and trust in God, who orders all things for the best. |
| В. Д. | B. D. |
| Варвара Алексеевна, маточка! | |
| August 19th. | |
| Августа 19. | |
| MY DEAREST BARBARA ALEXIEVNA, | |
| Стыдно мне, ясочка моя, Варвара Алексеевна,совсем застыдился. Впрочем, что ж тут такого, маточка, особенного? Отчего же сердца своего не поразвеселить? Я тогда про подошвы мои и не думаю, потому что подошва вздор и всегда останется простой, подлой, грязной подошвой. Да и сапоги тоже вздор. И мудрецы греческие без сапог хаживали, так чего же нашему-то брату с таким недостойным предметом нянчиться? За что ж обижать, за что ж презирать меня в таком случае? Эх! маточка, маточка, нашли что писать! А Федоре скажите, что она баба вздорная, беспокойная, буйная и вдобавок глупая, невыразимо глупая! Что же касается до седины моей, то и в этом вы ошибаетесь, родная моя, потому что я вовсе не такой старик, как вы думаете. Емеля вам кланяется. Пишете вы, что сокрушались и плакали; а я вам пишу, что я тоже сокрушался и плакал. В заключение желаю вам всякого здоровья и благополучия, а что до меня касается, то я тоже здоров и благополучен и пребываю вашим, ангельчик мой, другом | -Yes, I AM ashamed to meet you, my darling—I AM ashamed. At the same time, what is there in all this? Why should we not be cheerful again? Why should I mind the soles of my feet coming through my boots? The sole of one’s foot is a mere bagatelle—it will never be anything but just a base, dirty sole. And shoes do not matter, either. The Greek sages used to walk about without them, so why should we coddle ourselves with such things? Yet why, also, should I be insulted and despised because of them? Tell Thedora that she is a rubbishy, tiresome, gabbling old woman, as well as an inexpressibly foolish one. As for my grey hairs, you are quite wrong about them, inasmuch as I am not such an old man as you think. Emelia sends you his greeting. You write that you are in great distress, and have been weeping. Well, I too am in great distress, and have been weeping. Nay, nay. I wish you the best of health and happiness, even as I am well and happy myself, so long as I may remain, my darling,—Your friend, |
| Макаром Девушкиным. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| < < < | > > > |
| Двуязычный текст, подготовленный Akirill.com , размещенные на сайте Akirill.com 24 июня 2022 года. 2022 года. Каждую из книг (на английском или русском языках) можно забрать отдельно и повторно использовать в личных и некоммерческих целях. Они свободны от авторского права. При любом совместном использовании двух книг должно быть указано их происхождение https://www.Akirill.com | Bilingual text prepared by Akirill.com , deposited on the site Akirill.com on June 24, 2022. Each of the books (English or French) can be taken back separately and reused for personal and non-commercial purposes. They are free of copyright. Any use of the two books side by side must mention their origin https://www.Akirill.com |
Poor People, by Fyodor Dostoyevsky
| If you liked this page, don’t forget to like and share. Si vous avez aimé cette page, n’oublier pas d’aimer et de partager. |
| Subscribe to not miss anything Abonnez-vous pour ne rien manquer |
| Check out our latest posts |
| Découvrez nos derniers articles |