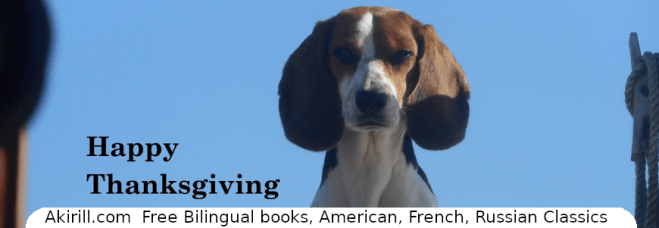Это не дословный перевод, а книга на двух языках, вышедшие бок о бок. Вы можете прочитать его на русском, английском или на обоих языках.
This is not a word-by-word translation but the books in the two languages put side by side. You can read it in Russian, in English or both.
Бедные люди – Федор Достоевский
| Бедные люди – Федор Достоевский | Poor People, by Fyodor Dostoyevsky |
| < < < | BILINGUAL BOOKS > > > |
| Августа 21. | August 21st. |
| Милостивая государыня и любезный друг, | MY DEAR AND KIND |
| Варвара Алексеевна! | BARBARA ALEXIEVNA, |
| Чувствую, что я виноват, чувствую, что я провинился перед вами, да в, по-моему, выгоды-то из этого нет никакой, маточка, что я все это чувствую, уж что вы там ни говорите. Я и прежде проступка моего все это чувствовал, но вот упал же духом, с сознанием вины упал. Маточка моя, я не зол и не жестокосерден; а для того чтобы растерзать сердечко ваше, голубка моя, нужно быть не более, не менее как кровожадным тигром, ну, а у меня сердце овечье, и я, как и вам известно, не имею позыва к кровожадности; следственно, ангельчих мой, я и не совсем виноват в проступке моем, так же как и ни сердце, ни мысли мои не виноваты; а уж так, я и не знаю, что виновато. Уж такое дело темное, маточка! Тридцать копеек серебром мне прислали, а потом прислали двугривенничек; у меня сердце и заныло, глядя на ваши сиротские денежки. Сами ручку свою обожгли, голодать скоро будете, а пишете, чтоб я табаку купил. Ну, как же мне было поступить в таком случае? Или уж так, без зазрения совести, подобно разбойнику, вас, сироточку, начать грабить! Тут-то я и упал духом, маточка, то есть сначала, чувствуя поневоле, что никуда не гожусь и что я сам немногим разве получше подошвы своей, счел неприличным принимать себя за что-нибудь значащее, а напротив, самого себя стал считать чем-то неприличным и в некоторой степени неблагопристойным. Ну, а как потерял к себе самому уважение, как предался отрицанию добрых качеств своих и своего достоинства, так уж тут и все пропадай, тут уж и падение! Это так уже судьбою определено, и я в этом не виноват. Я сначала вышел немножко поосвежиться. Тут уж все пришлось одно к одному: и природа была такая слезливая, и погода холодная, и дождь, ну и Емеля тут же случился. Он, Варенька, уже все заложил что имел, все у него пошло в свое место. и как я его встретил, так он уже двое суток маковой росинки во рту не видал, так что уж хотел такое закладывать, чего никак и заложить нельзя, затем что и закладов таких не бывает. Ну, что же, Варенька, уступил я более из сострадания к человечеству, чем по собственному влечению. Так вот как грех этот произошел, маточка! Мы уж как вместе с ним плакали! Вас вспоминали. Он предобрый, он очень добрый человек, и весьма чувствительный человек. Я, маточка, сам все это чувствую; со мной потому и случается-то все такое, что я очень все это чувствую. Я знаю, чем я вам, голуочик вы мой, обязан! Узнав вас, я стал, во-первых, и самого себя лучше знать и вас стал любить; а до вас, ангельчик мой, я был одинок и как будто спал, а не жил на свете. Они, злодеи-то мои, говорили, что даже и фигура моя неприличная, и гнушались мною, ну, и я стал гнушаться собою; говорили, что я туп, я и в самом деле думал, что я туп, а как вы мне явились, то вы всю мою жизнь осветили темную, так что и сердце и душа моя осветились, и я обрел душевный покой и узнал, что и я не хуже других; что только так, не блешу ничем, лоску нет, тону нет, но все-таки я человек, что сердцем и мыслями я человек. Ну, а теперь, почувствовав, что я гоним судьбою, что, униженный ею, предался отрицанию сооственного своего достоинства, я, удрученный моими бедствиями, и упал духом. И так как вы теперь все знаете, маточка, то я умоляю вас слезно не любопытствовать более об этой материи, ибо сердце мое разрывается, и горько, тягостно. Akirill.com | —I feel that I am guilty, I feel that I have sinned against you. Yet also I feel, from what you say, that it is no use for me so to feel. Even before I had sinned I felt as I do now; but I gave way to despair, and the more so as recognised my fault. Darling, I am not cruel or hardhearted. To rend your little soul would be the act of a blood-thirsty tiger, whereas I have the heart of a sheep. You yourself know that I am not addicted to bloodthirstiness, and therefore that I cannot really be guilty of the fault in question, seeing that neither my mind nor my heart have participated in it. Nor can I understand wherein the guilt lies. To me it is all a mystery. When you sent me those thirty kopecks, and thereafter those two grivenniks, my heart sank within me as I looked at the poor little money. To think that though you had burned your hand, and would soon be hungry, you could write to me that I was to buy tobacco! What was I to do? Remorselessly to rob you, an orphan, as any brigand might do? I felt greatly depressed, dearest. That is to say, persuaded that I should never do any good with my life, and that I was inferior even to the sole of my own boot, I took it into my head that it was absurd for me to aspire at all—rather, that I ought to account myself a disgrace and an abomination. Once a man has lost his self-respect, and has decided to abjure his better qualities and human dignity, he falls headlong, and cannot choose but do so. It is decreed of fate, and therefore I am not guilty in this respect. That evening I went out merely to get a breath of fresh air, but one thing followed another—the weather was cold, all nature was looking mournful, and I had fallen in with Emelia. This man had spent everything that he possessed, and, at the time I met him, had not for two days tasted a crust of bread. He had tried to raise money by pawning, but what articles he had for the purpose had been refused by the pawnbrokers. It was more from sympathy for a fellow-man than from any liking for the individual that I yielded. That is how the fault arose, dearest. He spoke of you, and I mingled my tears with his. Yes, he is a man of kind, kind heart—a man of deep feeling. I often feel as he did, dearest, and, in addition, I know how beholden to you I am. As soon as ever I got to know you I began both to realise myself and to love you; for until you came into my life I had been a lonely man—I had been, as it were, asleep rather than alive. In former days my rascally colleagues used to tell me that I was unfit even to be seen; in fact, they so disliked me that at length I began to dislike myself, for, being frequently told that I was stupid, I began to believe that I really was so. But the instant that YOU came into my life, you lightened the dark places in it, you lightened both my heart and my soul. Gradually, I gained rest of spirit, until I had come to see that I was no worse than other men, and that, though I had neither style nor brilliancy nor polish, I was still a MAN as regards my thoughts and feelings. But now, alas! pursued and scorned of fate, I have again allowed myself to abjure my own dignity. Oppressed of misfortune, I have lost my courage. Here is my confession to you, dearest. With tears I beseech you not to inquire further into the matter, for my heart is breaking, and life has grown indeed hard and bitter for me |
| Свидетельствую, маточка, вам почтение мое и пребываю вашим верным | —Beloved, I offer you my respect, and remain ever your faithful friend, Akirill.com |
| Макаром Девушкиным. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Сентября З. | September 3rd. |
| Я не докончила прошлого письма, Макар Алексеевич, потому что мне было тяжело писать. Иногда бывают со мной минуты, когда я рада быть одной, одной грустить, одной тосковать, без раздела, и такие минуты начинают находить на меня все чаще и чаще. В воспоминаниях моих есть что-то такое необъяснимое для меня, что увлекает меня так безотчетно, так сильно, что я по нескольку часов бываю бесчувственна ко всему меня окружающему и забываю все, все настоящее. И нет впечатления в теперешней жизни моей, приятного ль, тяжелого, грустного, которое бы не напоминало мне чегонибудь подобного же в прошедшем моем, и чаще всего мое детство, мое золотое детство! Но мне становится всегда тяжело после подобных мгновений. Я как-то слабею, моя мечтательность изнуряет меня, а здоровье мое и без того все хуже и хуже становится. | The reason why I did not finish my last letter, Makar Alexievitch, was that I found it so difficult to write. There are moments when I am glad to be alone—to grieve and repine without any one to share my sorrow: and those moments are beginning to come upon me with ever-increasing frequency. Always in my reminiscences I find something which is inexplicable, yet strongly attractive—so much so that for hours together I remain insensible to my surroundings, oblivious of reality. Indeed, in my present life there is not a single impression that I encounter—pleasant or the reverse—which does not recall to my mind something of a similar nature in the past. More particularly is this the case with regard to my childhood, my golden childhood. Yet such moments always leave me depressed. They render me weak, and exhaust my powers of fancy; with the result that my health, already not good, grows steadily worse. |
| Но сегодня свежее, яркое, блестящее утро, каких мало здесь осенью, оживило меня, и я радостно его встретила. Итак, у нас уже осень! Как я любила осень в деревне! Я еще ребенком была, но и тогда уже много чувствовала. Осенний вечер я любила больше, чем утро. Я помню, в двух шагах от нашего дома, под горой, было озеро. Это озеро, – я как будто вижу его теперь, – это озеро было такое широкое, светлое, чистое, как хрусталь! Бывало, если вечер тих, – озеро покойно; на деревах, что по берегу росли, не шелохнет, вода неподвижна, словно зеркало. Свежо! холодно! Падает роса на траву, в избах на берегу засветятся огоньки, стадо пригонят – тут-то я и ускользну тихонько из дому, чтобы посмотреть на мое озеро, и засмотрюсь, бывало. Какая-нибудь вязанка хворосту горит у рыбаков у самой воды, и свет далекодалеко по воде льется. Небо такое холодное, синее и по краям разведено все красными. огненными полосами, и эти полосы все бледнее и бледнее становятся; выходит месяц; воздух такой звонкий, порхнет ли испуганная пташка, камыш ли зазвенит от легонького ветерка, или рыба всплеснется в воде, – все, бывало, слышно. По синей воде встает белый пар, тонкий, прозрачный. Даль темнеет; все как-то тонет в тумане, а вблизи так все резко обточено, словно резцом обрезано, – лодка, берег, острова; бочка какая-нибудь, брошенная, забытая у самого берега, чуть-чуть колышется на воде, ветка ракитовая с пожелтелыми листьями путается в камыше, – вспорхнет чайка запоздалая, то окунется в холодной воде, то опять вопорхнет и утонет в тумане. Я засматривалась, заслушивалась, – чудно хорошо было мне! А я еще была ребенок, дитя!.. | However, this morning it is a fine, fresh, cloudless day, such as we seldom get in autumn. The air has revived me and I greet it with joy. Yet to think that already the fall of the year has come! How I used to love the country in autumn! Then but a child, I was yet a sensitive being who loved autumn evenings better than autumn mornings. I remember how beside our house, at the foot of a hill, there lay a large pond, and how the pond—I can see it even now!—shone with a broad, level surface that was as clear as crystal. On still evenings this pond would be at rest, and not a rustle would disturb the trees which grew on its banks and overhung the motionless expanse of water. How fresh it used to seem, yet how cold! The dew would be falling upon the turf, lights would be beginning to shine forth from the huts on the pond’s margin, and the cattle would be wending their way home. Then quietly I would slip out of the house to look at my beloved pond, and forget myself in contemplation. Here and there a fisherman’s bundle of brushwood would be burning at the water’s edge, and sending its light far and wide over the surface. Above, the sky would be of a cold blue colour, save for a fringe of flame-coloured streaks on the horizon that kept turning ever paler and paler; and when the moon had come out there would be wafted through the limpid air the sounds of a frightened bird fluttering, of a bulrush rubbing against its fellows in the gentle breeze, and of a fish rising with a splash. Over the dark water there would gather a thin, transparent mist; and though, in the distance, night would be looming, and seemingly enveloping the entire horizon, everything closer at hand would be standing out as though shaped with a chisel—banks, boats, little islands, and all. Beside the margin a derelict barrel would be turning over and over in the water; a switch of laburnum, with yellowing leaves, would go meandering through the reeds; and a belated gull would flutter up, dive again into the cold depths, rise once more, and disappear into the mist. How I would watch and listen to these things! How strangely good they all would seem! But I was a mere infant in those days—a mere child. Akirill.com |
| Я так любила осень, – позднюю осень, когда уже уберут хлеба, окончат все работы, когда уже в избах начнутся посиделки. когда уже все ждут зимы. Тогда все становится мрачнее, небо хмурится облаками, желтые листья стелятся тропами по краям обнаженного леса, а лес синеет, чернеет, – особенно вечером, когда спустится сырой туман и деревья мелькают из тумана, как великаны, как безобразные, страшные привидения. Запоздаешь, бывало, на прогулке, отстанешь от других, идешь одна, спешишь, – жутко! Сама дрожишъ как лист; вот, думаешь, того и гляди выглянет кто-нибудь страшный из-за этого дупла; между тем ветер пронесется по лесу, загудит, зашумит, завоет так жалобно, сорвет тучу листьев с чахлых веток, закрутит ими по воздуху, и за ними длинною, широкою, шумною стаей, с диким пронзительным криком, пронесутся птицы, так что небо чернеет и все застилается ими. Страшно станет, а тут, – точно как будто заслышишь кого-то, – чей-то голос, как будто кто-то шепчет: “Беги, беги, дитя, не опаздывай; страшно здесь будет тотчас, беги, дитя!” – ужас пройдет по сердцу, и бежишь-бежишь так, что дух занимается. Прибежишь, запыхавшись, домой; дома шумно, весело; раздадут нам, всем детям, работу: горох или мак шелушить. Сырые дрова трещат в печи; матушка весело смотрит за нашей веселой работой; старая няня Ульяна рассказывает про старое время или страшные сказки про колдунов и мертвецов. Мы, дети, жмемся подружка к подружке, а улыбка у всех на губах. Вот вдруг замолчим разом… чу! шум! как будто кто-то стучит! Ничего не бывало; это гудит самопрялка у старой Фроловны; сколько смеху бывало! А потом ночью не спим от страха; находят такие страшные сны. Проснешься, бывало, шевельнуться не смеешь и до рассвета дрогнешь под одеялом. Утром встанешь свежа, как цветочек. Посмотришь в окно: морозом прохватило все поле; тонкий, осенний иней повис на обнаженных сучьях; тонким, как лист, льдом подернулось озеро; встает белый пар по озеру; кричат веселые птицы. Солнце светит кругом яркими лучами, и лучи разбивают, как стекло, тонкий лед Светло, ярко, весело! В печке опять трещит огонь; подсядем все к самовару, а в окна посматривает продрогшая ночью черная наша собака Полкан и приветливо махает хвостом. Мужичок проедег мимо окон на бодрой лошадке в лес за дровами. Все так довольны, так веселы!.. Ах, какое золотое было детство мое!.. | Yes, truly I loved autumn-tide—the late autumn when the crops are garnered, and field work is ended, and the evening gatherings in the huts have begun, and everyone is awaiting winter. Then does everything become more mysterious, the sky frowns with clouds, yellow leaves strew the paths at the edge of the naked forest, and the forest itself turns black and blue—more especially at eventide when damp fog is spreading and the trees glimmer in the depths like giants, like formless, weird phantoms. Perhaps one may be out late, and had got separated from one’s companions. Oh horrors! Suddenly one starts and trembles as one seems to see a strange-looking being peering from out of the darkness of a hollow tree, while all the while the wind is moaning and rattling and howling through the forest—moaning with a hungry sound as it strips the leaves from the bare boughs, and whirls them into the air. High over the tree-tops, in a widespread, trailing, noisy crew, there fly, with resounding cries, flocks of birds which seem to darken and overlay the very heavens. Then a strange feeling comes over one, until one seems to hear the voice of some one whispering: “Run, run, little child! Do not be out late, for this place will soon have become dreadful! Run, little child! Run!” And at the words terror will possess one’s soul, and one will rush and rush until one’s breath is spent—until, panting, one has reached home. At home, however, all will look bright and bustling as we children are set to shell peas or poppies, and the damp twigs crackle in the stove, and our mother comes to look fondly at our work, and our old nurse, Iliana, tells us stories of bygone days, or terrible legends concerning wizards and dead men. At the recital we little ones will press closer to one another, yet smile as we do so; when suddenly, everyone becomes silent. Surely somebody has knocked at the door?… But nay, nay; it is only the sound of Frolovna’s spinning-wheel. What shouts of laughter arise! Later one will be unable to sleep for fear of the strange dreams which come to visit one; or, if one falls asleep, one will soon wake again, and, afraid to stir, lie quaking under the coverlet until dawn. And in the morning, one will arise as fresh as a lark and look at the window, and see the fields overlaid with hoarfrost, and fine icicles hanging from the naked branches, and the pond covered over with ice as thin as paper, and a white steam rising from the surface, and birds flying overhead with cheerful cries. Next, as the sun rises, he throws his glittering beams everywhere, and melts the thin, glassy ice until the whole scene has come to look bright and clear and exhilarating; and as the fire begins to crackle again in the stove, we sit down to the tea-urn, while, chilled with the night cold, our black dog, Polkan, will look in at us through the window, and wag his tail with a cheerful air. Presently, a peasant will pass the window in his cart bound for the forest to cut firewood, and the whole party will feel merry and contented together. Abundant grain lies stored in the byres, and great stacks of wheat are glowing comfortably in the morning sunlight. Everyone is quiet and happy, for God has blessed us with a bounteous harvest, and we know that there will be abundance of food for the wintertide. Yes, the peasant may rest assured that his family will not want for aught. Song and dance will arise at night from the village girls, and on festival days everyone will repair to God’s house to thank Him with grateful tears for what He has done…. Ah, a golden time was my time of childhood!… |
| Вот я и расплакалась теперь, как дитя, увлекаясь моими воспоминаниями. Я так живо, так живо все припомнила, так ярко стало передо мною все прошедшее, а настоящее так тускло, так темно!.. Чем это кончится, чем это все кончится? Знаете ли, у меня есть какое-то убеждение, какая-то уверенность, что я умру нынче осенью. Я очень, очень больна. Я часто думаю о том, что умру, но все бы мне не хотелось так умереть, – в здешней земле лежать. Может быть, я опять слягу в постель, как и тогда, весной, а я еще оправиться не успела. Вот и теперь мне очень тяжело. Федора сегодня ушла куда-то на целый день, и я сижу одна. А с некоторого времени я боюсь оставаться одной; мне все кажется, что со мной в комнате кто-то бывает другой, что кто-то со мной говорит; особенно когда я об чем-нибудь задумаюсь и вдруг очиусь от задумчивости, так что мне страшно становится. Вот почему я вам такое большое письмо написала; когда я пишу, это проходит. Прощайте: кончаю письмо, потому что и бумаги и времени нет. Из вырученных денег за платья мои да за шляпку остался у меня только рубль серебром. Вы дали хозяйке два рубля серебром; это очень хорошо; она замолчит теперь на время. | Carried away by these memories, I could weep like a child. Everything, everything comes back so clearly to my recollection! The past stands out so vividly before me! Yet in the present everything looks dim and dark! How will it all end?—how? Do you know, I have a feeling, a sort of sure premonition, that I am going to die this coming autumn; for I feel terribly, oh so terribly ill! Often do I think of death, yet feel that I should not like to die here and be laid to rest in the soil of St. Petersburg. Once more I have had to take to my bed, as I did last spring, for I have never really recovered. Indeed I feel so depressed! Thedora has gone out for the day, and I am alone. For a long while past I have been afraid to be left by myself, for I keep fancying that there is someone else in the room, and that that someone is speaking to me. Especially do I fancy this when I have gone off into a reverie, and then suddenly awoken from it, and am feeling bewildered. That is why I have made this letter such a long one; for, when I am writing, the mood passes away. Goodbye. I have neither time nor paper left for more, and must close. Of the money which I saved to buy a new dress and hat, there remains but a single rouble; but, I am glad that you have been able to pay your landlady two roubles, for they will keep her tongue quiet for a time. |
| Поправьте себе как-нибудь платье. Прощайте; я так устала; не понимаю, отчего я становлюсь такая слабая; малейшее занятие меня утомляет. Случится работа – как работать? Вот это-то и убивает меня. | And you must repair your wardrobe. Goodbye once more. I am so tired! Nor can I think why I am growing so weak—why it is that even the smallest task now wearies me? Even if work should come my way, how am I to do it? That is what worries me above all things. |
| В. Д. | B. D. |
| Сентября 5. | September 5th. |
| Голубчик мой, Варенька! | MY BELOVED BARBARA, |
| Я сегодня, ангельчик мой, много испытал впечатлений. Во-первых, у меня голова целый день болела. Чтобы как-нибудь освежиться, вышел я походить по Фонтанке. Вечер был такой темный, сырой. В шестом часу уж смеркается,вот как теперь! Дождя не было, зато был туман, не хуже доброго дождя. По небу ходили длинными, широкими полосами тучи. Народу ходила бездна по на90 бережной, и народ-то как нарочно был с такими страшными, уныние наводящими лицами, пьяные мужики, курносые бабы-чухонки, в сапогах и простоволосые, артельщики, извозчики, наш брат по какой-нибудь надобности; мальчишки, какой-нибудь слесарский ученик в полосатом халате, испитой, чахлый, с лицом, выкупанным в копченом масле, с замком в руке; солдат отставной, в сажень ростом, – вот какова была публика. Час-то, видно, был такой, что другой публики и быть не могло. Судоходный канал Фонтанка! Барок такая бездна, что не понимаешь, где все это могло поместиться. На мостах сидят бабы с мокрыми пряниками да с гнилыми яблоками, и все такие грязные, мокрые бабы. Скучно по Фонтанке гулять! Мокрый гранит под ногами, по бокам дома высокие, черные, закоптелые; под ногами туман, над головой тоже туман. Такой грустный, такой темный был вечер сегодня. | —Today I have undergone a variety of experiences. In the first place, my head has been aching, and towards evening I went out to get a breath of fresh air along the Fontanka Canal. The weather was dull and damp, and even by six o’clock, darkness had begun to set in. True, rain was not actually falling, but only a mist like rain, while the sky was streaked with masses of trailing cloud. Crowds of people were hurrying along Naberezhnaia Street, with faces that looked strange and dejected. There were drunken peasants; snub-nosed old harridans in slippers; bareheaded artisans; cab drivers; every species of beggar; boys; a locksmith’s apprentice in a striped smock, with lean, emaciated features which seemed to have been washed in rancid oil; an ex-soldier who was offering penknives and copper rings for sale; and so on, and so on. It was the hour when one would expect to meet no other folk than these. And what a quantity of boats there were on the canal. It made one wonder how they could all find room there. On every bridge were old women selling damp gingerbread or withered apples, and every woman looked as damp and dirty as her wares. In short, the Fontanka is a saddening spot for a walk, for there is wet granite under one’s feet, and tall, dingy buildings on either side of one, and wet mist below and wet mist above. Yes, all was dark and gloomy there this evening. |
| Когда я поворотил в Гороховую, так уж смерклось совсем и газ зажигать стали. Я давненько-таки не был в Гороховой, – не удавалось. Шумная улица! Какие лавки, магазины богатые; все так и блестит и горит, материя, цветы под стеклами, разные шляпки с лентами. Подумаешь, что это все так, для красы разложено – так нет же: ведь есть люди.. что все это покупают и своим женам дарят. Богатая улица! Немецких булочников очень много живет в Гороховой; тоже, должно быть, народ весьма достаточный. Сколько карет поминутно ездит; как это все мостовая выносит! Пышные экипажи такие, стекла, как зеркало, внутри бархат и шелк; лакеи дворянские, в эполетах, при шпаге. Я во все кареты заглядывал, все дамы сидят, такие разодетые, может быть и княжны и графини. Верно, час был такой, что все на балы и в собрания спешили. Любопытно увидеть княгиню и вообще знатную даму вблизи; должно быть, очень хорошо; я никогда не видал; разве вот так, как теперь, в карету заглянешь. Про вас я тут вспомнил. Ах, голубчик мой, родная моя! как вспомню теперь про вас, так все сердце изнывает! Отчего вы, Варенька, такая несчастная? Ангельчик мой! да чем же вы-то хуже их всех? Вы у меня добрая, прекрасная, ученая; отчего же вам такая злая судьба выпадает на долю? Отчего это так все случается, что вот хороший-то человек в запустенье находится, а к другому кому счастие само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правде-истине, зачем одному еще во чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братец, вот какой! Грешно, маточка, оно грешно этак думать, да тут поневоле как-то грех в душу лезет. Ездили бы и вы в карете такой же, родная моя, ясочка. Взгляда благосклонного вашего генералы ловили бы, – не то что наш брат; ходили бы вы не в холстинковом ветхом платьице, а в шелку да в золоте. Были бы вы не худенькие, не чахленькие. как теперь, а как фигурка сахарная, свеженькая румяная, полная. А уж я бы тогда и тем одним счастлив был.что хоть бы с улицы на вас в ярко освещенные окна взглянул, что хоть бы тень вашу увидал; от одной мысли, что вам там счастливо и весело, птичка вы моя хорошенькая, и я бы повеселел. А теперь что! Мало того, что злые люди вас погубили, какая-нибудь там дрянь, забулдыга вас обижает. Что фрак-то на нем сидит тоголем, что в лорнетку-то золотую он на вас смотрит, бесстыдник, так уж ему все с рук сходит, так уж и речь его непристойную снисходительно слушать надо! Полно, так ли, голубчики! А отчего же это все? А оттого, что вы сирота, оттого, что вы беззащитная, оттого, что нет у вас друга сильного, который бы вам опору пристойную дал. А ведь что это за человек, что это за люди, которым сироту оскорбить нипочем? Это какая-то дрянь, а не люди. просто дрянь, так себе, только числятся, а на деле их нет, и в этом я уверен. Вот они каковы, эти люди! А по-моему, родная моя, вот тот шарманщик, которого я сегодня в Гороховой встретил, скорее к себе почтение внушит, чем они. Он хоть целый день ходит да мается, ждет залежалого, негодного гроша на пропитание, да зато он сам себе господин, сам себя кормит. Он милостыни просить не хочет; зато он для удовольствия людского трудится, как заведенная машина, – вот, дескать, чем могу, принесу удовольствие. Нищий, нищий он, правда, все тот же нищий; но зато благородный нищий; он устал, он прозяб, но все трудится, хоть по-своему, а все-таки трудится. И много есть честных людей, маточка, которые хоть немного зарабатывают по мере и полезности труда своего, но никому не кланяются, ни у кого хлеба не просят. Вот и я точно так же, как и этот шарманщик, то есть я не то, вовсе не так, как он, но в своем смысле, в благородном-то, в дворянском-то отношении точно так же, как и он, по мере сил тружусь, чем могу, дескать. Большего нет от меня; ну, да на нет и суда нет. | By the time I had returned to Gorokhovaia Street darkness had fallen and the lamps had been lit. However, I did not linger long in that particular spot, for Gorokhovaia Street is too noisy a place. But what sumptuous shops and stores it contains! Everything sparkles and glitters, and the windows are full of nothing but bright colours and materials and hats of different shapes. One might think that they were decked merely for display; but no,—people buy these things, and give them to their wives! Yes, it IS a sumptuous place. Hordes of German hucksters are there, as well as quite respectable traders. And the quantities of carriages which pass along the street! One marvels that the pavement can support so many splendid vehicles, with windows like crystal, linings made of silk and velvet, and lacqueys dressed in epaulets and wearing swords! Into some of them I glanced, and saw that they contained ladies of various ages. Perhaps they were princesses and countesses! Probably at that hour such folk would be hastening to balls and other gatherings. In fact, it was interesting to be able to look so closely at a princess or a great lady. They were all very fine. At all events, I had never before seen such persons as I beheld in those carriages…. Then I thought of you. Ah, my own, my darling, it is often that I think of you and feel my heart sink. How is it that YOU are so unfortunate, Barbara? How is it that YOU are so much worse off than other people? In my eyes you are kind-hearted, beautiful, and clever—why, then, has such an evil fate fallen to your lot? How comes it that you are left desolate—you, so good a human being! While to others happiness comes without an invitation at all? Yes, I know—I know it well—that I ought not to say it, for to do so savours of free-thought; but why should that raven, Fate, croak out upon the fortunes of one person while she is yet in her mother’s womb, while another person it permits to go forth in happiness from the home which has reared her? To even an idiot of an Ivanushka such happiness is sometimes granted. “You, you fool Ivanushka,” says Fate, “shall succeed to your grandfather’s money-bags, and eat, drink, and be merry; whereas YOU (such and such another one) shall do no more than lick the dish, since that is all that you are good for.” Yes, I know that it is wrong to hold such opinions, but involuntarily the sin of so doing grows upon one’s soul. Nevertheless, it is you, my darling, who ought to be riding in one of those carriages. Generals would have come seeking your favour, and, instead of being clad in a humble cotton dress, you would have been walking in silken and golden attire. Then you would not have been thin and wan as now, but fresh and plump and rosy-cheeked as a figure on a sugar-cake. Then should I too have been happy—happy if only I could look at your lighted windows from the street, and watch your shadow—happy if only I could think that you were well and happy, my sweet little bird! Yet how are things in reality? Not only have evil folk brought you to ruin, but there comes also an old rascal of a libertine to insult you! Just because he struts about in a frockcoat, and can ogle you through a gold-mounted lorgnette, the brute thinks that everything will fall into his hands—that you are bound to listen to his insulting condescension! Out upon him! But why is this? It is because you are an orphan, it is because you are unprotected, it is because you have no powerful friend to afford you the decent support which is your due. WHAT do such facts matter to a man or to men to whom the insulting of an orphan is an offence allowed? Such fellows are not men at all, but mere vermin, no matter what they think themselves to be. Of that I am certain. Why, an organ-grinder whom I met in Gorokhovaia Street would inspire more respect than they do, for at least he walks about all day, and suffers hunger—at least he looks for a stray, superfluous groat to earn him subsistence, and is, therefore, a true gentleman, in that he supports himself. To beg alms he would be ashamed; and, moreover, he works for the benefit of mankind just as does a factory machine. “So far as in me lies,” says he, “I will give you pleasure.” True, he is a pauper, and nothing but a pauper; but, at least he is an HONOURABLE pauper. Though tired and hungry, he still goes on working—working in his own peculiar fashion, yet still doing honest labour. Yes, many a decent fellow whose labour may be disproportionate to its utility pulls the forelock to no one, and begs his bread of no one. I myself resemble that organ-grinder. That is to say, though not exactly he, I resemble him in this respect, that I work according to my capabilities, and so far as in me lies. More could be asked of no one; nor ought I to be adjudged to do more. |
| Я к тому про шарманщика этого заговорил, маточка, что случилось мне бедность свою вдвойне испытать сегодня. Остановился я посмотреть на шарманщика. Мысли такие лезли в голову, – так я, чтобы рассеяться, остановился. Стою я, стоят извозчики, девка какая-то, да еще маленькая девочка, вся такая запачканная. Шарманщик расположился перед чьими-то окнами. Замечаю малю яку, мальчика, так себе лет десяти; был бы хорошенький, да на вид больной такой, чахленький, в одной рубашонке да еще в чем-то. чугь ли не босой стоит, разиня рот музыку слушает – детский возраст! загляделся, как у немца куклы танцуют, а у самого и руки и ноги окоченели, дрожит да кончик рукава грызет. Примечаю, что в руках у него бумажечка какая-то. Прошел один господин и бросил шарманщику какую-то маленькую монетку; монетка прямо упала в тот ящик с огородочкой, в котором представлен француз, танцующий с дамами. Только что звякнула монетка, встрепенулся мой мальчик, робко осмотрелся кругом да, видно, на меня подумал, что я деньги дал. Подбежал он ко мне, ручонки дрожат у него, голосенок дрожит, протянул он ко мне бумажку и говорит: записка! Развернул я записку – ну что, все известное: дескать. благодетели мои, мать у детей умирает, трое детей голодают, так вы нам теперь помогите, а вот, как я умру, так за то, что птенцов моих теперь не забыли, на том свете вас, благодетели мои, не забуду. Ну, что тут; дело ясное, дело житейское, а что мне им дать? Ну, и не дал ему ничего. А как было жаль! Мальчик бедненький, посинелый от холода, может быть и голодный, и не врет, ей-ей, не врет; я это дело знаю. Но только то дурно, что зачем эти гадкие матери детей не берегут и полуголых с записками на такой холод посылают. Она, быть, глупая баба, характера не имеет; да за нее и постараться, может быть, некому, так она и сидит, поджав ноги, может быть, и вправду больная. Ну, да все обратиться бы, куда следует; а впрочем, может быть, и просто мошенница, нарочно голодного и чахлого ребенка обманывать народ посылает, на болезнь наводит. И чему аучится бедный мальчик с этими записками? Только сердце его ожесточается; ходит он, бегает, просит. Ходят люди, да некогда им. Сердца у них каменные; слова их жестокие. “Прочь! убирайся! шалишь!” Вот что слышит он от всех, и ожесточается сердце ребенка, и дрожит напрасно на холоде бедненький, запуганный мальчик, словно птенчик, из разбитого гнездышка выпавший. Зябнут у него руки и ноги; дух занимается. Посмотришь, вот он уж и кашляет; тут недалеко ждать, и болезнь, как гад нечистый, заползет ему в грудь, а там, глядишь, и смерть уж стоит над ним, где-нибудь в смрадном углу, без ухода, без помощи – вот и вся его жизнь! Вот какова она, жизнь-то бывает! Ох, Варенька, мучительно слышать Христа ради, и мимо пройти, и не дать ничего, сказать ему: “Бог подаст”. Иное Христа ради еще ничего. (И Христа ради-то разные бывают, маточка.) Иное долгое, протяжное, привычное, заученное, прямо нищенское; этому еще не так мучительно не подать, это долгий нищий, давнишний, по ремеслу нищий, этот привык, думаешь, он переможет и знает, как перемочь. А иное Христа ради непривычное, грубое, страшное, – вот как сегодня, когда я было от мальчика записку взял, тут же у забора какой-то стоял, не у всех и просил, говорит мне: “Дай, барин, грош ради Христа!” – да таким отрывистым, грубым голосом, что я вздрогнул от какого-то страшного чувства, а не дал гроша: не было. А еще люди богатые не любят, чтобы бедняки на худой жребий вслух жаловались,дескать, они беспокоят, они-де назойливы! Да и всегда бедность назойлива, – спать, что ли, мешают их стоны голодные! | Apropos of the organ-grinder, I may tell you, dearest, that today I experienced a double misfortune. As I was looking at the grinder, certain thoughts entered my head and I stood wrapped in a reverie. Some cabmen also had halted at the spot, as well as a young girl, with a yet smaller girl who was dressed in rags and tatters. These people had halted there to listen to the organ-grinder, who was playing in front of some one’s windows. Next, I caught sight of a little urchin of about ten—a boy who would have been good-looking but for the fact that his face was pinched and sickly. Almost barefooted, and clad only in a shirt, he was standing agape to listen to the music—a pitiful childish figure. Nearer to the grinder a few more urchins were dancing, but in the case of this lad his hands and feet looked numbed, and he kept biting the end of his sleeve and shivering. Also, I noticed that in his hands he had a paper of some sort. Presently a gentleman came by, and tossed the grinder a small coin, which fell straight into a box adorned with a representation of a Frenchman and some ladies. The instant he heard the rattle of the coin, the boy started, looked timidly round, and evidently made up his mind that I had thrown the money; whereupon, he ran to me with his little hands all shaking, and said in a tremulous voice as he proffered me his paper: “Pl-please sign this.” I turned over the paper, and saw that there was written on it what is usual under such circumstances. “Kind friends I am a sick mother with three hungry children. Pray help me. Though soon I shall be dead, yet, if you will not forget my little ones in this world, neither will I forget you in the world that is to come.” The thing seemed clear enough; it was a matter of life and death. Yet what was I to give the lad? Well, I gave him nothing. But my heart ached for him. I am certain that, shivering with cold though he was, and perhaps hungry, the poor lad was not lying. No, no, he was not lying. The shameful point is that so many mothers take no care of their children, but send them out, half-clad, into the cold. Perhaps this lad’s mother also was a feckless old woman, and devoid of character? Or perhaps she had no one to work for her, but was forced to sit with her legs crossed—a veritable invalid? Or perhaps she was just an old rogue who was in the habit of sending out pinched and hungry boys to deceive the public? What would such a boy learn from begging letters? His heart would soon be rendered callous, for, as he ran about begging, people would pass him by and give him nothing. Yes, their hearts would be as stone, and their replies rough and harsh. “Away with you!” they would say. “You are seeking but to trick us.” He would hear that from every one, and his heart would grow hard, and he would shiver in vain with the cold, like some poor little fledgling that has fallen out of the nest. His hands and feet would be freezing, and his breath coming with difficulty; until, look you, he would begin to cough, and disease, like an unclean parasite, would worm its way into his breast until death itself had overtaken him—overtaken him in some foetid corner whence there was no chance of escape. Yes, that is what his life would become. There are many such cases. Ah, Barbara, it is hard to hear “For Christ’s sake!” and yet pass the suppliant by and give nothing, or say merely: “May the Lord give unto you!” Of course, SOME supplications mean nothing (for supplications differ greatly in character). Occasionally supplications are long, drawn-out and drawling, stereotyped and mechanical—they are purely begging supplications. Requests of this kind it is less hard to refuse, for they are purely professional and of long standing. “The beggar is overdoing it,” one thinks to oneself. “He knows the trick too well.” But there are other supplications which voice a strange, hoarse, unaccustomed note, like that today when I took the poor boy’s paper. He had been standing by the kerbstone without speaking to anybody—save that at last to myself he said, “For the love of Christ give me a groat!” in a voice so hoarse and broken that I started, and felt a queer sensation in my heart, although I did not give him a groat. Indeed, I had not a groat on me. Rich folk dislike hearing poor people complain of their poverty. “They disturb us,” they say, “and are impertinent as well. Why should poverty be so impertinent? Why should its hungry moans prevent us from sleeping?” |
| Признательно вам сказать, родная моя, начал я вам описывать это все частию, чтоб сердце отвести, а более для того, чтоб вам образец хорошего слогу моих сочинений показать. Потому что вы, верно, сами сознаетесь, маточка, что у меня с недавнего времени слог формируется. Но теперь на меня такая тоска нашла, что я сам моим мыслям до глубины души стал сочувствовать, и хотя я сам знаю, маточка, что этим сочувствием не возьмешь, но все-таки некоторым образом справедливость воздашь себе. И подлинно, родная моя, часто самого себя безо всякой причины уничтожаешь, в грош не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравнением выразиться, так это, может быть, оттого происходит, что я сам запуган и загнан, как хоть бы и этот бедненький мальчик, что милостыни у меня просил. Теперь я вам, примерно, иносказательно буду говорить, маточка; вот послушайте-ка меня: случается мне, моя родная, рано утром, на службу спеша, заглядеться на город, как он там пробуждается, встает, дымится, кипит, гремит,тут иногда так перед таким зрелищем умалишься, что как будто бы щелчок какой получил от кого-нибудь по любопытному носу, да и поплетешься тише воды, ниже травы своею дорогою и рукой махнешь! Теперь же разглядите-ка, что в этих черных, закоптелых, больших, капитальных домах делается, вникните в это, и тогда сами рассудите, справедливо ли было без толку сортировать себя и в недостойчое смущение входить. Заметьте, Варенька, что я иносказательно говорю, не в прямом смысле. Ну, посмотрим, что там такое в этих домах? Там в каком-нибудь дымном углу, в конуре сырой какой-нибудь, которая, по нужде, за квартиру считается, мастеровой какой-нибудь от сна пробудился; а во сне-то ему, примерно говоря, всю ночь сапоги снились, что вчера он подрезал нечаянно, как будто именно такая дрянь и должна человеку сниться! Ну да ведь он мастеровой, он сапожник: ему простительно все об одном предмете своем думать. У него там дети пищат и жена голодная; и не одна сапожники встают иногда так, родная моя. Это бы и ничего, и писать бы об этом не стоило, но вот какое выходит тут обстоятельство, маточка: тут же, в этом же доме, этажом выше или ниже, в позлащенных палатах, и богатейшему лицу все те же сапоги, может быть, ночью снились, то есть на другой манер сапоги, фасона другого, но все-таки сапоги; ибо в смысле-то, здесь мною подразумеваемом, маточка, все мы, родная моя, выходим немного сапожники. И это бы все ничего, но только то дурно, что нет никого подле этого богатейшего лица, нет человека, который бы шепнул ему на ухо, что “полно, дескать, о таком думать, о себе одном думать, для себя одного жить, ты, дескать, не сапожник, у тебя дети здоровы и жена есть не просит; оглянись кругом, не увидишь ли для забот своих предмета более благородчого, чем свои сапоги!” Вот что хотел я сказать вам иносказательно, Варенька. Это, может быть, слишком вольная мысль, родная моя, но эта мысль иногда бывает, иногда приходит и тогда поневоле из сердца горячим словом выбивается. И потому не от чего было в грош себя оценять, испугавшись одного шума и грома! Заключу же тем, маточка, что вы, может быть, подумаете, что я вам клевету говорю, или что это так, хандра на меня нашла, или что я это из книжки какой выписал? Нет, маточка, вы разуверьтесь, – не то: клеветою гнушаюсь, хандра не находила и ни из какой книжки ничего не выписывал,вот что! | To tell you the truth, my darling, I have written the foregoing not merely to relieve my feelings, but, also, still more, to give you an example of the excellent style in which I can write. You yourself will recognise that my style was formed long ago, but of late such fits of despondency have seized upon me that my style has begun to correspond to my feelings; and though I know that such correspondence gains one little, it at least renders one a certain justice. For not unfrequently it happens that, for some reason or another, one feels abased, and inclined to value oneself at nothing, and to account oneself lower than a dishclout; but this merely arises from the fact that at the time one is feeling harassed and depressed, like the poor boy who today asked of me alms. Let me tell you an allegory, dearest, and do you hearken to it. Often, as I hasten to the office in the morning, I look around me at the city—I watch it awaking, getting out of bed, lighting its fires, cooking its breakfast, and becoming vocal; and at the sight, I begin to feel smaller, as though some one had dealt me a rap on my inquisitive nose. Yes, at such times I slink along with a sense of utter humiliation in my heart. For one would have but to see what is passing within those great, black, grimy houses of the capital, and to penetrate within their walls, for one at once to realise what good reason there is for self-depredation and heart-searching. Of course, you will note that I am speaking figuratively rather than literally. Let us look at what is passing within those houses. In some dingy corner, perhaps, in some damp kennel which is supposed to be a room, an artisan has just awakened from sleep. All night he has dreamt—IF such an insignificant fellow is capable of dreaming?—about the shoes which last night he mechanically cut out. He is a master-shoemaker, you see, and therefore able to think of nothing but his one subject of interest. Nearby are some squalling children and a hungry wife. Nor is he the only man that has to greet the day in this fashion. Indeed, the incident would be nothing—it would not be worth writing about, save for another circumstance. In that same house ANOTHER person—a person of great wealth—may also have been dreaming of shoes; but, of shoes of a very different pattern and fashion (in a manner of speaking, if you understand my metaphor, we are all of us shoemakers). This, again, would be nothing, were it not that the rich person has no one to whisper in his ear: “Why dost thou think of such things? Why dost thou think of thyself alone, and live only for thyself—thou who art not a shoemaker? THY children are not ailing. THY wife is not hungry. Look around thee. Can’st thou not find a subject more fitting for thy thoughts than thy shoes?” That is what I want to say to you in allegorical language, Barbara. Maybe it savours a little of free-thought, dearest; but, such ideas WILL keep arising in my mind and finding utterance in impetuous speech. Why, therefore, should one not value oneself at a groat as one listens in fear and trembling to the roar and turmoil of the city? Maybe you think that I am exaggerating things—that this is a mere whim of mine, or that I am quoting from a book? No, no, Barbara. You may rest assured that it is not so. Exaggeration I abhor, with whims I have nothing to do, and of quotation I am guiltless. |
| Пришел я в грустном расположении духа домой, присел к столу, нагрел себе чайник, да и приготовился стаканчик-другой чайку хлебнуть. Вдруг, смотрю, входит ко мне Горшков, наш бедный постоялец. Я еще утром заметил, что он все что-то около жильцов шныряет и ко мне хотел подойти. А мимоходом скажу, маточка, что их житье-бытье не в пример моего хуже. Куда! жена, дети! Так что если бы я был Горшков, так уж я не знаю, что бы я на его месте сделал! Ну, так вот, вошел мой Горшков, кланяется, слезинка у него, как и всегда, на ресницах гноится, шаркает ногами, а сам слова не может сказать Я его посадил на стул, правда на изломанный, да другого не было. Чайку предложил. Он извинялся, дол го извинялся, наконец, однако же,взял стакан. Хотел было без сахару пить, начал опять извиняться, когда я стал уверять его. что нужно взять сахару, долго спорил, отказываясь, наконец положил в свой стакан самый маленький кусочек и стал уверять, что чай неооыкновенно сладок. Эк, до уничижения какого доводит людей нищета! “Ну, как же, что, батюшка”? – сказал я ему. “Да вот так и так, дескать, благодетель вы мой, Макар Алексеевич, явите милость господню, окажите помощь семей ству несчастному; дети и жена, есть нечего; отцу-то, мне-то, говорит, каково!” Я было хотел говорить, да он меня прервал: “Я,дескать, всех боюсь здесь,Макар Алек сеевич, то есть не то что боюсь, а так, знаете, совестно; люди-то они все гордые и кичливые. Я бы, говорит, вас, батюшка и благодетель мой, и утруждать бы не стал: знаю, что у вас самих неприятности были, знаю, что вы многого и не можете дать, но хоть что-нибудь взаймы одолжите; и потому, говорит, просить вас осмелился, что знаю ваше доброе сердце, знаю, что вы сами нуждались, что сами и теперь бедствия испытываете – и что сердце то ваше потому и чувствует сострадание”. Заключил же он тем, что, дескать, простите мою дерзость и мое не приличие, Макар Алексеевич. Я отвечаю ему, что рад бы душой, да что нет у меня ничего, ровно нет ничего. “Батюшка, Макар Алексеевич, – говорит он мне, – я многого и не прошу, а вот так и так (тут он весь покраснел), жена, говорит, дети, – голодно – хоть гривенничек какой-нибудь”. Ну, тут уж мне самому сердце защемило. Куда, думаю, меня перещеголяли! А всего-то у меня и оставалось двадцать копеек, да я на них рассчитывал хотел завтра на свои крайние нужды истратить. “Нет, голубчик мой, не могу; вот так и так”, – говорю. “Батюшка, Макар Алексеевич, хоть что хотите, говорит, хоть десять копеек”. Ну я ему и вынул из ящика и отдал свои двадцать копеек, маточка, все доброе дело! Эк, нищета-то! Разговорился я с ним: да как же вы, батюшка, спрашиваю, так зануждались, да еще при таких нуждах комнату в пять рублей серебром нанимаете? Объяснил он мне, что полгода назад нанял и деньги внес вперед за три месяца; да потом обстоятельства такие сошлись, что ни туда ни сюда ему, бедному. Ждал он, что дело его к этому времени кончится. А дело у него неприятное. Он, видите ли, Варенька. за что-то перед судом в ответе находится. Тягается он с купцом каким-то, который сплутовал подрядом с казною; обман открыли, купца под суд. а он в дело-то свое разбойничье и Горшкова запутал, который тут как-то также случился. А по правде-то Горняков виновен только в нерадении, в неосмотрительности и в непростительном упущении из вида казенного интереса. Уж неколько лет дело идет: все препятствия разные встречаются против Горшкова. “В бесчестии же, на меня возводимом, – говорит мне Горшков,неповинен, нисколько неповинен, в плутовстве и грабеже неповинен”. Дело это его замарало немного; его исключили из службы, и хотя не нашли, что он капитально виновен, но, до совершенного своего оправдания, он до сих пор не может выправить с купца какой-то знатной суммы денег, ему следуемой и перед судом у него оспариваемой. Я ему верю, да суд-то ему на слово не верит; дело-то оно такое, что все в крючках да в узлах таких, что во сто лет не распутаешь. Чуть немного распутают, а купец еще крючок да еще крючок. Я принимаю сердечиое участие в Горшкове, родная моя, соболезную ему. Человек без должности; за ненадежность никуда не принимается; что было запасу, проели; дело занутано, а между тем жить было нужно; а между тем ни с того ни с сего, совершенно некстати, ребенок родился, – ну, вот издержки; сын заболел – издержки, умер – издержки; жена больна; он нездоров застарелой болезнью какой-то: одним словом, пострадал, вполне пострадал. Впрочем, говорит, что ждет на днях благоприятного решения своего дела и что уж в этом теперь и сомнения нет никакого. Жаль, жаль, очень жаль его. маточка! Я его обласкал. Человек-то он затерянный, запутанный; покровительства ищет, так вот я его и обласкал. Ну, прощайте же, маточка, Христос с вами, будьте здоровы. Голубчик вы мой! Как вспомню об вас, так точно лекарство -приложу к больной душе моей, и хоть страдаю за вас, но и страдать эа вас мне легко. | I arrived home today in a melancholy mood. Sitting down to the table, I had warmed myself some tea, and was about to drink a second glass of it, when there entered Gorshkov, the poor lodger. Already, this morning, I had noticed that he was hovering around the other lodgers, and also seeming to want to speak to myself. In passing I may say that his circumstances are infinitely worse than my own; for, only think of it, he has a wife and children! Indeed, if I were he, I do not know what I should do. Well, he entered my room, and bowed to me with the pus standing, as usual, in drops on his eyelashes, his feet shuffling about, and his tongue unable, at first, to articulate a word. I motioned him to a chair (it was a dilapidated enough one, but I had no other), and asked him to have a glass of tea. To this he demurred—for quite a long time he demurred, but at length he accepted the offer. Next, he was for drinking the tea without sugar, and renewed his excuses, but upon the sugar I insisted. After long resistance and many refusals, he DID consent to take some, but only the smallest possible lump; after which, he assured me that his tea was perfectly sweet. To what depths of humility can poverty reduce a man! “Well, what is it, my good sir?” I inquired of him; whereupon he replied: “It is this, Makar Alexievitch. You have once before been my benefactor. Pray again show me the charity of God, and assist my unfortunate family. My wife and children have nothing to eat. To think that a father should have to say this!” I was about to speak again when he interrupted me. “You see,” he continued, “I am afraid of the other lodgers here. That is to say, I am not so much afraid of, as ashamed to address them, for they are a proud, conceited lot of men. Nor would I have troubled even you, my friend and former benefactor, were it not that I know that you yourself have experienced misfortune and are in debt; wherefore, I have ventured to come and make this request of you, in that I know you not only to be kind-hearted, but also to be in need, and for that reason the more likely to sympathise with me in my distress.” To this he added an apology for his awkwardness and presumption. I replied that, glad though I should have been to serve him, I had nothing, absolutely nothing, at my disposal. “Ah, Makar Alexievitch,” he went on, “surely it is not much that I am asking of you? My-my wife and children are starving. C-could you not afford me just a grivennik?” At that my heart contracted, “How these people put me to shame!” thought I. But I had only twenty kopecks left, and upon them I had been counting for meeting my most pressing requirements. “No, good sir, I cannot,” said I. “Well, what you will,” he persisted. “Perhaps ten kopecks?” Well I got out my cash-box, and gave him the twenty. It was a good deed. To think that such poverty should exist! Then I had some further talk with him. “How is it,” I asked him, “that, though you are in such straits, you have hired a room at five roubles?” He replied that though, when he engaged the room six months ago, he paid three months’ rent in advance, his affairs had subsequently turned out badly, and never righted themselves since. You see, Barbara, he was sued at law by a merchant who had defrauded the Treasury in the matter of a contract. When the fraud was discovered the merchant was prosecuted, but the transactions in which he had engaged involved Gorshkov, although the latter had been guilty only of negligence, want of prudence, and culpable indifference to the Treasury’s interests. True, the affair had taken place some years ago, but various obstacles had since combined to thwart Gorshkov. “Of the disgrace put upon me,” said he to me, “I am innocent. True, I to a certain extent disobeyed orders, but never did I commit theft or embezzlement.” Nevertheless the affair lost him his character. He was dismissed the service, and though not adjudged capitally guilty, has been unable since to recover from the merchant a large sum of money which is his by right, as spared to him (Gorshkov) by the legal tribunal. True, the tribunal in question did not altogether believe in Gorshkov, but I do so. The matter is of a nature so complex and crooked that probably a hundred years would be insufficient to unravel it; and, though it has now to a certain extent been cleared up, the merchant still holds the key to the situation. Personally I side with Gorshkov, and am very sorry for him. Though lacking a post of any kind, he still refuses to despair, though his resources are completely exhausted. Yes, it is a tangled affair, and meanwhile he must live, for, unfortunately, another child which has been born to him has entailed upon the family fresh expenses. Also, another of his children recently fell ill and died—which meant yet further expense. Lastly, not only is his wife in bad health, but he himself is suffering from a complaint of long standing. In short, he has had a very great deal to undergo. Yet he declares that daily he expects a favourable issue to his affair—that he has no doubt of it whatever. I am terribly sorry for him, and said what I could to give him comfort, for he is a man who has been much bullied and misled. He had come to me for protection from his troubles, so I did my best to soothe him. Now, goodbye, my darling. May Christ watch over you and preserve your health. Dearest one, even to think of you is like medicine to my ailing soul. Though I suffer for you, I at least suffer gladly. |
| Ваш истинный друг | —Your true friend, |
| Макар Девушкин. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Сентября 9. | September 9th. |
| Матушка, Варвара Алексеевна! | MY DEAREST BARBARA ALEXIEVNA, |
| Пишу вам вне себя. Я весь взволнован страшным происшествием. Голова моя вертится кругом. Я чувствую, что все кругом меня вертится. Ах, родная моя, что я расскажу вам теперь! Вот мы и не предчувствовали этого. Нет, я не верю, чтобы я не предчувствовал; я все это предчувствовал. Все это заранее слышалось моему сердцу! Я даже намедни во сне что-то видел подобное. | —I am beside myself as I take up my pen, for a most terrible thing has happened. My head is whirling round. Ah, beloved, how am I to tell you about it all? I had never foreseen what has happened. But no—I cannot say that I had NEVER foreseen it, for my mind DID get an inkling of what was coming, through my seeing something very similar to it in a dream. |
| Вот что случилось! Расскажу вам без слога, а так, как мне на душу господь положит. Пошел я сегодня в должность. Пришел, сижу, пишу. А нужно вам знать, маточка, что я и вчера писал тоже. Ну, так вот вчера подходит ко мне Тимофей Иванович и лично изволит наказывать, что – вот, дескать, бумага нужная, спешная. Перепишите, говорит, Макар Алексеевич, почище, поспешно и тщательно: сегодня к подписанию идет. Заметить вам нужно, ангельчик, что вчерашнего дня я был сам не свой, ни на что и глядеть не хотелось; грусть, тоска такая напала! На сердце холодно, на душе темно; в памяти все вы были, моя бедная ясочка. Ну, вот я принялся переписывать: переписал чисто, хорошо, только уж не знаю, как вам точнее сказать, сам ли нечистый меня попутал, или тайными судьбами какими определено было, или просто так должно было сделаться, – только пропустил я целую строчку; смысл-то и вышел господь его знает какой, просто никакого не вышло. С бумагой-то вчера опоздали и подали ее на подписание его превосходительству только сегодня. Я как ни в чем ни бывало являюсь сегодня в обычный час и располагаюсь рядком с Емельяном Ивановичем. Нужно вам заметить, родная, что я с недавнего времени стал вдвое более прежнего совеститься и в стыд приходить. Я в последнее время и не глядел ни на кого. Чуть стул заскрипит у кого-нибудь, так уж я и ни жив ни мертв. Вот точно так сегодня, приник, присмирел, ежом сижу, так что Ефим Акимович (такой задирала, какого и на свете до него не было) сказал во всеуслышание: что, дескать, вы, Макар Алексеевич, сидите таким у-у-у? да тут такую гримасу скорчил, что все, кто около него и меня ни были, так и покатились со смеху, и, уж разумеется, на мой счет. И пошли, и пошли! Я и уши прижал и глаза зажмурил, сижу себе, не пошевелюсь. Таков уж обычай мой; они этак скорей отстают. Вдруг слышу шум, беготня, суетня; слышу – не обманываются ли уши мои? зовут меня, требуют меня, зовут Девушкина. Задрожало у меня сердце в груди, и уж сам не знаю, чего я испугался; только знаю то, что я так испугался, как никогда еще в жизни со мной не было. Я прирос к стулу, – и как ни в чем не бывало, точно и не я. Но вот опять начали, ближе и ближе. Вот уж над самым ухом моим: дескать, Девушкина! Девушкина! где Девушкин? Подымаю глаза: передо мною Евстафий Иванович; говорит: “Макар Алексеевич, к его прево:ходительству, скорее! Беды вы с бумагой наделали!” Только это одно и сказал, да довольно, не правда ли, маточка, довольно сказано было? Я помертвел, оледенел, чувств лишился, иду – ну, да уж просто ни жив ни мертв отправился. Ведут меня через одну комнату, через другую комнату, через третью комнату, в кабинет – предстал! Положительного отчета, об чем я тогда думал, я вам дать не могу. Вижу, стоят его превосходительство, вокруг него все они. Я, кажется, не поклонился; позабыл. Оторопел та к.. что и губы трясутся и ноги трясутся. Да и было отчего, маточка. Во-первых, совестно; я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел. А во-вторых, я всегда делал так, как будто бы меня и на свете не было. Так что едва ли его превосходительство были известны о существовании моем. Может быть, слышали, так, мельком, что есть у них в ведомстве Девушкин, но в кратчайшие сего сношения никогда не входили. | I will tell you the whole story—simply, and as God may put it into my heart. Today I went to the office as usual, and, upon arrival, sat down to write. You must know that I had been engaged on the same sort of work yesterday, and that, while executing it, I had been approached by Timothei Ivanovitch with an urgent request for a particular document. “Makar Alexievitch,” he had said, “pray copy this out for me. Copy it as quickly and as carefully as you can, for it will require to be signed today.” Also let me tell you, dearest, that yesterday I had not been feeling myself, nor able to look at anything. I had been troubled with grave depression—my breast had felt chilled, and my head clouded. All the while I had been thinking of you, my darling. Well, I set to work upon the copying, and executed it cleanly and well, except for the fact that, whether the devil confused my mind, or a mysterious fate so ordained, or the occurrence was simply bound to happen, I left out a whole line of the document, and thus made nonsense of it! The work had been given me too late for signature last night, so it went before his Excellency this morning. I reached the office at my usual hour, and sat down beside Emelia Ivanovitch. Here I may remark that for a long time past I have been feeling twice as shy and diffident as I used to do; I have been finding it impossible to look people in the face. Let only a chair creak, and I become more dead than alive. Today, therefore, I crept humbly to my seat and sat down in such a crouching posture that Efim Akimovitch (the most touchy man in the world) said to me sotto voce: “What on earth makes you sit like that, Makar Alexievitch?” Then he pulled such a grimace that everyone near us rocked with laughter at my expense. I stopped my ears, frowned, and sat without moving, for I found this the best method of putting a stop to such merriment. All at once I heard a bustle and a commotion and the sound of someone running towards us. Did my ears deceive me? It was I who was being summoned in peremptory tones! My heart started to tremble within me, though I could not say why. I only know that never in my life before had it trembled as it did then. Still I clung to my chair—and at that moment was hardly myself at all. The voices were coming nearer and nearer, until they were shouting in my ear: “Dievushkin! Dievushkin! Where is Dievushkin?” Then at length I raised my eyes, and saw before me Evstafi Ivanovitch. He said to me: “Makar Alexievitch, go at once to his Excellency. You have made a mistake in a document.” That was all, but it was enough, was it not? I felt dead and cold as ice—I felt absolutely deprived of the power of sensation; but, I rose from my seat and went whither I had been bidden. Through one room, through two rooms, through three rooms I passed, until I was conducted into his Excellency’s cabinet itself. Of my thoughts at that moment I can give no exact account. I merely saw his Excellency standing before me, with a knot of people around him. I have an idea that I did not salute him—that I forgot to do so. Indeed, so panic-stricken was I, that my teeth were chattering and my knees knocking together. In the first place, I was greatly ashamed of my appearance (a glance into a mirror on the right had frightened me with the reflection of myself that it presented), and, in the second place, I had always been accustomed to comport myself as though no such person as I existed. Probably his Excellency had never before known that I was even alive. Of course, he might have heard, in passing, that there was a man named Dievushkin in his department; but never for a moment had he had any intercourse with me. |
| Начали гневно: “Как же это вы, сударь! Чего вы смотрите? нужная бумага, нужно к спеху, а вы ее портите. И как же вы это”, – тут его превосходительство обратились к Евстафию Ивановичу. Я только слышу, как до меня звуки слов долетают: “Нераденье! неосмотрательность! Вводите в неприятности!” Я раскрыл было рот для чего-то. Хотел было прощения просить, да не мог, убежать – покуситься не смел, и тут… тут, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу от стыда. Моя пуговка – ну ее к бесу – пуговка, что висела у меня на ниточке, – вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), зазвенела, покатилась и прямо, так-таки прямо, проклятая, к стопам его превосходительства, и это посреди всеобщего молчания! Вот и все было мое оправдание, все извинение, весь ответ, все, что я собирался сказать его превосходительству! Последствия были ужасны! Его превосходительство тотчас обратили внимание на фигуру мою и на мой костюм. Я вспомнил, что я видел в зеркале: я бросился ловить пуговку! Нашла на меня дурь! Нагнулся, хочу взять пуговку, – катается, вертится, не могу поймать, словом, и в отношении ловкости отличился. Тут уж я чувствую, что и последние силы меня оставляют, что уж все, все потеряно! Вся репутация потеряна, весь человек пропал! А тут в обоих ушах ни с того ни с сего и Тереза и Фальдони, и пошло перезванивать. Наконец поймал пуговку, приподнялся, вытянулся, да уж, коли дурак, так стоял бы себе смирно, руки по швам! Так нет же: начал пуговку к оторванным ниткам прилаживать, точно оттого она и пристанет; да еще улыбаюсь, да еще улыбаюсь. Его превосходительство отвернулись сначала, потом опять на меня взглянули – слышу, говорят Евстафию Ивановичу: “Как же?.. посмотрите, в каком он виде!.. как он!.. что он!..” Ах, родная моя, что уж тут – как он? Да что он? отличился! Слышу, Евстафий Иванович говорит: “Не замечен, ни в чем не замечен, поведения примерного, жалованья достаточно, по окладу…” – “Ну, облегчить его как-нибудь, – говорит его превосходительство. – Выдать ему вперед…” – “Да забрал, говорят, забрал, вот за столько-то времени вперед забрал. Обстоятельства, верно, такие, а поведения хорошего и не замечен, никогда не замечен”. Я, ангельчик мой, горел,я в адском огне горел! Я умирал! “Ну, – говорят его превосходительство громко, – переписать же вновь поскорее; Девушкин, подойдите сюда, перепишите опять вновь без ошибки; да послушайте…” Тут его превосходительство обернулись к прочим, роздали приказания разные, и все разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспешно вынимают книжник и из него сторублевую. “Вот,говорят они, – чем могу, считайте, как хотите…” – да и всунул мне в руку. Я, ангел мой, вздрогнул, вся душа моя потряслась; не знаю, что было со мною; я было схватить их ручку хотел. А он-то весь покраснел, мой голубчик, да – вот уж тут ни на волосок от правды не отступаю, родная моя: взял мою руку недостойную, да и потряс ее, так-таки взял да потряс, словно ровне своей, словно такому же, как сам, генералу. “Ступайте, говорит, чем могу… Ошибок не делайте, а теперь грех пополам”. | He began angrily: “What is this you have done, sir? Why are you not more careful? The document was wanted in a hurry, and you have gone and spoiled it. What do you think of it?”—the last being addressed to Evstafi Ivanovitch. More I did not hear, except for some flying exclamations of “What negligence and carelessness! How awkward this is!” and so on. I opened my mouth to say something or other; I tried to beg pardon, but could not. To attempt to leave the room, I had not the hardihood. Then there happened something the recollection of which causes the pen to tremble in my hand with shame. A button of mine—the devil take it!—a button of mine that was hanging by a single thread suddenly broke off, and hopped and skipped and rattled and rolled until it had reached the feet of his Excellency himself—this amid a profound general silence! THAT was what came of my intended self-justification and plea for mercy! THAT was the only answer that I had to return to my chief! The sequel I shudder to relate. At once his Excellency’s attention became drawn to my figure and costume. I remembered what I had seen in the mirror, and hastened to pursue the button. Obstinacy of a sort seized upon me, and I did my best to arrest the thing, but it slipped away, and kept turning over and over, so that I could not grasp it, and made a sad spectacle of myself with my awkwardness. Then there came over me a feeling that my last remaining strength was about to leave me, and that all, all was lost—reputation, manhood, everything! In both ears I seemed to hear the voices of Theresa and Phaldoni. At length, however, I grasped the button, and, raising and straightening myself, stood humbly with clasped hands—looking a veritable fool! But no. First of all I tried to attach the button to the ragged threads, and smiled each time that it broke away from them, and smiled again. In the beginning his Excellency had turned away, but now he threw me another glance, and I heard him say to Evstafi Ivanovitch: “What on earth is the matter with the fellow? Look at the figure he cuts! Who to God is he?” Ah, beloved, only to hear that, “Who to God is he?” Truly I had made myself a marked man! In reply to his Excellency Evstafi murmured: “He is no one of any note, though his character is good. Besides, his salary is sufficient as the scale goes.” “Very well, then; but help him out of his difficulties somehow,” said his Excellency. “Give him a trifle of salary in advance.” “It is all forestalled,” was the reply. “He drew it some time ago. But his record is good. There is nothing against him.” At this I felt as though I were in Hell fire. I could actually have died! “Well, well,” said his Excellency, “let him copy out the document a second time. Dievushkin, come here. You are to make another copy of this paper, and to make it as quickly as possible.” With that he turned to some other officials present, issued to them a few orders, and the company dispersed. No sooner had they done so than his Excellency hurriedly pulled out a pocket-book, took thence a note for a hundred roubles, and, with the words, “Take this. It is as much as I can afford. Treat it as you like,” placed the money in my hand! At this, dearest, I started and trembled, for I was moved to my very soul. What next I did I hardly know, except that I know that I seized his Excellency by the hand. But he only grew very red, and then—no, I am not departing by a hair’s-breadth from the truth—it is true—that he took this unworthy hand in his, and shook it! Yes, he took this hand of mine in his, and shook it, as though I had been his equal, as though I had been a general like himself! “Go now,” he said. “This is all that I can do for you. Make no further mistakes, and I will overlook your fault.” |
| Теперь, маточка, вот как я решил: вас и Федору прошу, и если бы дети у меня были, то и им бы повелел, чтобы богу молились, то есть вот как: за родного отца не молились бы, а за его превосходительство каждодневно и вечно бы молились! Еще скажу, маточка, и это торжественно говорю – слушайте меня, маточка, хорошенько – клянусь, что как ни погибал я от скорби душевной в лютые дни нашего злополучия, глядя на вас, на ваши бедствия, и на себя, на унижение мое и мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вам, что не так мне сто рублей дороги, как то, что его превосходительство сами мне, соломе, пьянице, руку мою недостойную пожать изволили! Этим они меня самому себе воэвратили. Этим поступком они мой дух воскресили, жизнь мне слаше навеки сделали, и я твердо уверен, что я как ни грешен перед всевышним, но молитва о счастии и благополучии его превосходительства дойдет до престола его!.. | What I think about it is this: I beg of you and of Thedora, and had I any children I should beg of them also, to pray ever to God for his Excellency. I should say to my children: “For your father you need not pray; but for his Excellency, I bid you pray until your lives shall end.” Yes, dear one—I tell you this in all solemnity, so hearken well unto my words—that though, during these cruel days of our adversity, I have nearly died of distress of soul at the sight of you and your poverty, as well as at the sight of myself and my abasement and helplessness, I yet care less for the hundred roubles which his Excellency has given me than for the fact that he was good enough to take the hand of a wretched drunkard in his own and press it. By that act he restored me to myself. By that act he revived my courage, he made life forever sweet to me…. Yes, sure am I that, sinner though I be before the Almighty, my prayers for the happiness and prosperity of his Excellency will yet ascend to the Heavenly Throne!… |
| Маточка! Я теперь в душевном расстройстве ужасном, в волнении ужасном! Мое сердце бьется, хочет из груди выпрыгнуть. И я сам как-то весь как будто ослаб. Посылаю вам сорок пять рублей ассигнациями, двадцать рублей хозяйке даю, у себя тридцать пять оставляю: на двадцать платье поправлю, а пятнадцать оставлю на житье-бытье. А только теперь все эти впечатления-то утренние потрясли все существование мое. Я прилягу. Мне, впрочем, покойно, очень покойно. Только душу ломит, и слышно там, в глубине, душа моя дрожит, трепещет, шевелится. Я приду к вам; а теперь я просто хмелен от всех ощущений этих… Бог видит все, маточка вы моя, голубушка вы моя бесценная! | But, my darling, for the moment I am terribly agitated and distraught. My heart is beating as though it would burst my breast, and all my body seems weak…. I send you forty-five roubles in notes. Another twenty I shall give to my landlady, and the remaining thirty-five I shall keep—twenty for new clothes and fifteen for actual living expenses. But these experiences of the morning have shaken me to the core, and I must rest awhile. It is quiet, very quiet, here. My breath is coming in jerks—deep down in my breast I can hear it sobbing and trembling…. I will come and see you soon, but at the moment my head is aching with these various sensations. God sees all things, my darling, my priceless treasure! |
| Ваш достойный друг | —Your steadfast friend, |
| Макар Девушкин. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Сентября 10. | September 10th. |
| Любезный мой Макар Алексеевич! | MY BELOVED MAKAR ALEXIEVITCH, |
| Я несказанно рада вашему счастию и умею ценить добродетели вашего начальника, друг мой. Итак, теперь вы отдохнете от горя! Но только, ради бога, не тратьте опять денег попусту. Живите тихонько, как можно скромнее, и с этого же дня начинайте всегда хоть что-нибудь откладывать, чтоб несчастия не застали вас опять внезапно. Об нас, ради бога, не беспокойтесь. Мы с Федорой кое-как проживем. К чему вы нам денег столько прислали, Макар Алексеевич? Нам вовсе не нужно. Мы довольны и тем, что у нас есть. Правда, нам скоро понадобятся деньги на переезд с этой квартиры, но Федора надеется получить с кого-то давнишний, старый долг. Оставляю, впрочем, себе двадцать рублей на крайние надобности. Остальные посылаю вам назад. Берегите, пожалуйста, деньги, Макар Алексеевич. Прощайте. Живите теперь покойно, будьте здоровы и веселы. Я писала бы вам более, но чувствую ужасную усталость,вчера я целый день не вставала с постели. Хорошо сделали, что обещались зайти. Навестите меня, пожалуйста, Макар Алексеевич. | —I am unspeakably rejoiced at your good fortune, and fully appreciate the kindness of your superior. Now, take a rest from your cares. Only do not AGAIN spend money to no advantage. Live as quietly and as frugally as possible, and from today begin always to set aside something, lest misfortune again overtake you. Do not, for God’s sake, worry yourself—Thedora and I will get on somehow. Why have you sent me so much money? I really do not need it—what I had already would have been quite sufficient. True, I shall soon be needing further funds if I am to leave these lodgings, but Thedora is hoping before long to receive repayment of an old debt. Of course, at least TWENTY roubles will have to be set aside for indispensable requirements, but the remainder shall be returned to you. Pray take care of it, Makar Alexievitch. Now, goodbye. May your life continue peacefully, and may you preserve your health and spirits. I would have written to you at greater length had I not felt so terribly weary. Yesterday I never left my bed. I am glad that you have promised to come and see me. Yes, you MUST pay me a visit. |
| В. Д. | B. D. |
| Сентября 11. | September 11th. |
| Милая моя Варвара Алексеевна! | MY DARLING BARBARA ALEXIEVNA, |
| Умоляю вас, родная моя, не разлучайтесь со мною теперь, теперь, когда я совершенно счастлив и всем доволен. Голубчик мой! Вы Федору не слушайте, а я буду все, что вам угодно, делать; буду вести себя хорошо, из одного уважения к его превосходительству буду вести себя хорошо и отчетливо; мы опять будем писать друг другу счастливые письма, будем поверять друг другу наши мысли. наши радости, наши заботы, если будут за боты; будем жить вдвоем согласно и счастливо. Займемся литературою… Ангельчик мой! В моей судьбе все переменилось, и все к лучшему переменилось. Хозяйка стала сговорчивее, Тереза умнее, даже сам Фальдони стал какой-то проворный. С Ратазяевым я помирился. Сам, на радостях, пошел к нему. Он, право, добрый малый, маточка, и что про него говорили дурного, то все был вздор. Я открыл теперь, что все это была гнусная клевета. Он вовсе и не думал нас описывать: он мне это сам говорил. Читал мне новое сочинение. А что тогда Ловеласом-то он меня назвал, так это все не брань или название какое неприличное: он мне объяснил. Это слово в слово с иностранного взято и значит проворный малый и если покрасивее сказать, политературнее, так значит парень – плохо не клади – вот! а не что-нибудь там такое. Шутка невинная была, ангельчик мой. Я-то неуч, сдуру и обиделся. Да уж я теперь перед ним извинился… И погода-то такая замечательная сегодня, Варенька, хорошая такая. Правда, угром была небольшая изморось, как будто сквозь сито сеяло. Ничего! Зато воздух стал посвежее немножко. Ходил я покупать сапоги и купил удивительные сапоги. Прошелся по Невскому. “Пчелку” прочел. Да! про главное я и забызаю вам рассказать. | —I implore you not to leave me now that I am once more happy and contented. Disregard what Thedora says, and I will do anything in the world for you. I will behave myself better, even if only out of respect for his Excellency, and guard my every action. Once more we will exchange cheerful letters with one another, and make mutual confidence of our thoughts and joys and sorrows (if so be that we shall know any more sorrows?). Yes, we will live twice as happily and comfortably as of old. Also, we will exchange books…. Angel of my heart, a great change has taken place in my fortunes—a change very much for the better. My landlady has become more accommodating; Theresa has recovered her senses; even Phaldoni springs to do my bidding. Likewise, I have made my peace with Rataziaev. He came to see me of his own accord, the moment that he heard the glad tidings. There can be no doubt that he is a good fellow, that there is no truth in the slanders that one hears of him. For one thing, I have discovered that he never had any intention of putting me and yourself into a book. This he told me himself, and then read to me his latest work. As for his calling me “Lovelace,” he had intended no rudeness or indecency thereby. The term is merely one of foreign derivation, meaning a clever fellow, or, in more literary and elegant language, a gentleman with whom one must reckon. That is all; it was a mere harmless jest, my beloved. Only ignorance made me lose my temper, and I have expressed to him my regret…. How beautiful is the weather today, my little Barbara! True, there was a slight frost in the early morning, as though scattered through a sieve, but it was nothing, and the breeze soon freshened the air. I went out to buy some shoes, and obtained a splendid pair. Then, after a stroll along the Nevski Prospect, I read “The Daily Bee”. This reminds me that I have forgotten to tell you the most important thing of all. |
| Видите ли что: | It happened like this: |
| Сегодня поутру разговорился я с Емельяном Ивановичем и с Аксевтием Михайловичем об его превосходительстве. Да, Варенька, они не с одним мною так обошлись милостиво. Они не одного меня обдагодетельствовали и добротою сердца своего всему свету известны. Из многих мест в честь ему хвалы воссылаются и слезы благодарности льются. У них сирота одна воспитывалась. Изволили пристроить ее: выдали за человека известного, за чиновника одного, который по особым поручениям при их же превосходительстве находился. Сына одной вдовы в какую-то канцелярию пристроили и много еще благодеяний разных оказали. Я, маточка, почел за оба занность тут же и мою лепту положить, всем во всеуслышание поступок его превосходительства рассказал; я все им рассказал и ничего не утаил. Я стыд-то в карман :прятал. Какой тут стыд, что за амбиция такая при таком обстоятельстве! Так-таки вслух – да будут славны дела его превосходительства! Я говорил увлекательно, с жаром говорил и не краснел, напротив, гордился, что пришлось такое рассказывать. Я про все рассказал (про вас только благоразумно умолчал, маточка), и про хозяйку мою, и про Фальдони, и про Ратазяева, и про сапоги, и про Маркова – все рассказал. Кое-кто там пересмеивались, да, правда, и все они пересмеивались. Только это в моей фигуре, верно, они что-нибудь смешное нашли или насчет сапогов моих – именно насчет сапогов. А с дурным каким-нибудь намерением они не могли этого сделать. Это так, молодость, или оттого, что они люди богатые, но с дурным, с злым намерением они никак не могли мою речь осмеивать. То есть что-нибудь насчет его превосходительства – этого они никак не могли сделать. Не правда ли, Варенька? | This morning I had a talk with Emelia Ivanovitch and Aksenti Michaelovitch concerning his Excellency. Apparently, I am not the only person to whom he has acted kindly and been charitable, for he is known to the whole world for his goodness of heart. In many quarters his praises are to be heard; in many quarters he has called forth tears of gratitude. Among other things, he undertook the care of an orphaned girl, and married her to an official, the son of a poor widow, and found this man place in a certain chancellory, and in other ways benefited him. Well, dearest, I considered it to be my duty to add my mite by publishing abroad the story of his Excellency’s gracious treatment of myself. Accordingly, I related the whole occurrence to my interlocutors, and concealed not a single detail. In fact, I put my pride into my pocket—though why should I feel ashamed of having been elated by such an occurrence? “Let it only be noised afield,” said I to myself, and it will resound greatly to his Excellency’s credit.—So I expressed myself enthusiastically on the subject and never faltered. On the contrary, I felt proud to have such a story to tell. I referred to every one concerned (except to yourself, of course, dearest)—to my landlady, to Phaldoni, to Rataziaev, to Markov. I even mentioned the matter of my shoes! Some of those standing by laughed—in fact every one present did so, but probably it was my own figure or the incident of my shoes—more particularly the latter—that excited merriment, for I am sure it was not meant ill-naturedly. My hearers may have been young men, or well off; certainly they cannot have been laughing with evil intent at what I had said. Anything against his Excellency CANNOT have been in their thoughts. Eh, Barbara? |
| Я все до сих пор не могу как-то опомниться, маточка. Все эти происшествия так смутили меня! Есть ли у вас дрова? Не простудитесь, Варенька; долго ли простудиться. Ох, маточка моя, вы с вашими грустными мыслями меня убиваете. Я уж бога молю, как молю его за вас, маточка! Например, есть ли у вас шерстяные чулочки, или так, из одежды что-нибудь, потеплее. Смотрите, голубчик мой. Если вам что-нибудь там нужно будет, так уж вы, ради создателя, старика не обижайте. Так-таки прямо и ступайте ко мне. Теперь дурные времена прошли. Насчет меня вы не беспокойтесь. Впереди все так светло, хорошо! | Even now I cannot wholly collect my faculties, so upset am I by recent events…. Have you any fuel to go on with, Barbara? You must not expose yourself to cold. Also, you have depressed my spirits with your fears for the future. Daily I pray to God on your behalf. Ah, HOW I pray to Him!… Likewise, have you any woollen stockings to wear, and warm clothes generally? Mind you, if there is anything you need, you must not hurt an old man’s feelings by failing to apply to him for what you require. The bad times are gone now, and the future is looking bright and fair. |
| А грустное было время, Варенька! Ну да уж все равно, прошло! Года пройдут, так и про это время вздохнем. Помню я свои молодые годы. Куда! Копейки иной раз не бывало. Холодно, голодно, а весело, да и только. Утром пройдешься по Невскому, личико встретишь хорошенькое, и на целый день счастлив. Славное, славное было время, маточка! Хорошо жить на свете, Варенька! Особенно в Петербурге. Я со слезами на глазах вчера каялся перед господом богом, чтобы простил мне господь все грехи мои в это грустное время: ропот, либеральные мысли, дебош и азарт. Об вас вспоминал с умилением в молитве. Вы одни, ангельчик, укрепляли меня, вы одни утешали меня, напутствовали советами благими и наставлениями. Я этого, маточка, никогда забыть не могу. Ваши записочки все перецеловал сегодня, голубчик мой! Ну, прощайте, маточка. Говорят, есть где-то здесь недалеко платье продажное. Так вот я немножко наведаюсь. Прощайте же, ангельчик. Прощайте. | But what bad times they were, Barbara, even though they be gone, and can no longer matter! As the years pass on we shall gradually recover ourselves. How clearly I remember my youth! In those days I never had a kopeck to spare. Yet, cold and hungry though I was, I was always light-hearted. In the morning I would walk the Nevski Prospect, and meet nice-looking people, and be happy all day. Yes, it was a glorious, a glorious time! It was good to be alive, especially in St. Petersburg. Yet it is but yesterday that I was beseeching God with tears to pardon me my sins during the late sorrowful period—to pardon me my murmurings and evil thoughts and gambling and drunkenness. And you I remembered in my prayers, for you alone have encouraged and comforted me, you alone have given me advice and instruction. I shall never forget that, dearest. Today I gave each one of your letters a kiss…. Goodbye, beloved. I have been told that there is going to be a sale of clothing somewhere in this neighbourhood. Once more goodbye, goodbye, my angel |
| Вам душевно преданный | —Yours in heart and soul, |
| Макар Девушкин. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Сентября 15. | September 15th. |
| Милостивый государъ, | MY DEAREST |
| Макар Алексеевич! | MAKAR ALEXIEVITCH, |
| Я вся в ужасном волнении. Послушайте-ка, что у нас было. Я что-то роковое предчувствую. Вот посудите сами, мой бесценный друг: господин Быков в Петербурге. Федора его встретила. Он ехал, приказал остановить дрожки, подошел сам к Федоре и стал наведываться, где она живет. Та сначала не сказывала. Потом он сказал, усмехаясь, что он знает, кто у ней живет. (Видно, Анна Федоровна все ему рассказала.) Тогда Федора не вытерпела и тут же на улице стала его упрекать, укорять, сказала ему, что он человек безнравственный, что он причина всех несчастий моих. Он отвечал, что когда гроша нет, так, разумеется, человек несчастлив. Федора сказала ему, что я бы сумела прожить работою, могла бы выйти замуж, а не то так сыскать место какое-нибудь, а что теперь счастие мое навсегда потеряно, что я к тому же больна и скоро умру. На это он заметил, что я еще слишком молода, что у меня еще в голове бродит и что а наши добродетели потускнели (его слова). Мы с Федорой думали, что он не знает нашей квартиры, как вдруг вчера, только что я вышла для закупок в Гостиный двор, он входит к нам в комнату; ему, кажется, не хотелось застать меня дома. Он долго расспрашивал Федору о нашем житье-бытье; все рассматривал у нас; мою работу смотрел, наконец спросил: “Какой же это чиновник, который с вами знаком?” На ту пору вы чрез двор проходили; Федора ему указала на вас; он взглянул и усмехнулся; Федора упрашивала его уйти, сказала ему, что я и так уже нездорова от огорчений и что видеть его у нас мне будет весьма неприятно. Он промолчал; сказал, что он так приходил, от нечего делать, и хотел дать Федоре двадцать пять рублей; та, разумеется, не взяла. Что бы это значило? Зачем это он приходил к нам? Я понять не могу, откуда он все про нас знает! Я теряюсь в догадках. Федора говорит, что Аксинья, ее золовка, которая ходит к нам, знакома с прачкой Настасьей, а Настасьин двоюродный брат сторожем в том департаменте, где служит знакомый племянника Анны Федоровны, так вот не переползла ли как-нибудь сплетня? Впрочем, очень может быть, что Федора и ошибается; мы не знаем, что придумать. Неужели он к нам опять придет! Одна мысль эта ужасает меня! Когда Федора рассказала все это вчера, так я так испугалась, что чуть было в обморок не упала от страха. Чего еще им надобно? Я теперь их знать не хочу! Что им за дело до меня, бедной! Ах! в каком я страхе теперь; так вот и думаю, что войдет сию минуту Быков. Что со мною будет! Что еще мне готовит судьба? Ради Христа, зайдите ко мне теперь же, Макар Алексеевич. Зайдите, ради бога, зайдите. | —I am in terrible distress. I feel sure that something is about to happen. The matter, my beloved friend, is that Monsieur Bwikov is again in St. Petersburg, for Thedora has met him. He was driving along in a drozhki, but, on meeting Thedora, he ordered the coachman to stop, sprang out, and inquired of her where she was living; but this she would not tell him. Next, he said with a smile that he knew quite well who was living with her (evidently Anna Thedorovna had told him); whereupon Thedora could hold out no longer, but then and there, in the street, railed at and abused him—telling him that he was an immoral man, and the cause of all my misfortunes. To this he replied that a person who did not possess a groat must surely be rather badly off; to which Thedora retorted that I could always either live by the labour of my hands or marry—that it was not so much a question of my losing posts as of my losing my happiness, the ruin of which had led almost to my death. In reply he observed that, though I was still quite young, I seemed to have lost my wits, and that my “virtue appeared to be under a cloud” (I quote his exact words). Both I and Thedora had thought that he does not know where I live; but, last night, just as I had left the house to make a few purchases in the Gostinni Dvor, he appeared at our rooms (evidently he had not wanted to find me at home), and put many questions to Thedora concerning our way of living. Then, after inspecting my work, he wound up with: “Who is this tchinovnik friend of yours?” At the moment you happened to be passing through the courtyard, so Thedora pointed you out, and the man peered at you, and laughed. Thedora next asked him to depart—telling him that I was still ill from grief, and that it would give me great pain to see him there; to which, after a pause, he replied that he had come because he had had nothing better to do. Also, he was for giving Thedora twenty-five roubles, but, of course, she declined them. What does it all mean? Why has he paid this visit? I cannot understand his getting to know about me. I am lost in conjecture. Thedora, however, says that Aksinia, her sister-in-law (who sometimes comes to see her), is acquainted with a laundress named Nastasia, and that this woman has a cousin in the position of watchman to a department of which a certain friend of Anna Thedorovna’s nephew forms one of the staff. Can it be, therefore, that an intrigue has been hatched through THIS channel? But Thedora may be entirely mistaken. We hardly know what to think. What if he should come again? The very thought terrifies me. When Thedora told me of this last night such terror seized upon me that I almost swooned away. What can the man be wanting? At all events, I refuse to know such people. What have they to do with my wretched self? Ah, how I am haunted with anxiety, for every moment I keep thinking that Bwikov is at hand! WHAT will become of me? WHAT MORE has fate in store for me? For Christ’s sake come and see me, Makar Alexievitch! For Christ’s sake come and see me soon! |
| В. Д. | |
| Сентября 18. | September 18th. |
| Маточка, Варвара Алексеевна! | MY BELOVED BARBARA ALEXIEVNA, |
| Сего числа случилось у нас в квартире донельзя горестное, ничем не объяснимое и неожиданное событие. Наш бедный Горшков (заметить вам нужно, маточка) совершенно оправдался. Решение-то уж давно как вышло, а сегодня он ходил слушать окончательную резолюцию. Дело для него весьма счастливо кончилось. Какая там была вина на нем за нерадение и неосмотрительность – на все вышло полное отпущение. Присудили выправить в его пользу с купца знатную сумму денег, так что он и обстоятельствами-то сильно поправился, да и честь-то его от пятна избавилась, и все стало лучше,одним словом, вышло самое полное исполнение желания. Пришел он сегодня в три часа домой. На нем лица не было, бледный как полотно, губы у него трясутся, а сам улыбается – обнял жену, детей. Мы все гурьбою ходили к нему поздравлять его. Он был весьма растроган нашим поступком, кланялся на все стороны, жал у каждого из нас руку по нескольку раз. Мне даже показалось, что он и вырос-то. и выпрямился-то, и что у него и слезинки-то нет уже в глазах. В волнении был таком, бедный. Двух минут на месте не мог простоять; брал в руки все, что ему ни попадалось, потом опять бросал, беспрестанно улыбался и кланялся, садился, вставал, опять садился, говорил бог знает что такое – говорит: “Честь моя,честь, доброе имя. дети мои”, – и как гозорил-то! даже заплакал. Мы тоже большею частию прослезились. Ратазяев, видно, хотел его ободрить и сказал: “Что, батюшка, честь, когда нечего есть; деньги, батюшка, деньги глазное; вот за что бога благодарите!” – и тут же его по плечу потрепал. Мне показалось, что Горшков обиделся, то есть не то чтобы прямо неудовольствие высказал, а только посмотрел как-то странно на Ратазяева да руку его с плеча своего снял. А прежде бы этого не было, маточка! Впрочем, различные бывают характеры. Вот а, например, на таких радостях гордецом бы не выказался; ведь чего, родная моя, иногда и поклон лишний и унижени: изъявляешь не от чего иного, как от припадка доброты душевной и от излишней мягкости сердца… но, впрочем, не во мне тут и дело! “Да, говорит, и деньги хорошо; слава богу, слава богу!” – и потом все время, гак мы у него были, твердил: “Слава богу, слава богу!..” | —Today there took place in this house a most lamentable, a most mysterious, a most unlooked-for occurrence. First of all, let me tell you that poor Gorshkov has been entirely absolved of guilt. The decision has been long in coming, but this morning he went to hear the final resolution read. It was entirely in his favour. Any culpability which had been imputed to him for negligence and irregularity was removed by the resolution. Likewise, he was authorised to recover of the merchant a large sum of money. Thus, he stands entirely justified, and has had his character cleansed from all stain. In short, he could not have wished for a more complete vindication. When he arrived home at three o’clock he was looking as white as a sheet, and his lips were quivering. Yet there was a smile on his face as he embraced his wife and children. In a body the rest of us ran to congratulate him, and he was greatly moved by the act. Bowing to us, he pressed our hands in turn. As he did so I thought, somehow, that he seemed to have grown taller and straighter, and that the pus-drops seemed to have disappeared from his eyelashes. Yet how agitated he was, poor fellow! He could not rest quietly for two minutes together, but kept picking up and then dropping whatsoever came to his hand, and bowing and smiling without intermission, and sitting down and getting up, and again sitting down, and chattering God only knows what about his honour and his good name and his little ones. How he did talk—yes, and weep too! Indeed, few of ourselves could refrain from tears; although Rataziaev remarked (probably to encourage Gorshkov) that honour mattered nothing when one had nothing to eat, and that money was the chief thing in the world, and that for it alone ought God to be thanked. Then he slapped Gorshkov on the shoulder, but I thought that Gorshkov somehow seemed hurt at this. He did not express any open displeasure, but threw Rataziaev a curious look, and removed his hand from his shoulder. ONCE upon a time he would not have acted thus; but characters differ. For example, I myself should have hesitated, at such a season of rejoicing, to seem proud, even though excessive deference and civility at such a moment might have been construed as a lapse both of moral courage and of mental vigour. However, this is none of my business. All that Gorshkov said was: “Yes, money IS a good thing, glory be to God!” In fact, the whole time that we remained in his room he kept repeating to himself: “Glory be to God, glory be to God!” |
| Жена его заказала обед поделикатнее и пообильнее. Хо зяйка наша сама для них стряпала. Хозяйка наша отчасти добрая женщина. А до обеда Горшков на месте не мог усидеть. Заходил ко всем в комнаты, звали ль, не звали его. Так себе войдет, улыбнется, присядет на стул, скажет что-нибудь, а иногда и ничего не скажет – и уйдет. У мичмана даже карты в руки взял; его и усадили играть за четвертого. Он поиграл, поиграл, напутал в игре какого-то вздора, сделал три-четыре хода и бросил играть. “Нет, говорит, ведь я так, я, говорит, это только так”, – и ушел от них. Меня встретил в коридоре, взял меня за обе руки, посмотрел мне прямо в глаза, только так чудно; пожал мне руку и отошел, и все улы= бая:ь, но как-то тяжело, странно улыбаясь, словно мертвый. Жена его плакала от радости; весело так все у них было, по-праздничному. Пообедали они скоро. Вот после обеда он и говорит жене: “Послушайте, душенька, вот я немного прилягу”, – да и пошел на постедь. Подозвал к себе дочку, положил ей на головку руку и долго, долго гладил по головке ребенка. Потом опять оборотился к жене: “А что ж Петенька? Петя наш, говорит, Петенька?..” Жена перекрестилась, да и отвечает, что ведь он же умер. “Да, да, знаю, все знаю, Петенька теперь в царстве небесном”. Жена видит, что он сам не свой, что происшествие-то его потрясло совершенно, и говориг ему: “Вы бы, душенька, заснули”. – “Да, хорошо, я сейчас… я немножко”, – тут он отвернулся, полежал немного, потом оборотился, хотел сказать что-то. Жена не расслышала, спросила его: “Что, мой друг?” А он не отвечает. Она подождала немножко – ну, думает, уснул, и вышла на часок к хозяйке. Через чаг времени воротилась – видит, муж еще не проснулся и лежит себе, не шелохнется. Она думала, что спит, села а стала работать чтото. Она рассказывает, что она работала с полчаса и так погрузилась в размышление, что даже не помнит, о чем она думала, говорит только, что она позабыла об муже. Только вдруг она очнулась от какого-то тревожного ощущения, и гробовая тишина в комнате поразила ее прежде всего. Она посмотрела на кровать и видит, что муж лежит все в одном положении. Она подошла к нему, сдернула одеяло, смотрит – а уж он холодехонек – умер, маточка, умер Горшков, внезапно умер, словно его громом убило! А отчего умер – бог его знает. Меня это так сразило, Варенька, что я до сих пор опомниться не могу. Не верится что-то, чтобы так просто мог умереть человек. Этакой бедняга, горемыка этот Горшков! Ах, судь ба-то, судьба какая! Жена в слезах, такая испуганная. Девочка куда-то в угол забилась. У них там суматоха такая идет; следствие медицинское будут делать… уж не могу вам наверно сказать. Только жалко, ох как жалко! Грустно подумать, что этак в самом деле ни дня, ни часа не ведаешь .. Погибаешь этак ни за что… | His wife ordered a richer and more delicate meal than usual, and the landlady herself cooked it, for at heart she is not a bad woman. But until the meal was served Gorshkov could not remain still. He kept entering everyone’s room in turn (whether invited thither or not), and, seating himself smilingly upon a chair, would sometimes say something, and sometimes not utter a word, but get up and go out again. In the naval officer’s room he even took a pack of playing-cards into his hand, and was thereupon invited to make a fourth in a game; but after losing a few times, as well as making several blunders in his play, he abandoned the pursuit. “No,” said he, “that is the sort of man that I am—that is all that I am good for,” and departed. Next, encountering myself in the corridor, he took my hands in his, and gazed into my face with a rather curious air. Then he pressed my hands again, and moved away still smiling, smiling, but in an odd, weary sort of manner, much as a corpse might smile. Meanwhile his wife was weeping for joy, and everything in their room was decked in holiday guise. Presently dinner was served, and after they had dined Gorshkov said to his wife: “See now, dearest, I am going to rest a little while;” and with that went to bed. Presently he called his little daughter to his side, and, laying his hand upon the child’s head, lay a long while looking at her. Then he turned to his wife again, and asked her: “What of Petinka? Where is our Petinka?” whereupon his wife crossed herself, and replied: “Why, our Petinka is dead!” “Yes, yes, I know—of course,” said her husband. “Petinka is now in the Kingdom of Heaven.” This showed his wife that her husband was not quite in his right senses—that the recent occurrence had upset him; so she said: “My dearest, you must sleep awhile.” “I will do so,” he replied, “—at once—I am rather—” And he turned over, and lay silent for a time. Then again he turned round and tried to say something, but his wife could not hear what it was. “What do you say?” she inquired, but he made no reply. Then again she waited a few moments until she thought to herself, “He has gone to sleep,” and departed to spend an hour with the landlady. At the end of that hour she returned—only to find that her husband had not yet awoken, but was still lying motionless. “He is sleeping very soundly,” she reflected as she sat down and began to work at something or other. Since then she has told us that when half an hour or so had elapsed she fell into a reverie. What she was thinking of she cannot remember, save that she had forgotten altogether about her husband. Then she awoke with a curious sort of sensation at her heart. The first thing that struck her was the deathlike stillness of the room. Glancing at the bed, she perceived her husband to be lying in the same position as before. Thereupon she approached him, turned the coverlet back, and saw that he was stiff and cold—that he had died suddenly, as though smitten with a stroke. But of what precisely he died God only knows. The affair has so terribly impressed me that even now I cannot fully collect my thoughts. It would scarcely be believed that a human being could die so simply—and he such a poor, needy wretch, this Gorshkov! What a fate, what a fate, to be sure! His wife is plunged in tears and panic-stricken, while his little daughter has run away somewhere to hide herself. In their room, however, all is bustle and confusion, for the doctors are about to make an autopsy on the corpse. But I cannot tell you things for certain; I only know that I am most grieved, most grieved. How sad to think that one never knows what even a day, what even an hour, may bring forth! One seems to die to so little purpose!… |
| Ваш | —Your own |
| Макар Девушкин. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Сентября 19. | September 19th. |
| Милостивая государыня, | MY BELOVED |
| Варвара Алексеевна! | BARBARA ALEXIEVNA, |
| Спешу вас уведомить, друг мой, что Ратазяев нашел мне работу у одного сочинителя. Приезжал какой-то к нему, привез к нему такую толстую рукопись – слава богу, много работы. Только уж так неразборчиво писано, что не знаю, как и за дело приняться; требуют поскорее. Что-то все об таком писано, что как будто и не понимаешь… По сорок копеек с листа уговорились. Я к тому все это пишу вам, родная моя, что будут теперь посторонние деньги. Ну, а теперь прощайте, маточка. Я уж прямо и за работу. | —I hasten to let you know that Rataziaev has found me some work to do for a certain writer—the latter having submitted to him a large manuscript. Glory be to God, for this means a large amount of work to do. Yet, though the copy is wanted in haste, the original is so carelessly written that I hardly know how to set about my task. Indeed, certain parts of the manuscript are almost undecipherable. I have agreed to do the work for forty kopecks a sheet. You see therefore (and this is my true reason for writing to you), that we shall soon be receiving money from an extraneous source. Goodbye now, as I must begin upon my labours. |
| Ваш верный друг | —Your sincere friend, |
| Макар Девушкин. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| September 23rd. | |
| Дорогой друг мой, | |
| MY DEAREST | |
| Макар Алексеевич! | |
| MAKAR ALEXIEVITCH, | |
| Сентября 23. | |
| Я вам уже третий день, мой друг, ничего не писала, а у меня было много, много забот, много тревоги. | —I have not written to you these three days past for the reason that I have been so worried and alarmed. |
| Третьего дня был у меня Быков. Я была одна, Федора куда-то ходила. Я отворила ему и так испугалась, когда его увидела, что не могла тронуться с места. Я чувствовала, что я побледнела. Он вошел по своему обыкновению с громким смехом, взял стул и сел. Я долго не могла опомниться, наконец села в угол за работу. Он скоро перестал смеяться. Кажется, мой вид поразил его. Я так похудела в последнее время; щеки и глаза мои ввалились, я была бледна, как платок… действительно, меня трудно узнать тому, кто знал меня год тому назад. Он долго и пристально смотрел на меня, наконец опять развеселился. Сказал что-то такое; я не помню, что отвечала ему, и он опять засмеялся. Он сидел у меня целый час; долго говорил со мной; кой о чем расспрашивал. Наконец, перед прощанием, он взял меня за руку и сказал (я вам пишу от слова и до слова): “Варвара Алексеевна! Между нами сказать, Анна Федоровна, ваша родственница, а моя короткая знакомая и приятельница, преподлая женщина”. (Тут он еще назвал ее одним неприличным словом.) “Совратила она и двоюродную вашу сестрицу с пути, и вас погубила. С моей стороны и я в этом случае подлецом оказался, да ведь что, дело житейское”. Тут он захохотал что есть мочи. Потом заметил, что он красно говорить не мастер, и что главное, что объяснить было нужно и об чем обязанности благородства повелевали ему не умалчивать, уж он объявил, и что в коротких словах приступает к остальному. Тут он объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает возвратить мне честь, что он богат, что он увезет меня после свадьбы в свою степную деревню, что он хочет там зайцев травить; что он более в Петербург никогда не приедет, потому что в Петербурге гадко, что у него есть здесь в Петербурге, как он сам выразился, негодный племянник, которого он присягнул лишить наследства, и собственно для этого случая, то есть желая иметь законных наследников, ищет руки моей, что это главная причина его сватовства. Потом он заметил, что я весьма бедно живу, что не диво, если я больна, проживая в такой лачуге, предрек мне неминуемую смерть, если я хоть месяц еще так останусь, сказал, что в Петербурге квартиры гадкие и, наконец, что не надо ли мне чего? | Three days ago Bwikov came again to see me. At the time I was alone, for Thedora had gone out somewhere. As soon as I opened the door the sight of him so terrified me that I stood rooted to the spot, and could feel myself turning pale. Entering with his usual loud laugh, he took a chair, and sat down. For a long while I could not collect my thoughts; I just sat where I was, and went on with my work. Soon his smile faded, for my appearance seemed somehow to have struck him. You see, of late I have grown thin, and my eyes and cheeks have fallen in, and my face has become as white as a sheet; so that anyone who knew me a year ago would scarcely recognise me now. After a prolonged inspection, Bwikov seemed to recover his spirits, for he said something to which I duly replied. Then again he laughed. Thus he sat for a whole hour—talking to me the while, and asking me questions about one thing and another. At length, just before he rose to depart, he took me by the hand, and said (to quote his exact words): “Between ourselves, Barbara Alexievna, that kinswoman of yours and my good friend and acquaintance—I refer to Anna Thedorovna—is a very bad woman,” (he also added a grosser term of opprobrium). “First of all she led your cousin astray, and then she ruined yourself. I also have behaved like a villain, but such is the way of the world.” Again he laughed. Next, having remarked that, though not a master of eloquence, he had always considered that obligations of gentility obliged him to have with me a clear and outspoken explanation, he went on to say that he sought my hand in marriage; that he looked upon it as a duty to restore to me my honour; that he could offer me riches; that, after marriage, he would take me to his country seat in the Steppes, where we would hunt hares; that he intended never to visit St. Petersburg again, since everything there was horrible, and he had to entertain a worthless nephew whom he had sworn to disinherit in favour of a legal heir; and, finally, that it was to obtain such a legal heir that he was seeking my hand in marriage. Lastly, he remarked that I seemed to be living in very poor circumstances (which was not surprising, said he, in view of the kennel that I inhabited); that I should die if I remained a month longer in that den; that all lodgings in St. Petersburg were detestable; and that he would be glad to know if I was in want of anything. |
| Я так была поражена его предложением, что, сама не знаю отчего, заплакала. Он принял мои слезы за благодарность и сказал мне, что он всегда был уверен, что я добрая, чувствительная и ученая девица, но что он не прежде, впрочем, решился на сию меру, как разузнав со всею подробностию о моем теперешнем поведении. Тут он расспрашивал о вас, сказал, что про все слышал, что вы благородных правил человек, что он с своей стороны не хочет быть у вас в долгу и что довольно ли вам будет пятьсот рублей за все, что вы для меня сделали? Когда же я ему объяснила,что вы для меня то сделали, чего никакими деньгами не заплатишь, то он сказал мне, что все вздор, что все это романы, что я еще молода и стихи читаю, что романы губят молодых девушек, что книги только нравственность портят и что он терпеть не может никаких книг; советовал прожить его годы и тогда об людях говорить; “тогда,прибавил он, – и людей узнаете”. Потом он сказал, чтобы я поразмыслила хорошенько об его предложениях, что ему весьма будет неприятно, если я такой важный шаг сделаю необдуманно, прибавил, что необдуманность и увлечение губят юность неопытную, но что он чрезвычайно желает с моей стороны благоприятного ответа, что, наконец, в противном случае, он принужден будет жениться в Москве на купчихе, потому что, говорит он, я присягнул негодяя племянника лишить наследства. Он оставил насильно у меня на пяльцах пятьсот рублей, как он сказал, на конфеты; сказал, что в деревне я растолстею, как лепешка, что буду у него как сыр в масле кататься, что у него теперь ужасно много хлопот, что он целый день по делам протаскался и что теперь между делом забежал ко мне. Тут он ушел. Я долго думала, я много передумала, я мучилась, думая, друг мой, наконец я решилась. Друг мой, я выйду за него, я должна согласиться на его предложение. Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и несчастия в будущем, так это единственно он. Чего же мне ожидать от грядущего, чего еще спрашивать у судьбы? Федора говорит, что своего счастия терять не нужно; говорит – что же в таком случае и называется счастием? Я по крайней мере не нахожу другого пути для себя, бесценный друг мой. Что мне делать? Работою я и так все здоровье испортила; работать постоянно я не могу. В люди идти? – я с тоски исчахну, к тому же я никому не угожу. Я хворая от природы и потому всегда буду бременем на чужих руках. Конечно, я и теперь не в рай иду, но что же мне делать, друг мой, что же мне делать? Из чего выбирать мне? | So thunderstruck was I with the proposal that I could only burst into tears. These tears he interpreted as a sign of gratitude, for he told me that he had always felt assured of my good sense, cleverness, and sensibility, but that hitherto he had hesitated to take this step until he should have learned precisely how I was getting on. Next he asked me some questions about YOU; saying that he had heard of you as a man of good principle, and that since he was unwilling to remain your debtor, would a sum of five hundred roubles repay you for all you had done for me? To this I replied that your services to myself had been such as could never be requited with money; whereupon, he exclaimed that I was talking rubbish and nonsense; that evidently I was still young enough to read poetry; that romances of this kind were the undoing of young girls, that books only corrupted morality, and that, for his part, he could not abide them. “You ought to live as long as I have done,” he added, “and THEN you will see what men can be.” With that he requested me to give his proposal my favourable consideration—saying that he would not like me to take such an important step unguardedly, since want of thought and impetuosity often spelt ruin to youthful inexperience, but that he hoped to receive an answer in the affirmative. “Otherwise,” said he, “I shall have no choice but to marry a certain merchant’s daughter in Moscow, in order that I may keep my vow to deprive my nephew of the inheritance.”—Then he pressed five hundred roubles into my hand—to buy myself some bonbons, as he phrased it—and wound up by saying that in the country I should grow as fat as a doughnut or a cheese rolled in butter; that at the present moment he was extremely busy; and that, deeply engaged in business though he had been all day, he had snatched the present opportunity of paying me a visit. At length he departed. For a long time I sat plunged in reflection. Great though my distress of mind was, I soon arrived at a decision…. My friend, I am going to marry this man; I have no choice but to accept his proposal. If anyone could save me from this squalor, and restore to me my good name, and avert from me future poverty and want and misfortune, he is the man to do it. What else have I to look for from the future? What more am I to ask of fate? Thedora declares that one need NEVER lose one’s happiness; but what, I ask HER, can be called happiness under such circumstances as mine? At all events I see no other road open, dear friend. I see nothing else to be done. I have worked until I have ruined my health. I cannot go on working forever. Shall I go out into the world? Nay; I am worn to a shadow with grief, and become good for nothing. Sickly by nature, I should merely be a burden upon other folks. Of course this marriage will not bring me paradise, but what else does there remain, my friend—what else does there remain? What other choice is left? |
| Я не просила у вас советов. Я хотела обдумать одна. Решение, которое вы прочли сейчас, неизменно, и я немедленно объявляю его Быкову, который и без того торопит меня окончательным решением. Он сказал, что у него дела не ждут, что ему нужно ехать и что не откладывать же их из-за пустяков. Знает бог, буду ли я счастлива, в его святой, неисповедимой власти судьбы моей, но я решилась. Говорят, что Быков человек добрый; он будет уважать меня; может быть, и я также буду уважать его. Чего же ждать более от нашего брака? | I had not asked your advice earlier for the reason that I wanted to think the matter over alone. However, the decision which you have just read is unalterable, and I am about to announce it to Bwikov himself, who in any case has pressed me for a speedy reply, owing to the fact (so he says) that his business will not wait nor allow him to remain here longer, and that therefore, no trifle must be allowed to stand in its way. God alone knows whether I shall be happy, but my fate is in His holy, His inscrutable hand, and I have so decided. Bwikov is said to be kind-hearted. He will at least respect me, and perhaps I shall be able to return that respect. What more could be looked for from such a marriage? |
| Уведомляю вас обо всем, Макар Алексеевич. Я уверена, вы поймете всю тоску мою. Не отвлекайте меня от моего намерения. Усилия ваши будут тщетны. Взвесьте в своем собственном сердце все, что принудило меня так поступить. Я очень тревожилась сначала, но теперь я спокойнее. Что впереди, я не знаю. Что будет, то будет; как бог пошлет!. | I have now told you all, Makar Alexievitch, and feel sure that you will understand my despondency. Do not, however, try to divert me from my intention, for all your efforts will be in vain. Think for a moment; weigh in your heart for a moment all that has led me to take this step. At first my anguish was extreme, but now I am quieter. What awaits me I know not. What must be must be, and as God may send…. |
| Пришел Быков; я бросаю письмо неоконченным. Много еще хотела сказать вам. Быков уж здесь! Маточка, Варвара Алексеевна! В. Д. Сентября 23. | Bwikov has just arrived, so I am leaving this letter unfinished. Otherwise I had much else to say to you. Bwikov is even now at the door!…September 23rd. MY BELOVED BARBARA ALEXIEVNA, |
| Я, маточка, спешу вам отвечать; я маточка, спешу вам объявить, что я изумлен. Все это как-то не того… Вчера мы похоронили Горшкова. Да, это так, Варенька, это так; Быков поступил благородно; только вот, видите ли, родная моя, так вы и соглашаетесь. Конечно, во всем воля божия; это так, это непременно должно быть так, то есгь тут воля-то божия непременно должна быть; и промысл творца небесного, конечно, и благ и неисповедим, и судьбы тоже, и они то же самое. Федора тоже в вас участие принимает. Конечно, вы счастливы теперь будете, маточка, в довольстве будете, моя голубочка, ясочка моя, ненаглядная вы моя, ангельчик мой, – только вот, видите ли, Варенька, как же это так скоро?.. Да, дела… у господина Быкова есть дела – конечно, у кого нет дел, и у него тоже они могут случиться… видел я его, как он от вас выходил. Видный, видный мужчина; даже уж и очень видный мужчина. Только все это как-то не так, дело-то не в том именно, что он видный мужчина, да и я-то теперь как-то сам не свой. Только вот как же мы будем теперь письма-то друг к другу писать? Я-то, я-то как же один останусь? Я, ангельчик мой, все взвешиваю, все взвешиваю, как вы писали-то мне там, в сердце-то моем все это взвешиваю, причины-то эти. Я уже двадцатый лист оканчивал переписывать, а между тем эти происшествия-то нашли! Маточка, ведь вот вы едете, 111 так и закупки-то вам различные сделать нужно, башмачки разные, платьице, а вот у меня, кстати, и магазин есть знакомый в Гороховой; помните, как я вам еще его все описывал. Да нет же! Как же вы, маточка, что вы! ведь вам нельзя теперь ехать, совершенно невозможно, никак невозможно. Ведь вам нужно покупки большие делать, да и экипаж заводить. К тому же и погода теперь дурная; вы посмотрите-ка, дождь как из ведра льет, и такой мокрый дождь, да еще… еще то, что вам холодно будет, мой ангельчик; сердечку-то вашему будет холодно! Ведь вот вы боитесь чужого человека, а едете. А я-то на кого здесь один останусь? Да вот Федора говорит, что вас счастие ожидает большое… да ведь она баба буйная и меня погубить желает. Пойдете ли вы ко всенощной сегодня, маточка? Я бы вас пошел посмотреть. Оно, правда, маточка, совершенная правда, что вы девица ученая. добродетельная и чувствительная, только пусть уж он лучше женится на купчихе! Как вы думаете, маточка? пусть уж лучше на купчихе-то женится! Я к вам, Варенька вы моя, как смеркнется, так и забегу на часок. Нынч. ведь рано смеркается, так я и забегу. Я, маточка, к вам непременно на часочек приду сегодня. Вот вы теперь ждете Быкова, а как он уйдет, так тогда… Вот подождите, маточка, я забегу… | —I hasten to reply to you—I hasten to express to you my extreme astonishment…. In passing, I may mention that yesterday we buried poor Gorshkov…. Yes, Bwikov has acted nobly, and you have no choice but to accept him. All things are in God’s hands. This is so, and must always be so; and the purposes of the Divine Creator are at once good and inscrutable, as also is Fate, which is one with Him… Thedora will share your happiness—for, of course, you will be happy, and free from want, darling, dearest, sweetest of angels! But why should the matter be so hurried? Oh, of course—Monsieur Bwikov’s business affairs. Only a man who has no affairs to see to can afford to disregard such things. I got a glimpse of Monsieur Bwikov as he was leaving your door. He is a fine-looking man—a very fine-looking man; though that is not the point that I should most have noticed had I been quite myself at the time…. In the future shall we be able to write letters to one another? I keep wondering and wondering what has led you to say all that you have said. To think that just when twenty pages of my copying are completed THIS has happened!… I suppose you will be able to make many purchases now—to buy shoes and dresses and all sorts of things? Do you remember the shops in Gorokhovaia Street of which I used to speak?… But no. You ought not to go out at present—you simply ought not to, and shall not. Presently, you will he able to buy many, many things, and to, keep a carriage. Also, at present the weather is bad. Rain is descending in pailfuls, and it is such a soaking kind of rain that—that you might catch cold from it, my darling, and the chill might go to your heart. Why should your fear of this man lead you to take such risks when all the time I am here to do your bidding? So Thedora declares great happiness to be awaiting you, does she? She is a gossiping old woman, and evidently desires to ruin you. Shall you be at the all-night Mass this evening, dearest? I should like to come and see you there. Yes, Bwikov spoke but the truth when he said that you are a woman of virtue, wit, and good feeling. Yet I think he would do far better to marry the merchant’s daughter. What think YOU about it? Yes, ‘twould be far better for him. As soon as it grows dark tonight I mean to come and sit with you for an hour. Tonight twilight will close in early, so I shall soon be with you. Yes, come what may, I mean to see you for an hour. At present, I suppose, you are expecting Bwikov, but I will come as soon as he has gone. So stay at home until I have arrived, dearest. |
| Макар Девушкин. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Сентября 27. | September 27th. |
| Друг мой, Макар Алексеевич! | DEAR MAKAR ALEXIEVITCH, |
| Господин Быков сказал, что у меня непременно должно быть на три дюжины рубашек голландского полотна. Так нужно как можно скорее приискать белошвеек для двух дюжин, а времени у нас очень мало. Господин Быков сердится, говорит, что с этими тряпками ужасно много возни. Свадьба наша через пять дней, а на другой день после свадьоы мы едем. Господин Быков торопится, говорит, что на вздор много времени не нужно терять. Я измучилась от хлопот и чуть на ногах стою. Дела страшчая куча, а, право, лучше, если б этого ничего не было. Да еще: у нас недостает блонд и кружева, так вот нужно бы прикупить, потому что господин Быков говорит, что он не хочет, чтобы жена его как кухарка ходила, и что я непременно должна “утереть нос всем помещицам”. Так он сам говорит. Так вот, Макар Алексеевич, адресуйтесь, пожалуйста, к мадам Шифон в Гороховую и попросите, во-первых, прислать к нам белошвеек, а вовторых, чтоб и сама потрудилась заехать. Я сегодня больна. На новой квартире у нас так холодно и беспорядки ужасные. Тетушка господина Быкова чуть-чуть дышит от старости. Я боюсь, чтобы не умерла до нашего отъезда, но господин Быков говорит, что ничего, очнется. В доме у нас беспорядки ужасные. Господин Быков с нами не живет, так люди все разбегаются, бог знает куда. Случается, что одна Федора нам прислуживает: а камердинер господина Быкова, который смотрит за всем, уже третий день неизвестно где пропадает. Господин Быков заезжает каждое утро, все сердится и вчера побил приказчика дома, за что имел неприятности с полицией… Не с кем было к вам и письма-то послать. Пишу по городской почте. Да! Чуть было не забыла самого важного. Скажите мадам Шифон, чтобы блонды она непременно переменила, сообразуясь со вчерашним образчиком, и чтобы сама заехала ко мне показать новый выбор. Да скажите еще, что я раздумала насчет канзу; что его нужно вышивать крошью. Да еще: буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром; слышите ли? тамбуром, а не гладью. Смотрите же не забудьте, что тамбуром! Вот еще чуть было не забыла! Передайте ей, ради бога, чтобы листики на пелерине шить возвышенно, усики и шипы кордонне, а потом обшить воротник кружевом или широкой фальбалой. Пожалуйста, передайте, Макар Алексеевич. | —Bwikov has just informed me that I must have at least three dozen linen blouses; so I must go at once and look for sempstresses to make two out of the three dozen, since time presses. Indeed, Monsieur Bwikov is quite angry about the fuss which these fripperies are entailing, seeing that there remain but five days before the wedding, and we are to depart on the following day. He keeps rushing about and declaring that no time ought to be wasted on trifles. I am terribly worried, and scarcely able to stand on my feet. There is so much to do, and, perhaps, so much that were better left undone! Moreover, I have no blond or other lace; so THERE is another item to be purchased, since Bwikov declares that he cannot have his bride look like a cook, but, on the contrary, she must “put the noses of the great ladies out of joint.” That is his expression. I wish, therefore, that you would go to Madame Chiffon’s, in Gorokhovaia Street, and ask her, in the first place, to send me some sempstresses, and, in the second place, to give herself the trouble of coming in person, as I am too ill to go out. Our new flat is very cold, and still in great disorder. Also, Bwikov has an aunt who is at her last gasp through old age, and may die before our departure. He himself, however, declares this to be nothing, and says that she will soon recover. He is not yet living with me, and I have to go running hither and thither to find him. Only Thedora is acting as my servant, together with Bwikov’s valet, who oversees everything, but has been absent for the past three days. Each morning Bwikov goes to business, and loses his temper. Yesterday he even had some trouble with the police because of his thrashing the steward of these buildings… I have no one to send with this letter so I am going to post it… Ah! I had almost forgotten the most important point—which is that I should like you to go and tell Madame Chiffon that I wish the blond lace to be changed in conformity with yesterday’s patterns, if she will be good enough to bring with her a new assortment. Also say that I have altered my mind about the satin, which I wish to be tamboured with crochet-work; also, that tambour is to be used with monograms on the various garments. Do you hear? Tambour, not smooth work. Do not forget that it is to be tambour. Another thing I had almost forgotten, which is that the lappets of the fur cloak must be raised, and the collar bound with lace. Please tell her these things, Makar Alexievitch. |
| Ваша | —Your friend, |
| В. Д. | B. D. |
| P. S. Мне так совестно, что я все вас мучаю моими комиссиями. Вот и третьего дня вы целое утро бегали. Но что делать! У нас в доме нет никакого порядка, а я сама нездорова. Так не досадуйте на меня, Макар Алексеевич. Такая тоска! Ах, что это будет, друг мой, милый мой, добрый мой Макар Алексеевич! Я и заглянуть боюсь в мое будущее. Я все что-то предчувствую и точно в чаду в каком-то живу. | P.S.—I am so ashamed to trouble you with my commissions! This is the third morning that you will have spent in running about for my sake. But what else am I to do? The whole place is in disorder, and I myself am ill. Do not be vexed with me, Makar Alexievitch. I am feeling so depressed! What is going to become of me, dear friend, dear, kind, old Makar Alexievitch? I dread to look forward into the future. Somehow I feel apprehensive; I am living, as it were, in a mist. |
| P. S. Ради бога, мой друг, не позабудьте чего-нибудь из того, что я вам теперь говорила. Я все боюсь, чтобы вы как-нибудь не ошиблись. Помните же, тамбуром, а не гладью. | Yet, for God’s sake, forget none of my commissions. I am so afraid lest you should make a mistake! Remember that everything is to be tambour work, not smooth. |
| В. Д. | |
| Сентября. 27. | September 27th. |
| Милостивая государыня, | MY BELOVED |
| Варвара Алексеевна! | BARBARA ALEXIEVNA, |
| Комиссии ваши все исполнил рачительно. Мадам Шифон говорит, что она уже сама думала обшивать тамбуром; что это приличнее, что ли, уж не знаю, в толк не взял хорошенько. Да еще, вы там фальбалу написали, так она и про фальбалу говорила. Только я, маточка, и позабыл, что она мне про фальбалу говорила. Только помню, очень много говорила; такая скверная баба! Что бишь такое? Да вот она вам сама все расскажет. Я, маточка моя, совсем замотался. Сегодня я и в должность не ходил. Только вы-то, родная моя, напрасно отчаиваетесь. Для вашего спокойствия я готов все магазины обегать. Вы пишете, что в будущее заглянуть боитесь. Да ведь сегодня в седьмом часу все узнаете. Мадам Шифон сама к вам приедет. Так вы и не отчаивайтесь; надейтесь, маточка; авось и все-то устроится к лучшему – вот. Так того-то, я все фальбалу-то проклятую – эх, мне эта фальбала, фальбала! Я бы к вам забежал, ангельчик, забежал бы, непременно бы забежал; я уж и так к воротам вашего дома раза два подходил. Да все Быков, то есть, я хочу сказать, что господин Быков все сердитый такой, так вот оно и не того… Ну,да уж что! | —I have carefully fulfilled your commissions. Madame Chiffon informs me that she herself had thought of using tambour work as being more suitable (though I did not quite take in all she said). Also, she has informed me that, since you have given certain directions in writing, she has followed them (though again I do not clearly remember all that she said—I only remember that she said a very great deal, for she is a most tiresome old woman). These observations she will soon be repeating to you in person. For myself, I feel absolutely exhausted, and have not been to the office today… Do not despair about the future, dearest. To save you trouble I would visit every shop in St. Petersburg. You write that you dare not look forward into the future. But by tonight, at seven o’clock, you will have learned all, for Madame Chiffon will have arrived in person to see you. Hope on, and everything will order itself for the best. Of course, I am referring only to these accursed gewgaws, to these frills and fripperies! Ah me, ah me, how glad I shall be to see you, my angel! Yes, how glad I shall be! Twice already today I have passed the gates of your abode. Unfortunately, this Bwikov is a man of such choler that—Well, things are as they are. |
| Макар Девушкин. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Сентября 28. | September 28th. |
| Милостивый государь, | MY DEAREST |
| Макар Алексеевич! | MAKAR ALEXIEVITCH, |
| Ради бога, бегите сейчас к брильянтщику. Скажите ему, что серьги с жемчугом и изумрудами делать не нужно. Господин Быков говорит, что слишком богато, что это кусается. Он сердится; говорит, что ему и так в карман стало и что мы его грабим, а вчера сказал, что если бы вперед знал да ведал про такие расходы, так и не связывался бы. Говорит, что только нас повенчают, так сейчас и уедем, что гостей не будет и чтобы я вертеться и плясать не надеялась, что еще далеко до праздников. Вот он как говорит! А бог видит, нужно ли мне все это! | —For God’s sake go to the jeweller’s, and tell him that, after all, he need not make the pearl and emerald earrings. Monsieur Bwikov says that they will cost him too much, that they will burn a veritable hole in his pocket. In fact, he has lost his temper again, and declares that he is being robbed. Yesterday he added that, had he but known, but foreseen, these expenses, he would never have married. Also, he says that, as things are, he intends only to have a plain wedding, and then to depart. “You must not look for any dancing or festivity or entertainment of guests, for our gala times are still in the air.” Such were his words. |
| Сам же господин Быков все заказывал. Я и отвечать ему ничего не смею: он горячий такой. Что со мною будет! | God knows I do not want such things, but none the less Bwikov has forbidden them. I made him no answer on the subject, for he is a man all too easily irritated. What, what is going to become of me? |
| В. Д. | B. D. |
| Сентября 28. | September 28th. |
| Голубчик мой, Варвара Алексеевна! | MY BELOVED BARBARA ALEXIEVNA, |
| Я – то есть брильянтщик говорит – хорошо; а я про себя хотел сначала сказать, что я заболел и встать не могу с постели. Вот теперь, как время пришло хлопотливое, нужное, так и простуды напали, враг их возьми! Тоже уведомляю вас, что к довершению несчастий моих и его превосходительство изволили быть строгими, и на Емельяна Ивановича много сердились и кричали, и под конец совсем измучились, бедненькие. Вот я вас и уведомляю обо всем. Да еще хотел вам написать что-нибудь, только вас утруждать боюсь. Ведь я, маточка, человек глупый, простой, пишу себе что ни попало, так, может быть, вы там чего-нибудь и такого – ну, да уж что! | —All is well as regards the jeweller. Unfortunately, I have also to say that I myself have fallen ill, and cannot rise from bed. Just when so many things need to be done, I have gone and caught a chill, the devil take it! Also I have to tell you that, to complete my misfortunes, his Excellency has been pleased to become stricter. Today he railed at and scolded Emelia Ivanovitch until the poor fellow was quite put about. That is the sum of my news. No—there is something else concerning which I should like to write to you, but am afraid to obtrude upon your notice. I am a simple, dull fellow who writes down whatsoever first comes into his head |
| Ваш | —Your friend, |
| Макар Девушкин. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Сентября 29. | September 29th. |
| Варвара Алексеевна, родная моя! | MY OWN BARBARA ALEXIEVNA, |
| Я сегодня Федору видел, голубчик мой. Она говорит, что вас уже завтра венчают, а послезавтра вы едете и что господин Быков уже лошадей нанимает. Насчет его превосходительства я уже уведомлял вас, маточка. Да еще: счеты из магазина я в Гороховой проверил; все верно, да только очень дорого. Только за что же господин-то Быков на вас сердится? Ну, будьте счастливы, маточка! Я рад; да, я буду рад, если вы будете счастливы. Я бы пришел в церковь, маточка, да не могу, болит поясница. Так вот я все насчет писем: ведь вот кто же теперь их передавать-то нам будет, маточка? Да! Вы Федору-то облагодетельствовали, родная моя! Это доброе дело вы сделали, друг мой; это вы очень хорошо сделали. Доброе дело! А за каждое доброе дело вас господь благословлять будет. Добрые дела не остаются без награды, и добродетель всегда будет увенчана венцом справедливости божией, рано ли, поздно ли. Маточка! Я бы вам много хотел написать, так, каждый час, каждую минуту все бы писал, все бы писал! У меня еще ваша книжка осталась одна, “Белкина повести”, так вы ее, знаете, маточка, не берите ее у меня, подарите ее мне, мой голубчик. Это не потому, что уж мне так ее читать хочется. Но сами вы знаете, маточка, подходит зима; вечера будут длинные; грустно будет, так вот бы и почитать. Я, маточка, перееду с моей квартиры на вашу старую и буду нанимать у Федоры. Я с этой честной женщиной теперь ни за что не расстанусь; к тому же она такая работящая. Я вашу квартиру опустевшую вчера подробно осматривал. Там, как были ваши пялечки, а на них шитье, так они и остались нетронутые: в углу стоят. Я ваше шитье рассматривал. Остались еще тут лоскуточки разные. На одно письмецо мое вы ниточки начали было наматывать. В столике нашел бумажки листочек, а на бумажке написано: “Милостивый государь, Макар Алексеевич, спешу” -и только. Видно, вас кто-нибудь прервал на самом интересном месте. В углу за ширмочками ваша кроватка стоит… Голубчик вы мой !!! Ну, прощайте, прощайте; ради бога, отвечайте мне что-нибудь на это письмецо поскорее. | —Today, dearest, I saw Thedora, who informed me that you are to be married tomorrow, and on the following day to go away—for which purpose Bwikov has ordered a post-chaise…. Well, of the incident of his Excellency, I have already told you. Also I have verified the bill from the shop in Gorokhovaia Street. It is correct, but very long. Why is Monsieur Bwikov so out of humour with you? Nay, but you must be of good cheer, my darling. I am so, and shall always be so, so long as you are happy. I should have come to the church tomorrow, but, alas, shall be prevented from doing so by the pain in my loins. Also, I would have written an account of the ceremony, but that there will be no one to report to me the details…. Yes, you have been a very good friend to Thedora, dearest. You have acted kindly, very kindly, towards her. For every such deed God will bless you. Good deeds never go unrewarded, nor does virtue ever fail to win the crown of divine justice, be it early or be it late. Much else should I have liked to write to you. Every hour, every minute I could occupy in writing. Indeed I could write to you forever! Only your book, “The Stories of Bielkin”, is left to me. Do not deprive me of it, I pray you, but suffer me to keep it. It is not so much because I wish to read the book for its own sake, as because winter is coming on, when the evenings will be long and dreary, and one will want to read at least SOMETHING. Do you know, I am going to move from my present quarters into your old ones, which I intend to rent from Thedora; for I could never part with that good old woman. Moreover, she is such a splendid worker. Yesterday I inspected your empty room in detail, and inspected your embroidery-frame, with the work still hanging on it. It had been left untouched in its corner. Next, I inspected the work itself, of which there still remained a few remnants, and saw that you had used one of my letters for a spool upon which to wind your thread. Also, on the table I found a scrap of paper which had written on it, “My dearest Makar Alexievitch I hasten to—” that was all. Evidently, someone had interrupted you at an interesting point. Lastly, behind a screen there was your little bed…. Oh darling of darlings!!!… Well, goodbye now, goodbye now, but for God’s sake send me something in answer to this letter! |
| Макар Девушкин. | MAKAR DIEVUSHKIN. |
| Сентября 30. | September 30th. |
| Бесценный друг мой, Макар Алексеевич! | MY BELOVED MAKAR ALEXIEVITCH, |
| Все совершилось! Выпал мой жребий; не знаю какой, но я воле господа покорна. Завтра мы едем. Прощаюсь с вами в последний раз, бесценный мой, друг мой, благодетель мой, родной мой! Не горюйте обо мне, живите счастливо, помните обо мне, и да снизойдет на вас благословение божие! Я буду вспоминать вас часто в мыслях моих, в молитвах моих. Вот и кончилось это время! Я мало отрадного унесу в новую жизнь из воспоминаний прошедшего; тем драгоценнее будет воспоминание об вас, тем драгоценнее будете вы моему сердцу. Вы единственный друг мой; вы только одни здесь любили меня. Ведь я все видела, я ведь знала, как вы любили меня! 116 Улыбкой одной моей вы счастливы были, одной строчкой письма моего. Вам нужно будет теперь отвыкать от меня! Как вы одни здесь останетесь! На кого вы здесь останетесь, добрый, бесценный, единственный друг мой! Оставляю вам книжку, пяльцы, начатое письмо; когда будете смотреть на эти начатые строчки, то мыслями читайте дальше все, что бы хотелось вам услышать или прочесть от меня, все, что я ни написала бы вам; а чего бы я ни написала теперь! Вспоминайте о бедной вашей Вареньке, которая вас так крепко любила. Все ваши письма остались в комоде у Федоры, в верхнем ящике. Вы пишете, что вы больны, а господин Быков меня сегодня никуда не пускает. Я буду вам писать, друг мой, я обещаюсь, но ведь один бог знает, что может случиться. Итак, простимся теперь навсегда, друг мой, голубчик мой, родной мой, навсегда!.. Ох, как бы я теперь обняла вас! Прощайте, мой друг, прощайте, прощайте. Живите счастливо; будьте здоровы. Моя молитва будет вечно об вас. О! Как мне грустно, как давит всю мою душу! Господин Быков зовет меня. Вас вечно любящая В. | —All is over! The die is cast! What my lot may have in store I know not, but I am submissive to the will of God. Tomorrow, then, we depart. For the last time, I take my leave of you, my friend beyond price, my benefactor, my dear one! Do not grieve for me, but try to live happily. Think of me sometimes, and may the blessing of Almighty God light upon you! For myself, I shall often have you in remembrance, and recall you in my prayers. Thus our time together has come to an end. Little comfort in my new life shall I derive from memories of the past. The more, therefore, shall I cherish the recollection of you, and the dearer will you ever be to my heart. Here, you have been my only friend; here, you alone have loved me. Yes, I have seen all, I have known all—I have throughout known how well you love me. A single smile of mine, a single stroke from my pen, has been able to make you happy…. But now you must forget me…. How lonely you will be! Why should you stay here at all, kind, inestimable, but solitary, friend of mine? To your care I entrust the book, the embroidery frame, and the letter upon which I had begun. When you look upon the few words which the letter contains you will be able mentally to read in thought all that you would have liked further to hear or receive from me—all that I would so gladly have written, but can never now write. Think sometimes of your poor little Barbara who loved you so well. All your letters I have left behind me in the top drawer of Thedora’s chest of drawers… You write that you are ill, but Monsieur Bwikov will not let me leave the house today; so that I can only write to you. Also, I will write again before long. That is a promise. Yet God only knows when I shall be able to do so…. Now we must bid one another forever farewell, my friend, my beloved, my own! Yes, it must be forever! Ah, how at this moment I could embrace you! Goodbye, dear friend—goodbye, goodbye! May you ever rest well and happy! To the end I shall keep you in my prayers. How my heart is aching under its load of sorrow!… Monsieur Bwikov is just calling for me….—Your ever loving B. |
| P. S. Моя душа так полна, так полна теперь слезами… | P.S.—My heart is full! It is full to bursting of tears! |
| Слезы теснят меня, рвут меня. Прощайте. | Sorrow has me in its grip, and is tearing me to pieces. Goodbye. |
| Боже! как грустно! | My God, what grief! |
| Помните, помните вашу бедную Вареньку! | Do not, do not forget your poor Barbara! |
| Маточка, Варенька, голубчик мой, бесценная моя! Вас увозят, вы едете! Да теперь лучше бы сердце они из груди моей вырвали, чем вас у меня! Как же вы это! Вот вы плачете, и вы едете?! Вот я от вас письмецо сейчас получил, все слезами закапанное. Стало быть, вам не хочется ехать; стало быть, вас насильно увозят, стало быть, вам жаль меня, стало быть, вы меня любите! Дз как же, с кем же вы теперь будете? Там вашему сердечку будет грустно, тошно и холодно. Тоска его высосет, грусть его пополам разорвет. Вы там умрете, вас там в сыру землю положат; об вас и поплакать будет некому там! Господлн Быков будет все зайцев травить… Ах, маточка, маточка! на что же вы это решились, как же вы на такую меру решиться могли? Что вы сделали, что вы сделали, что вы над собой сделали! Ведь вас там в гроб сведут; они заморят вас там, ангельчик. Ведь вы, маточка, как перышко слабенькие! И я-то где был? Чего я тут, дурак, глазел! Вижу, дитя блажит, у дитяти просто головка болит! Чем бы тут попросту – так нет же, дурак дураком, и не думаю ничего, и не вижу ничего, как будто и прав, как будто и дело до меня не касается; и еще за фальбалой бегал!.. Нет, я, Варенька, встану; я к завтрашнему дню, может быть, выздоровлю, так вот я и встану!.. Я, маточка, под колеса брошусь; я вас не пущу уезжать! Да нет, что же это в самом деле такое? По какому праву все это делается? Я с вами уеду; я за каретой вашей побегу, если меня не возьмете, и буду бежать что есть мочи, покамест дух из меня выйдет. Да вы знаете ли только, что там такое, куда вы едете-то, маточка? Вы, может быть, этого не знаете, так меня спросите! Там степь, родная моя, там степь, голая степь; вот как моя ладонь голая! Там ходит баба бесчувственная да мужик необразованный, пьяница ходит. Там теперь листья с дерев осыпались, там дожди, там холодно, – а вы туда едете! Ну, господину Быкову там есть занятие: он там будет с зайцами; а вы что? Вы помещицей хотите быть, маточка? Но, херувимчик вы мой! Вы поглядите-ка на себя, похожи ли вы на помещицу?.. Да как же может быть такое, Варенька! К кому же я письма буду писать, маточка? Да! вот вы возьмите-ка в соображение, маточка, – дескать, к кому же он письма будет писать? Кого же я маточкой называть буду; именем-то любезным таким кого называть буду? Где мне вас найти потом, ангельчик мой? Я умру, Варенька, непременно умру; не перенесет мое сердце такого несчастия! Я вас, как свет господень, любил, как дочку родную любил, я все в вас любил, маточка, родная моя! и сам для вас только и жил одних! Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, и наблюдения мои бумаге передавал в виде дружеских писем, все оттого, что вы, маточка, здесь, напротив, поблизости жили. Вы, может быть, этого и не знали, а это все было именно так! Да, послушайте, маточка, вы рассудите, голубчик мой миленький, как же это может быть, чтобы вы от нас уехали? Родная моя, ведь вам ехать нельзя, невозможно; просто решительно никакой возможности нет! Ведь вот дождь идет, а вы слабенькие, вы простудитесь. Ваша карета промокнет; она непременно промокнет. Она, только что вы за заставу выедете, и сломается; нарочно сломается. Ведъ здесь в Петербурге прескверно кареты делают! Я и каретников этих всех знаю; они только чтоб фасончик, игрушечку там какую-нибудь смастерить, а непрочно! присягну, что непрочно делают! Я, маточка, на колени перед господином Быковым брошусь; я ему докажу, все докажу! И вы, маточка, докажите; резоном докажите ему! Скажите, что вы остаетесь и что вы не можете ехать!.. Ах, зачем это он в Москве на купчихе не женился? Уж пусть бы он там на ней-то женился! Ему купчиха лучше, ему она гораздо лучше бы шла; уж это я знаю почему! А я бы вас здесь у себя держал. Да что он вам-то, маточка, Быков-то? Чем он для вас вдруг мил сделался? Вы, может быть, оттого, что он вам фальбалуто все закупает, вы, может быть, от этого! Да ведь что же фальбала? зачем фальбала? Ведь она, маточка, вздор! Тут речь идет о жизни человеческой, а ведь она, маточка, тряпка – фальбала; она, маточка, фальбалато – тряпица. Да я вот вам сам, вот только что жалованье получу, фальбалы накуплю; я вам ее накуплю, маточка; у меня там вот и магазинчик знакомый есть; вот только жалованья дайте дождаться мне, херувимчик мой, Варенька! Ах, господи, господи! Так вы это непременно в степь с господином Быковым уезжаете, безвозвратно уезжаете! Ах, маточка!.. Нет, вы мне еще напишите, еще мне письмецо напишите обо всем, и когда уедете. так и оттуда письмо напишите. А то ведь, ангел небесный мой, это будет последнее письмо; а ведь никак не может так быть, чтобы письмо это было последнее. Ведь вот как же, так вдруг, именно, непременно последнее! Да нет же. я буду писать, да и вы-то пишите… А то у меня и слог теперь формируется… Ах, родная моя, что слог! Ведь вот я теперь и не знаю, что это я шишу, никак не знаю, ничего не знаю, и не перечитываю, и слогу не выправляю, а пишу только бы писать, только бы вам написать побольше… Голубчик мой, родная моя, маточка вы моя! | BELOVED BARBARA—MY JEWEL, MY PRICELESS ONE,—You are now almost en route, you are now just about to depart! Would that they had torn my heart out of my breast rather than have taken you away from me! How could you allow it? You weep, yet you go! And only this moment I have received from you a letter stained with your tears! It must be that you are departing unwillingly; it must be that you are being abducted against your will; it must be that you are sorry for me; it must be that—that you LOVE me!… Yet how will it fare with you now? Your heart will soon have become chilled and sick and depressed. Grief will soon have sucked away its life; grief will soon have rent it in twain! Yes, you will die where you be, and be laid to rest in the cold, moist earth where there is no one to bewail you. Monsieur Bwikov will only be hunting hares!… Ah, my darling, my darling! WHY did you come to this decision? How could you bring yourself to take such a step? What have you done, have you done, have you done? Soon they will be carrying you away to the tomb; soon your beauty will have become defiled, my angel. Ah, dearest one, you are as weak as a feather. And where have I been all this time? What have I been thinking of? I have treated you merely as a forward child whose head was aching. Fool that I was, I neither saw nor understood. I have behaved as though, right or wrong, the matter was in no way my concern. Yes, I have been running about after fripperies!… Ah, but I WILL leave my bed. Tomorrow I WILL rise sound and well, and be once more myself…. Dearest, I could throw myself under the wheels of a passing vehicle rather than that you should go like this. By what right is it being done?… I will go with you; I will run behind your carriage if you will not take me—yes, I will run, and run so long as the power is in me, and until my breath shall have failed. Do you know whither you are going? Perhaps you will not know, and will have to ask me? Before you there lie the Steppes, my darling—only the Steppes, the naked Steppes, the Steppes that are as bare as the palm of my hand. THERE there live only heartless old women and rude peasants and drunkards. THERE the trees have already shed their leaves. THERE there abide but rain and cold. Why should you go thither? True, Monsieur Bwikov will have his diversions in that country—he will be able to hunt the hare; but what of yourself? Do you wish to become a mere estate lady? Nay; look at yourself, my seraph of heaven. Are you in any way fitted for such a role? How could you play it? To whom should I write letters? To whom should I send these missives? Whom should I call “my darling”? To whom should I apply that name of endearment? Where, too, could I find you? When you are gone, Barbara, I shall die—for certain I shall die, for my heart cannot bear this misery. I love you as I love the light of God; I love you as my own daughter; to you I have devoted my love in its entirety; only for you have I lived at all; only because you were near me have I worked and copied manuscripts and committed my views to paper under the guise of friendly letters. Perhaps you did not know all this, but it has been so. How, then, my beloved, could you bring yourself to leave me? Nay, you MUST not go—it is impossible, it is sheerly, it is utterly, impossible. The rain will fall upon you, and you are weak, and will catch cold. The floods will stop your carriage. No sooner will it have passed the city barriers than it will break down, purposely break down. Here, in St. Petersburg, they are bad builders of carriages. Yes, I know well these carriage-builders. They are jerry-builders who can fashion a toy, but nothing that is durable. Yes, I swear they can make nothing that is durable…. All that I can do is to go upon my knees before Monsieur Bwikov, and to tell him all, to tell him all. Do you also tell him all, dearest, and reason with him. Tell him that you MUST remain here, and must not go. Ah, why did he not marry that merchant’s daughter in Moscow? Let him go and marry her now. She would suit him far better and for reasons which I well know. Then I could keep you. For what is he to you, this Monsieur Bwikov? Why has he suddenly become so dear to your heart? Is it because he can buy you gewgaws? What are THEY? What use are THEY? They are so much rubbish. One should consider human life rather than mere finery. Nevertheless, as soon as I have received my next instalment of salary I mean to buy you a new cloak. I mean to buy it at a shop with which I am acquainted. Only, you must wait until my next installment is due, my angel of a Barbara. Ah, God, my God! To think that you are going away into the Steppes with Monsieur Bwikov—that you are going away never to return!… Nay, nay, but you SHALL write to me. You SHALL write me a letter as soon as you have started, even if it be your last letter of all, my dearest. Yet will it be your last letter? How has it come about so suddenly, so irrevocably, that this letter should be your last? Nay, nay; I will write, and you shall write—yes, NOW, when at length I am beginning to improve my style. Style? I do not know what I am writing. I never do know what I am writing. I could not possibly know, for I never read over what I have written, nor correct its orthography. At the present moment, I am writing merely for the sake of writing, and to put as much as possible into this last letter of mine…. Ah, dearest, my pet, my own darling!… |
| < < < | BILINGUAL BOOKS > > > |
| Двуязычный текст, подготовленный Akirill.com , размещенные на сайте Akirill.com 24 июня 2022 года. 2022 года. Каждую из книг (на английском или русском языках) можно забрать отдельно и повторно использовать в личных и некоммерческих целях. Они свободны от авторского права. При любом совместном использовании двух книг должно быть указано их происхождение https://www.Akirill.com | Bilingual text prepared by Akirill.com , deposited on the site Akirill.com on June 24, 2022. Each of the books (English or French) can be taken back separately and reused for personal and non-commercial purposes. They are free of copyright. Any use of the two books side by side must mention their origin https://www.Akirill.com |
Poor People, by Fyodor Dostoyevsky
| If you liked this page, don’t forget to like and share. Si vous avez aimé cette page, n’oublier pas d’aimer et de partager. |
| Subscribe to not miss anything Abonnez-vous pour ne rien manquer |
| Check out our latest posts |
| Découvrez nos derniers articles |