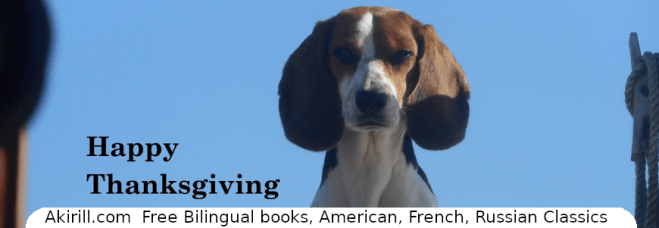Это не дословный перевод, а книга на двух языках, вышедшие бок о бок. Вы можете прочитать его на русском, английском или на обоих языках.
This is not a word-by-word translation but the books in the two languages put side by side. You can read it in Russian, in English or both.
Тарас Бульба (Николай Гоголь)

| Тарас Бульба (Николай Гоголь) | Taras Bulba , by Nikolai Vasilievich Gogol |
| < < < BILINGUAL BOOKS | > > > |
| Page 1 | Page 1 |
| Редакция 1842 г. | |
| I | |
| – А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И эдак все ходят в академии? – Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших домой к отцу. | “Turn round, my boy! How ridiculous you look! What sort of a priest’s cassock have you got on? Does everybody at the academy dress like that?” With such words did old Bulba greet his two sons, who had been absent for their education at the Royal Seminary of Kief, and had now returned home to their father. |
| Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю. | His sons had but just dismounted from their horses. They were a couple of stout lads who still looked bashful, as became youths recently released from the seminary. Their firm healthy faces were covered with the first down of manhood, down which had, as yet, never known a razor. They were greatly discomfited by such a reception from their father, and stood motionless with eyes fixed upon the ground. Akirill.com |
| – Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько, – продолжал он, поворачивая их, – какие же длинные на вас свитки1! Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не было. А побеги который-нибудь из вас! я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшися в полы. | “Stand still, stand still! let me have a good look at you,” he continued, turning them around. “How long your gaberdines are! What gaberdines! There never were such gaberdines in the world before. Just run, one of you! I want to see whether you will not get entangled in the skirts, and fall down.” |
| – Не смейся, не смейся, батьку! – сказал наконец старший из них. | “Don’t laugh, don’t laugh, father!” said the eldest lad at length. |
| – Смотри ты, какой пышный! А отчего ж бы не смеяться? | “How touchy we are! Why shouldn’t I laugh?” |
| – Да так, хоть ты мне и батько, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу! | “Because, although you are my father, if you laugh, by heavens, I will strike you!” |
| – Ах ты, сякой-такой сын! Как, батька?.. – сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад. | “What kind of son are you? what, strike your father!” exclaimed Taras Bulba, retreating several paces in amazement. |
| – Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого. | “Yes, even my father. I don’t stop to consider persons when an insult is in question.” |
| – Как же хочешь ты со мною биться? разве на кулаки? | “So you want to fight me? with your fist, eh?” |
| – Да уж на чем бы то ни было. Akirill.com | “Any way.” |
| – Ну, давай на кулаки! – говорил Тарас Бульба, засучив рукава, – посмотрю я, что за человек ты в кулаке! | “Well, let it be fisticuffs,” said Taras Bulba, turning up his sleeves. “I’ll see what sort of a man you are with your fists.” |
| И отец с сыном, вместо приветствия после давней отлучки, начали насаживать друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая. | And father and son, in lieu of a pleasant greeting after long separation, began to deal each other heavy blows on ribs, back, and chest, now retreating and looking at each other, now attacking afresh. |
| – Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил с ума! – говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. – Дети приехали домой, больше году их не видали, а он задумал невесть что: на кулаки биться! | “Look, good people! the old man has gone mad! he has lost his senses completely!” screamed their pale, ugly, kindly mother, who was standing on the threshold, and had not yet succeeded in embracing her darling children. “The children have come home, we have not seen them for over a year; and now he has taken some strange freak—he’s pommelling them.” |
| – Да он славно бьется! – говорил Бульба, остановившись. – Ей-богу, хорошо! – продолжал он, немного оправляясь, – так, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет козак! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся! – И отец с сыном стали целоваться. – Добре, сынку! Вот так колоти всякого, как меня тузил; никому не спускай! А все-таки на тебе смешное убранство: что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил? – говорил он, обращаясь к младшему, – что ж ты, собачий сын, не колотишь меня? | “Yes, he fights well,” said Bulba, pausing; “well, by heavens!” he continued, rather as if excusing himself, “although he has never tried his hand at it before, he will make a good Cossack! Now, welcome, son! embrace me,” and father and son began to kiss each other. “Good lad! see that you hit every one as you pommelled me; don’t let any one escape. Nevertheless your clothes are ridiculous all the same. What rope is this hanging there?—And you, you lout, why are you standing there with your hands hanging beside you?” he added, turning to the youngest. “Why don’t you fight me? you son of a dog!” |
| – Вот еще что выдумал! – говорила мать, обнимавшая между тем младшего. – И придет же в голову этакое, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь: дитя молодое, проехало столько пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень ростом), ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться! | “What an idea!” said the mother, who had managed in the meantime to embrace her youngest. “Who ever heard of children fighting their own father? That’s enough for the present; the child is young, he has had a long journey, he is tired.” The child was over twenty, and about six feet high. “He ought to rest, and eat something; and you set him to fighting!” |
| – Э, да ты мазунчик, как я вижу! – говорил Бульба. -Не слушай, сынку, матери: она-баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба – чистое поле да добрый конь: вот ваша нежба! А видите вот эту саблю? вот ваша матерь! Это все дрянь, чем набивают головы ваши; и академия, и все те книжки, буквари, и философия – все это ка зна що, я плевать на все это! – Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. – А вот, лучше, я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука так наука! Там вам школа; там только наберетесь разуму. | “You are a gabbler!” said Bulba. “Don’t listen to your mother, my lad; she is a woman, and knows nothing. What sort of petting do you need? A clear field and a good horse, that’s the kind of petting for you! And do you see this sword? that’s your mother! All the rest people stuff your heads with is rubbish; the academy, books, primers, philosophy, and all that, I spit upon it all!” Here Bulba added a word which is not used in print. “But I’ll tell you what is best: I’ll take you to Zaporozhe (1) this very week. That’s where there’s science for you! There’s your school; there alone will you gain sense.” |
| (1) The Cossack country beyond (za) the falls (porozhe) of the Dnieper. | |
| – И всего только одну неделю быть им дома? – говорила жалостно, со слезами на глазах, худощавая старуха мать. – И погулять им, бедным, не удастся; не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них! | “And are they only to remain home a week?” said the worn old mother sadly and with tears in her eyes. “The poor boys will have no chance of looking around, no chance of getting acquainted with the home where they were born; there will be no chance for me to get a look at them.” Akirill.com |
| – Полно, полно выть, старуха! Козак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, да ставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков; тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетние! Да горелки побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой, пенной горелки, чтобы играла и шипела как бешеная. | “Enough, you’ve howled quite enough, old woman! A Cossack is not born to run around after women. You would like to hide them both under your petticoat, and sit upon them as a hen sits on eggs. Go, go, and let us have everything there is on the table in a trice. We don’t want any dumplings, honey-cakes, poppy-cakes, or any other such messes: give us a whole sheep, a goat, mead forty years old, and as much corn-brandy as possible, not with raisins and all sorts of stuff, but plain scorching corn-brandy, which foams and hisses like mad.” |
| Бульба повел сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных монистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потому долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющихся более на Украйне бородатыми старцами-слепцами в сопровождении тихого треньканья бандуры, в виду обступившего народа; во вкусе того бранного, трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украйне за унию. Все было чисто, вымазано цветной глиною. На стенах – сабли, нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: венецейской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями, через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты; огромный стол под образами в парадном углу; широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными пестрыми изразцами, – все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время; приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не в обычае было позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий козак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов. | Bulba led his sons into the principal room of the hut; and two pretty servant girls wearing coin necklaces, who were arranging the apartment, ran out quickly. They were either frightened at the arrival of the young men, who did not care to be familiar with anyone; or else they merely wanted to keep up their feminine custom of screaming and rushing away headlong at the sight of a man, and then screening their blushes for some time with their sleeves. The hut was furnished according to the fashion of that period—a fashion concerning which hints linger only in the songs and lyrics, no longer sung, alas! in the Ukraine as of yore by blind old men, to the soft tinkling of the native guitar, to the people thronging round them—according to the taste of that warlike and troublous time, of leagues and battles prevailing in the Ukraine after the union. Everything was cleanly smeared with coloured clay. On the walls hung sabres, hunting-whips, nets for birds, fishing-nets, guns, elaborately carved powder-horns, gilded bits for horses, and tether-ropes with silver plates. The small window had round dull panes, through which it was impossible to see except by opening the one moveable one. Around the windows and doors red bands were painted. On shelves in one corner stood jugs, bottles, and flasks of green and blue glass, carved silver cups, and gilded drinking vessels of various makes—Venetian, Turkish, Tscherkessian, which had reached Bulba’s cabin by various roads, at third and fourth hand, a thing common enough in those bold days. There were birch-wood benches all around the room, a huge table under the holy pictures in one corner, and a huge stove covered with particoloured patterns in relief, with spaces between it and the wall. All this was quite familiar to the two young men, who were wont to come home every year during the dog-days, since they had no horses, and it was not customary to allow students to ride afield on horseback. The only distinctive things permitted them were long locks of hair on the temples, which every Cossack who bore weapons was entitled to pull. It was only at the end of their course of study that Bulba had sent them a couple of young stallions from his stud. |
| Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был налицо; и когда пришли двое из них и есаул Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тот же час представил сыновей, говоря: “Вот смотрите, какие молодцы! На Сечь их скоро пошлю”. Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей и сказали им, что доброе дело делают и что нет лучшей науки для молодого человека, как Запорожская Сечь. | Bulba, on the occasion of his sons’ arrival, ordered all the sotniks or captains of hundreds, and all the officers of the band who were of any consequence, to be summoned; and when two of them arrived with his old comrade, the Osaul or sub-chief, Dmitro Tovkatch, he immediately presented the lads, saying, “See what fine young fellows they are! I shall send them to the Setch (2) shortly.” The guests congratulated Bulba and the young men, telling them they would do well and that there was no better knowledge for a young man than a knowledge of that same Zaporozhian Setch. |
| (2) The village or, rather, permanent camp of the Zaporozhian Cossacks. | |
| – Ну ж, паны-браты, садись всякий, где кому лучше, за стол. Ну, сынки! прежде всего выпьем горелки! – так говорил Бульба. – Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остап, и ты, Андрий! Дай же боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы! Чтобы бусурменов били, и турков бы били, и татарву били бы; когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били! Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы: они и не знали, есть ли на свете горелка. Как, бишь, того звали, что латинские вирши писал? Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю: Гораций, что ли? | “Come, brothers, seat yourselves, each where he likes best, at the table; come, my sons. First of all, let’s take some corn-brandy,” said Bulba. “God bless you! Welcome, lads; you, Ostap, and you, Andrii. God grant that you may always be successful in war, that you may beat the Musselmans and the Turks and the Tatars; and that when the Poles undertake any expedition against our faith, you may beat the Poles. Come, clink your glasses. How now? Is the brandy good? What’s corn-brandy in Latin? The Latins were stupid: they did not know there was such a thing in the world as corn-brandy. What was the name of the man who wrote Latin verses? I don’t know much about reading and writing, so I don’t quite know. Wasn’t it Horace?” |
| “Вишь, какой батько! – подумал про себя старший сын, Остап, – все старый, собака, знает, а еще и прикидывается”. | “What a dad!” thought the elder son Ostap. “The old dog knows everything, but he always pretends the contrary.” |
| – Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки, – продолжал Тарас. – А признайтесь, сынки, крепко стегали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что ни есть у козака? А может, так как вы сделались уже слишком разумные, так, может, и плетюганами пороли? Чай, не только по субботам, а доставалось и в середу и в четверги? | “I don’t believe the archimandrite allowed you so much as a smell of corn-brandy,” continued Taras. “Confess, my boys, they thrashed you well with fresh birch-twigs on your backs and all over your Cossack bodies; and perhaps, when you grew too sharp, they beat you with whips. And not on Saturday only, I fancy, but on Wednesday and Thursday.” |
| – Нечего, батько, вспоминать, что было, – отвечал хладнокровно Остап, – что было, то прошло! | “What is past, father, need not be recalled; it is done with.” |
| – Пусть теперь попробует!- сказал Андрий. – Пускай только теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва, будет знать она, что за вещь козацкая сабля! | “Let them try it know,” said Andrii. “Let anybody just touch me, let any Tatar risk it now, and he’ll soon learn what a Cossack’s sword is like!” |
| – Добре, сынку! ей-богу, добре! Да когда на то пошло, то и я с вами еду! ей-богу, еду! Какого дьявола мне здесь ждать? Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями да бабиться с женой? Да пропади она: я козак, не хочу! Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье, погулять. Ей-богу, поеду! – И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. – Затра же едем! Зачем откладывать! Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам все это? На что эти горшки? – Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки. | “Good, my son, by heavens, good! And when it comes to that, I’ll go with you; by heavens, I’ll go too! What should I wait here for? To become a buckwheat-reaper and housekeeper, to look after the sheep and swine, and loaf around with my wife? Away with such nonsense! I am a Cossack; I’ll have none of it! What’s left but war? I’ll go with you to Zaporozhe to carouse; I’ll go, by heavens!” And old Bulba, growing warm by degrees and finally quite angry, rose from the table, and, assuming a dignified attitude, stamped his foot. “We will go to-morrow! Wherefore delay? What enemy can we besiege here? What is this hut to us? What do we want with all these things? What are pots and pans to us?” So saying, he began to knock over the pots and flasks, and to throw them about. |
| Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить; но услыша о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез; взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука, – и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах. | The poor old woman, well used to such freaks on the part of her husband, looked sadly on from her seat on the wall-bench. She did not dare say a word; but when she heard the decision which was so terrible for her, she could not refrain from tears. As she looked at her children, from whom so speedy a separation was threatened, it is impossible to describe the full force of her speechless grief, which seemed to quiver in her eyes and on her lips convulsively pressed together. |
| Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый ХV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников; когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек; когда на пожарищах, в виду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете; когда бранным пламенем объялся древле мирный славянский дух и завелось козачество – широкая, разгульная замашка русской природы, – и когда все поречья, перевозы, прибрежные пологие и удобные места усеялись козаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их: “Кто их знает! у нас их раскидано по всему степу: что байрак, то козак” (что маленький пригорок, там уж и козак). Это было, точно, необыкновенное явленье русской силы: его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся, наместо удельных князей, властителями сих пространных земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значенье козаков и выгоды таковой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению. Под их отдаленною властью гетьманы, избранные из среды самих же козаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи. Это не было строевое собранное войско, его бы никто не увидал; но в случае войны и общего движенья в восемь дней, не больше, всякий являлся на коне, во всем своем вооружении, получа один только червонец платы от короля, – и в две недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход – воин уходил в луга и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный козак. Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновенным способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал козак: накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, в прибавку к тому, гулять напропалую, пить и бражничать, как только может один русский, – все это было ему по плечу. Кроме рейстровых козаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охочекомонных: стоило только есаулам пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши на телегу: “Эй вы, пивники, броварники! полно вам пиво варить, да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, баболюбы! полно вам за плугом ходить, да пачкатъ в земле свои желтые чеботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую! Пора доставать козацкой славы!” И слова эти были как искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки, ремесленник и торгаш посылал к черту и ремесло и лавку, бил горшки в доме. И все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность. | Bulba was terribly headstrong. He was one of those characters which could only exist in that fierce fifteenth century, and in that half-nomadic corner of Europe, when the whole of Southern Russia, deserted by its princes, was laid waste and burned to the quick by pitiless troops of Mongolian robbers; when men deprived of house and home grew brave there; when, amid conflagrations, threatening neighbours, and eternal terrors, they settled down, and growing accustomed to looking these things straight in the face, trained themselves not to know that there was such a thing as fear in the world; when the old, peacable Slav spirit was fired with warlike flame, and the Cossack state was instituted—a free, wild outbreak of Russian nature—and when all the river-banks, fords, and like suitable places were peopled by Cossacks, whose number no man knew. Their bold comrades had a right to reply to the Sultan when he asked how many they were, “Who knows? We are scattered all over the steppes; wherever there is a hillock, there is a Cossack.” It was, in fact, a most remarkable exhibition of Russian strength, forced by dire necessity from the bosom of the people. In place of the original provinces with their petty towns, in place of the warring and bartering petty princes ruling in their cities, there arose great colonies, kurens (3), and districts, bound together by one common danger and hatred against the heathen robbers. The story is well known how their incessant warfare and restless existence saved Europe from the merciless hordes which threatened to overwhelm her. The Polish kings, who now found themselves sovereigns, in place of the provincial princes, over these extensive tracts of territory, fully understood, despite the weakness and remoteness of their own rule, the value of the Cossacks, and the advantages of the warlike, untrammelled life led by them. They encouraged them and flattered this disposition of mind. Under their distant rule, the hetmans or chiefs, chosen from among the Cossacks themselves, redistributed the territory into military districts. It was not a standing army, no one saw it; but in case of war and general uprising, it required a week, and no more, for every man to appear on horseback, fully armed, receiving only one ducat from the king; and in two weeks such a force had assembled as no recruiting officers would ever have been able to collect. When the expedition was ended, the army dispersed among the fields and meadows and the fords of the Dnieper; each man fished, wrought at his trade, brewed his beer, and was once more a free Cossack. Their foreign contemporaries rightly marvelled at their wonderful qualities. There was no handicraft which the Cossack was not expert at: he could distil brandy, build a waggon, make powder, and do blacksmith’s and gunsmith’s work, in addition to committing wild excesses, drinking and carousing as only a Russian can—all this he was equal to. Besides the registered Cossacks, who considered themselves bound to appear in arms in time of war, it was possible to collect at any time, in case of dire need, a whole army of volunteers. All that was required was for the Osaul or sub-chief to traverse the market-places and squares of the villages and hamlets, and shout at the top of his voice, as he stood in his waggon, “Hey, you distillers and beer-brewers! you have brewed enough beer, and lolled on your stoves, and stuffed your fat carcasses with flour, long enough! Rise, win glory and warlike honours! You ploughmen, you reapers of buckwheat, you tenders of sheep, you danglers after women, enough of following the plough, and soiling your yellow shoes in the earth, and courting women, and wasting your warlike strength! The hour has come to win glory for the Cossacks!” These words were like sparks falling on dry wood. The husbandman broke his plough; the brewers and distillers threw away their casks and destroyed their barrels; the mechanics and merchants sent their trade and their shop to the devil, broke pots and everything else in their homes, and mounted their horses. In short, the Russian character here received a profound development, and manifested a powerful outwards expression. |
| (3) Cossack villages. In the Setch, a large wooden barrack. | |
| Тарас был один из числа коренных, старых полковников: весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь козаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам с своими козаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважили в чем старшин и стояли пред ними в шапках, когда поглумились над православием и не почтили предковского закона и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства. | Taras was one of the band of old-fashioned leaders; he was born for warlike emotions, and was distinguished for his uprightness of character. At that epoch the influence of Poland had already begun to make itself felt upon the Russian nobility. Many had adopted Polish customs, and began to display luxury in splendid staffs of servants, hawks, huntsmen, dinners, and palaces. This was not to Taras’s taste. He liked the simple life of the Cossacks, and quarrelled with those of his comrades who were inclined to the Warsaw party, calling them serfs of the Polish nobles. Ever on the alert, he regarded himself as the legal protector of the orthodox faith. He entered despotically into any village where there was a general complaint of oppression by the revenue farmers and of the addition of fresh taxes on necessaries. He and his Cossacks executed justice, and made it a rule that in three cases it was absolutely necessary to resort to the sword. Namely, when the commissioners did not respect the superior officers and stood before them covered; when any one made light of the faith and did not observe the customs of his ancestors; and, finally, when the enemy were Mussulmans or Turks, against whom he considered it permissible, in every case, to draw the sword for the glory of Christianity. |
| Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями своими на Сечь и скажет: “Вот посмотрите, каких я молодцов привел к вам! “; как представит их всем старым, закаленным в битвах товарищам; как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних. Но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в конюшни и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ними ехать. Есаулу Товкачу передал свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если только он подаст из Сечи какую-нибудь весть. Хотя он был и навеселе и в голове его еще бродил хмель, однако ж не забыл ничего. Даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной и лучшей пшеницы и пришел усталый от своих забот. | Now he rejoiced beforehand at the thought of how he would present himself with his two sons at the Setch, and say, “See what fine young fellows I have brought you!” how he would introduce them to all his old comrades, steeled in warfare; how he would observe their first exploits in the sciences of war and of drinking, which was also regarded as one of the principal warlike qualities. At first he had intended to send them forth alone; but at the sight of their freshness, stature, and manly personal beauty his martial spirit flamed up and he resolved to go with them himself the very next day, although there was no necessity for this except his obstinate self-will. He began at once to hurry about and give orders; selected horses and trappings for his sons, looked through the stables and storehouses, and chose servants to accompany them on the morrow. He delegated his power to Osaul Tovkatch, and gave with it a strict command to appear with his whole force at the Setch the very instant he should receive a message from him. Although he was jolly, and the effects of his drinking bout still lingered in his brain, he forgot nothing. He even gave orders that the horses should be watered, their cribs filled, and that they should be fed with the finest corn; and then he retired, fatigued with all his labours. |
| – Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе. | “Now, children, we must sleep, but to-morrow we shall do what God wills. Don’t prepare us a bed: we need no bed; we will sleep in the courtyard.” |
| Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор; все, что ни лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей. | Night had but just stole over the heavens, but Bulba always went to bed early. He lay down on a rug and covered himself with a sheepskin pelisse, for the night air was quite sharp and he liked to lie warm when he was at home. He was soon snoring, and the whole household speedily followed his example. All snored and groaned as they lay in different corners. The watchman went to sleep the first of all, he had drunk so much in honour of the young masters’ home-coming. |
| Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом; она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами; она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственною грудью, она возрастила, взлелеяла их – и только на один миг видит их перед собою. “Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? что ждет вас?” – говорила она, и слезы остановились в морщинах, изменивших ее когда-то прекрасное лицо. В самом деле, она была жалка, как всякая женщина того удалого века. Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности, – и уже суровый прельститель ее покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видела мужа в год два-три дня, и потом несколько лет о нем не бывало слуху. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки, она была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгульное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось у ней в одно материнское чувство. Она с жаром, с страстью, с слезами, как степная чайка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, берут для того, чтобы не увидеть их никогда! Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы и она не будет знать, где лежат брошенные тела их, которые расклюет хищная подорожная птица; а за каждую каплю крови их она отдала бы себя всю. Рыдая, глядела она им в очи, когда всемогущий сон начинал уже смыкать их, и думала: “Авось либо Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд; может быть, он задумал оттого так скоро ехать, что много выпил”. | The mother alone did not sleep. She bent over the pillow of her beloved sons, as they lay side by side; she smoothed with a comb their carelessly tangled locks, and moistened them with her tears. She gazed at them with her whole soul, with every sense; she was wholly merged in the gaze, and yet she could not gaze enough. She had fed them at her own breast, she had tended them and brought them up; and now to see them only for an instant! “My sons, my darling sons! what will become of you! what fate awaits you?” she said, and tears stood in the wrinkles which disfigured her once beautiful face. In truth, she was to be pitied, as was every woman of that period. She had lived only for a moment of love, only during the first ardour of passion, only during the first flush of youth; and then her grim betrayer had deserted her for the sword, for his comrades and his carouses. She saw her husband two or three days in a year, and then, for several years, heard nothing of him. And when she did see him, when they did live together, what a life was hers! She endured insult, even blows; she felt caresses bestowed only in pity; she was a misplaced object in that community of unmarried warriors, upon which wandering Zaporozhe cast a colouring of its own. Her pleasureless youth flitted by; her ripe cheeks and bosom withered away unkissed and became covered with premature wrinkles. Love, feeling, everything that is tender and passionate in a woman, was converted in her into maternal love. She hovered around her children with anxiety, passion, tears, like the gull of the steppes. They were taking her sons, her darling sons, from her—taking them from her, so that she should never see them again! Who knew? Perhaps a Tatar would cut off their heads in the very first skirmish, and she would never know where their deserted bodies might lie, torn by birds of prey; and yet for each single drop of their blood she would have given all hers. Sobbing, she gazed into their eyes, and thought, “Perhaps Bulba, when he wakes, will put off their departure for a day or two; perhaps it occurred to him to go so soon because he had been drinking.” |
| Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз и не думала о сне. Уже кони, чуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть; верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечущая струя спустилась по ним до самого низу. Она просидела до самого света, вовсе не была утомлена и внутренне желала, чтобы ночь протянулась как можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка; красные полосы ясно сверкнули на небе. | The moon from the summit of the heavens had long since lit up the whole courtyard filled with sleepers, the thick clump of willows, and the tall steppe-grass, which hid the palisade surrounding the court. She still sat at her sons’ pillow, never removing her eyes from them for a moment, nor thinking of sleep. Already the horses, divining the approach of dawn, had ceased eating and lain down upon the grass; the topmost leaves of the willows began to rustle softly, and little by little the rippling rustle descended to their bases. She sat there until daylight, unwearied, and wishing in her heart that the night might prolong itself indefinitely. From the steppes came the ringing neigh of the horses, and red streaks shone brightly in the sky. |
| Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера. | Bulba suddenly awoke, and sprang to his feet. He remembered quite well what he had ordered the night before. |
| – Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А где стара’? (Так он обыкновенно называл жену свою.) Живее, стара, готовь нам есть: путь лежит великий! | “Now, my men, you’ve slept enough! ‘tis time, ‘tis time! Water the horses! And where is the old woman?” He generally called his wife so. “Be quick, old woman, get us something to eat; the way is long.” |
| Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною в Черное море, с тысячью складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром; к очкуру прицеплены были длинные ремешки, с кистями и прочими побрякушками, для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам. Их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели; молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности; они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать как увидела их, и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее. | The poor old woman, deprived of her last hope, slipped sadly into the hut. Whilst she, with tears, prepared what was needed for breakfast, Bulba gave his orders, went to the stable, and selected his best trappings for his children with his own hand. The scholars were suddenly transformed. Red morocco boots with silver heels took the place of their dirty old ones; trousers wide as the Black Sea, with countless folds and plaits, were kept up by golden girdles from which hung long slender thongs, with tassles and other tinkling things, for pipes. Their jackets of scarlet cloth were girt by flowered sashes into which were thrust engraved Turkish pistols; their swords clanked at their heels. Their faces, already a little sunburnt, seemed to have grown handsomer and whiter; their slight black moustaches now cast a more distinct shadow on this pallor and set off their healthy youthful complexions. They looked very handsome in their black sheepskin caps, with cloth-of-gold crowns. When their poor mother saw them, she could not utter a word, and tears stood in her eyes. |
| – Ну, сыны, все готово! нечего мешкать! – произнес наконец Бульба. – Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть. | “Now, my lads, all is ready; no delay!” said Bulba at last. “But we must first all sit down together, in accordance with Christian custom before a journey.” |
| Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей. | All sat down, not excepting the servants, who had been standing respectfully at the door. |
| – Теперь благослови, мать, детей своих! – сказал Бульба. – Моли бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую2, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то – пусть лучше пропадут, чтобы и духу их не было на свете! Подойдите, дети, к матери: молитва материнская и на воде и на земле спасает. | “Now, mother, bless your children,” said Bulba. “Pray God that they may fight bravely, always defend their warlike honour, always defend the faith of Christ; and, if not, that they may die, so that their breath may not be longer in the world.” “Come to your mother, children; a mother’s prayer protects on land and sea.” |
| Мать, слабая, как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею. | The mother, weak as mothers are, embraced them, drew out two small holy pictures, and hung them, sobbing, around their necks. |
| – Пусть хранит вас… божья матерь… Не забывайте, сынки, мать ваш у… пришлите хоть весточку о себе… – Далее она не могла говорить. | “May God’s mother—keep you! Children, do not forget your mother—send some little word of yourselves—” She could say no more. |
| – Ну, пойдем, дети! – сказал Бульба. | “Now, children, let us go,” said Bulba. |
| У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст. | At the door stood the horses, ready saddled. Bulba sprang upon his “Devil,” which bounded wildly, on feeling on his back a load of over thirty stone, for Taras was extremely stout and heavy. |
| Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то нежности: она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и с отчаяньем в глазах не выпускала его из рук своих. Два дюжих козака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, она со всею легкостию дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного из сыновей с какою-то помешанною, бесчувственною горячностию; ее опять увели. | When the mother saw that her sons were also mounted, she rushed towards the younger, whose features expressed somewhat more gentleness than those of his brother. She grasped his stirrup, clung to his saddle, and with despair in her eyes, refused to loose her hold. Two stout Cossacks seized her carefully, and bore her back into the hut. But before the cavalcade had passed out of the courtyard, she rushed with the speed of a wild goat, disproportionate to her years, to the gate, stopped a horse with irresistible strength, and embraced one of her sons with mad, unconscious violence. Then they led her away again. |
| Молодые козаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который, с своей стороны, был тоже несколько смущен, хотя старался этого не показывать. День был серый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали как-то вразлад. Они, проехавши, оглянулись назад; хутор их как будто ушел в землю; только видны были над землей две трубы скромного их домика да вершины дерев, по сучьям которых они лазили, как белки; один только дальний луг еще стлался перед ними, – тот луг, по которому они могли припомнить всю историю своей жизни, от лет, когда катались по росистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую козачку, боязливо перелетавшую через него с помощию своих свежих, быстрых ног. Вот уже один только шест над колодцем с привязанным вверху колесом от телеги одиноко торчит в небе; уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла. – Прощайте и детство, и игры, и всь, и всь! | The young Cossacks rode on sadly, repressing their tears out of fear of their father, who, on his side, was somewhat moved, although he strove not to show it. The morning was grey, the green sward bright, the birds twittered rather discordantly. They glanced back as they rode. Their paternal farm seemed to have sunk into the earth. All that was visible above the surface were the two chimneys of their modest hut and the tops of the trees up whose trunks they had been used to climb like squirrels. Before them still stretched the field by which they could recall the whole story of their lives, from the years when they rolled in its dewy grass down to the years when they awaited in it the dark-browed Cossack maiden, running timidly across it on quick young feet. There is the pole above the well, with the waggon wheel fastened to its top, rising solitary against the sky; already the level which they have traversed appears a hill in the distance, and now all has disappeared. Farewell, childhood, games, all, all, farewell! |
| II | II |
| Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем: перед ним проходила его молодость, его лета, его протекшие лета, о которых всегда плачет козак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на Сечи из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась. | All three horsemen rode in silence. Old Taras’s thoughts were far away: before him passed his youth, his years—the swift-flying years, over which the Cossack always weeps, wishing that his life might be all youth. He wondered whom of his former comrades he should meet at the Setch. He reckoned up how many had already died, how many were still alive. Tears formed slowly in his eyes, and his grey head bent sadly. |
| Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать поболее о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе, и там уже они обыкновенно несколько шлифовались и получали что-то общее, делавшее их похожими друг на друга. Старший, Остап, начал с того свое поприще, что в первый год еще бежал. Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре раза, отодравши его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится в академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бранил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучною книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни: эти схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни. Учившиеся им ни к чему не могли привязать своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. Притом же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей – все это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия. Иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, возбуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше, – все это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, семечки из тыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул, долженствовавший, по обязанности своей, наблюдать над подведомственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговки. Эти бурсаки составляли совершенно отдельный мир: в круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода, Адам Кисель, несмотря на оказываемое покровительство академии, не вводил их в общество и приказывал держать их построже. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессоры-монахи не жалели лоз и плетей, и часто ликторы по их приказанию пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было вовсе ничего и казалось немного чем крепче хорошей водки с перцем; другим наконец сильно надоедали такие беспрестанные припарки, и они убегали на Запорожье, если умели найти дорогу и если не были перехватываемы на пути. Остап Бульба, несмотря на то что начал с большим старанием учить логику и даже богословие, никак не избавлялся неумолимых розг. Естественно, что все это должно было как-то ожесточить характер и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаков. Остап считался всегда одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях – обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из первых, приходивших под знамена предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае, не выдавал своих товарищей. Никакие плети и розги не могли заставить его это сделать. Он был суров к другим побуждениям, кроме войны и разгульной пирушки; по крайней мере, никогда почти о другом не думал. Он был прямодушен с равными. Он имел доброту в таком виде, в каком она могла только существовать при таком характере и в тогдашнее время. Он душевно был тронут слезами бедной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову. | His sons were occupied with other thoughts. But we must speak further of his sons. They had been sent, when twelve years old, to the academy at Kief, because all leaders of that day considered it indispensable to give their children an education, although it was afterwards utterly forgotten. Like all who entered the academy, they were wild, having been brought up in unrestrained freedom; and whilst there they had acquired some polish, and pursued some common branches of knowledge which gave them a certain resemblance to each other. The elder, Ostap, began his scholastic career by running away in the course of the first year. They brought him back, whipped him well, and set him down to his books. Four times did he bury his primer in the earth; and four times, after giving him a sound thrashing, did they buy him a new one. But he would no doubt have repeated this feat for the fifth time, had not his father given him a solemn assurance that he would keep him at monastic work for twenty years, and sworn in advance that he should never behold Zaporozhe all his life long, unless he learned all the sciences taught in the academy. It was odd that the man who said this was that very Taras Bulba who condemned all learning, and counselled his children, as we have seen, not to trouble themselves at all about it. From that moment, Ostap began to pore over his tiresome books with exemplary diligence, and quickly stood on a level with the best. The style of education in that age differed widely from the manner of life. The scholastic, grammatical, rhetorical, and logical subtle ties in vogue were decidedly out of consonance with the times, never having any connection with, and never being encountered in, actual life. Those who studied them, even the least scholastic, could not apply their knowledge to anything whatever. The learned men of those days were even more incapable than the rest, because farther removed from all experience. Moreover, the republican constitution of the academy, the fearful multitude of young, healthy, strong fellows, inspired the students with an activity quite outside the limits of their learning. Poor fare, or frequent punishments of fasting, with the numerous requirements arising in fresh, strong, healthy youth, combined to arouse in them that spirit of enterprise which was afterwards further developed among the Zaporozhians. The hungry student running about the streets of Kief forced every one to be on his guard. Dealers sitting in the bazaar covered their pies, their cakes, and their pumpkin-rolls with their hands, like eagles protecting their young, if they but caught sight of a passing student. The consul or monitor, who was bound by his duty to look after the comrades entrusted to his care, had such frightfully wide pockets to his trousers that he could stow away the whole contents of the gaping dealer’s stall in them. These students constituted an entirely separate world, for they were not admitted to the higher circles, composed of Polish and Russian nobles. Even the Waiwode, Adam Kisel, in spite of the patronage he bestowed upon the academy, did not seek to introduce them into society, and ordered them to be kept more strictly in supervision. This command was quite superfluous, for neither the rector nor the monkish professors spared rod or whip; and the lictors sometimes, by their orders, lashed their consuls so severely that the latter rubbed their trousers for weeks afterwards. This was to many of them a trifle, only a little more stinging than good vodka with pepper: others at length grew tired of such constant blisters, and ran away to Zaporozhe if they could find the road and were not caught on the way. Ostap Bulba, although he began to study logic, and even theology, with much zeal, did not escape the merciless rod. Naturally, all this tended to harden his character, and give him that firmness which distinguishes the Cossacks. He always held himself aloof from his comrades. He rarely led others into such hazardous enterprises as robbing a strange garden or orchard; but, on the other hand, he was always among the first to join the standard of an adventurous student. And never, under any circumstances, did he betray his comrades; neither imprisonment nor beatings could make him do so. He was unassailable by any temptations save those of war and revelry; at least, he scarcely ever dreamt of others. He was upright with his equals. He was kind-hearted, after the only fashion that kind-heartedness could exist in such a character and at such a time. He was touched to his very heart by his poor mother’s tears; but this only vexed him, and caused him to hang his head in thought. |
| Меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько живее и как-то более развитые. Он учился охотнее и без напряжения, с каким обыкновенно принимается тяжелый и сильный характер. Он был изобретательнее своего брата; чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощию изобретательного ума своего умел увертываться от наказания, тогда как брат его Остап, отложивши всякое попечение, скидал с себя свитку и ложился на пол, вовсе не думая просить о помиловании. Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за восемнадцать лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его; он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его каким-то невыразимым сладострастием. Он тщательно скрывал от своих товарищей эти движения страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав битвы. Вообще в последние годы он реже являлся предводителем какой-нибудь ватаги, но чаще бродил один где-нибудь в уединенном закоулке Киева, потопленном в вишневых садах, среди низеньких домиков, заманчиво глядевших на улицу. Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили малороссийские и польские дворяне и домы были выстроены с некоторою прихотливостию. Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница с престрашными усами хлыснул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостию схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули – и Андрий, к счастию успевший отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая толпою, в богатом убранстве, стояла за воротами, окружив игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь, с свойственною одним бурсакам дерзостью, он пролез чрез частокол в сад, взлез на дерево, которое раскидывалось ветвями на самую крышу дома; с дерева перелез он на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнесть ни одного слова; но когда приметила, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости пошевелить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею. Притом в чертах Андрия ничего не было страшного: он был очень хорош собою. Она от души смеялась и долго забавлялась над ним. Красавица была ветрена, как полячка, но глаза ее, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство. Бурсак не мог пошевелить рукою и был связан, как в мешке, когда дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностию дитяти, которою отличаются ветреные полячки и которая повергла бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся в это время у дверей стук испугал ее. Она велела ему спрятаться под кровать, и как только беспокойство прошло, она кликнула свою горничную, пленную татарку, и дала ей приказание осторожно вывесть его в сад и оттуда отправить через забор. Но на этот раз бурсак наш не так счастливо перебрался через забор: проснувшийся сторож хватил его порядочно по ногам, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, покамест быстрые ноги не спасли его. После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна. Он встретил ее еще раз в костеле: она заметила его и очень приятно усмехнулась, как давнему знакомому. Он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода ковенский скоро уехал, и вместо прекрасной черноглазой полячки выглядывало из окон какое-то толстое лицо. Вот о чем думал Андрий, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего. | His younger brother, Andrii, had livelier and more fully developed feelings. He learned more willingly and without the effort with which strong and weighty characters generally have to make in order to apply themselves to study. He was more inventive-minded than his brother, and frequently appeared as the leader of dangerous expeditions; sometimes, thanks to the quickness of his mind, contriving to escape punishment when his brother Ostap, abandoning all efforts, stripped off his gaberdine and lay down upon the floor without a thought of begging for mercy. He too thirsted for action; but, at the same time, his soul was accessible to other sentiments. The need of love burned ardently within him. When he had passed his eighteenth year, woman began to present herself more frequently in his dreams; listening to philosophical discussions, he still beheld her, fresh, black-eyed, tender; before him constantly flitted her elastic bosom, her soft, bare arms; the very gown which clung about her youthful yet well-rounded limbs breathed into his visions a certain inexpressible sensuousness. He carefully concealed this impulse of his passionate young soul from his comrades, because in that age it was held shameful and dishonourable for a Cossack to think of love and a wife before he had tasted battle. On the whole, during the last year, he had acted more rarely as leader to the bands of students, but had roamed more frequently alone, in remote corners of Kief, among low-roofed houses, buried in cherry orchards, peeping alluringly at the street. Sometimes he betook himself to the more aristocratic streets, in the old Kief of to-day, where dwelt Little Russian and Polish nobles, and where houses were built in more fanciful style. Once, as he was gaping along, an old-fashioned carriage belonging to some Polish noble almost drove over him; and the heavily moustached coachman, who sat on the box, gave him a smart cut with his whip. The young student fired up; with thoughtless daring he seized the hind-wheel with his powerful hands and stopped the carriage. But the coachman, fearing a drubbing, lashed his horses; they sprang forward, and Andrii, succeeding happily in freeing his hands, was flung full length on the ground with his face flat in the mud. The most ringing and harmonious of laughs resounded above him. He raised his eyes and saw, standing at a window, a beauty such as he had never beheld in all his life, black-eyed, and with skin white as snow illumined by the dawning flush of the sun. She was laughing heartily, and her laugh enhanced her dazzling loveliness. Taken aback he gazed at her in confusion, abstractedly wiping the mud from his face, by which means it became still further smeared. Who could this beauty be? He sought to find out from the servants, who, in rich liveries, stood at the gate in a crowd surrounding a young guitar-player; but they only laughed when they saw his besmeared face and deigned him no reply. At length he learned that she was the daughter of the Waiwode of Koven, who had come thither for a time. The following night, with the daring characteristic of the student, he crept through the palings into the garden and climbed a tree which spread its branches upon the very roof of the house. From the tree he gained the roof, and made his way down the chimney straight into the bedroom of the beauty, who at that moment was seated before a lamp, engaged in removing the costly earrings from her ears. The beautiful Pole was so alarmed on suddenly beholding an unknown man that she could not utter a single word; but when she perceived that the student stood before her with downcast eyes, not daring to move a hand through timidity, when she recognised in him the one who had fallen in the street, laughter again overpowered her. Moreover, there was nothing terrible about Andrii’s features; he was very handsome. She laughed heartily, and amused herself over him for a long time. The lady was giddy, like all Poles; but her eyes—her wondrous clear, piercing eyes—shot one glance, a long glance. The student could not move hand or foot, but stood bound as in a sack, when the Waiwode’s daughter approached him boldly, placed upon his head her glittering diadem, hung her earrings on his lips, and flung over him a transparent muslin chemisette with gold-embroidered garlands. She adorned him, and played a thousand foolish pranks, with the childish carelessness which distinguishes the giddy Poles, and which threw the poor student into still greater confusion. He cut a ridiculous feature, gazing immovably, and with open mouth, into her dazzling eyes. A knock at the door startled her. She ordered him to hide himself under the bed, and, as soon as the disturber was gone, called her maid, a Tatar prisoner, and gave her orders to conduct him to the garden with caution, and thence show him through the fence. But our student this time did not pass the fence so successfully. The watchman awoke, and caught him firmly by the foot; and the servants, assembling, beat him in the street, until his swift legs rescued him. After that it became very dangerous to pass the house, for the Waiwode’s domestics were numerous. He met her once again at church. She saw him, and smiled pleasantly, as at an old acquaintance. He saw her once more, by chance; but shortly afterwards the Waiwode departed, and, instead of the beautiful black-eyed Pole, some fat face or other gazed from the window. This was what Andrii was thinking about, as he hung his head and kept his eyes on his horse’s mane. |
| А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только козачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями. | In the meantime the steppe had long since received them all into its green embrace; and the high grass, closing round, concealed them, till only their black Cossack caps appeared above it. |
| – Э, э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли? – сказал наконец Бульба, очнувшись от своей задумчивости. – Как будто какие-нибудь чернецы! Ну, разом все думки к нечистому! Берите в зубы люльки, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами! | “Eh, eh, why are you so quiet, lads?” said Bulba at length, waking from his own reverie. “You’re like monks. Now, all thinking to the Evil One, once for all! Take your pipes in your teeth, and let us smoke, and spur on our horses so swiftly that no bird can overtake us.” |
| И козаки, принагнувшись к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только струя сжимаемой травы показывала след их быстрого бега. | And the Cossacks, bending low on their horses’ necks, disappeared in the grass. Their black caps were no longer to be seen; a streak of trodden grass alone showed the trace of their swift flight. |
| Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным, теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у козаков, вмиг слетело; сердца их встрепенулись, как птицы. | The sun had long since looked forth from the clear heavens and inundated the steppe with his quickening, warming light. All that was dim and drowsy in the Cossacks’ minds flew away in a twinkling: their hearts fluttered like birds. |
| Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дров выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем… Черт вас возьми, степи, как вы хороши!.. | The farther they penetrated the steppe, the more beautiful it became. Then all the South, all that region which now constitutes New Russia, even as far as the Black Sea, was a green, virgin wilderness. No plough had ever passed over the immeasurable waves of wild growth; horses alone, hidden in it as in a forest, trod it down. Nothing in nature could be finer. The whole surface resembled a golden-green ocean, upon which were sprinkled millions of different flowers. Through the tall, slender stems of the grass peeped light-blue, dark-blue, and lilac star-thistles; the yellow broom thrust up its pyramidal head; the parasol-shaped white flower of the false flax shimmered on high. A wheat-ear, brought God knows whence, was filling out to ripening. Amongst the roots of this luxuriant vegetation ran partridges with outstretched necks. The air was filled with the notes of a thousand different birds. On high hovered the hawks, their wings outspread, and their eyes fixed intently on the grass. The cries of a flock of wild ducks, ascending from one side, were echoed from God knows what distant lake. From the grass arose, with measured sweep, a gull, and skimmed wantonly through blue waves of air. And now she has vanished on high, and appears only as a black dot: now she has turned her wings, and shines in the sunlight. Oh, steppes, how beautiful you are! |
| Наши путешественники останавливались только на несколько минут для обеда, причем ехавший с ними отряд из десяти козаков слезал с лошадей, отвязывал деревянные баклажки с горелкою и тыквы, употребляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с салом или коржи, пили только по одной чарке, единственно для подкрепления, потому что Тарас Бульба не позволял никогда напиваться в дороге, и продолжали путь до вечера. Вечером вся степь совершенно переменялась. Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по нем, и она становилась темнозеленою; испарения подымались гуще, каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу, изголуба-темному, как будто исполинскою кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота; изредка белели клоками легкие и прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны, ветерок едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался до щек. Вся музыка, звучавшая днем, утихала и сменялась другою. Пестрые суслики выпалзывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя и, как серебро, отдавался в воздухе. Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили на него котел, в котором варили себе кулиш; пар отделялся и косвенно дымился на воздухе. Поужинав, козаки ложились спать, пустивши по траве спутанных коней своих, Они раскидывались на свитках. На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, стрекотанье, – все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем воздухе и убаюкивало дремлющий слух. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянною блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу. | Our travellers halted only a few minutes for dinner. Their escort of ten Cossacks sprang from their horses and undid the wooden casks of brandy, and the gourds which were used instead of drinking vessels. They ate only cakes of bread and dripping; they drank but one cup apiece to strengthen them, for Taras Bulba never permitted intoxication upon the road, and then continued their journey until evening. In the evening the whole steppe changed its aspect. All its varied expanse was bathed in the last bright glow of the sun; and as it grew dark gradually, it could be seen how the shadow flitted across it and it became dark green. The mist rose more densely; each flower, each blade of grass, emitted a fragrance as of ambergris, and the whole steppe distilled perfume. Broad bands of rosy gold were streaked across the dark blue heaven, as with a gigantic brush; here and there gleamed, in white tufts, light and transparent clouds: and the freshest, most enchanting of gentle breezes barely stirred the tops of the grass-blades, like sea-waves, and caressed the cheek. The music which had resounded through the day had died away, and given place to another. The striped marmots crept out of their holes, stood erect on their hind legs, and filled the steppe with their whistle. The whirr of the grasshoppers had become more distinctly audible. Sometimes the cry of the swan was heard from some distant lake, ringing through the air like a silver trumpet. The travellers, halting in the midst of the plain, selected a spot for their night encampment, made a fire, and hung over it the kettle in which they cooked their oatmeal; the steam rising and floating aslant in the air. Having supped, the Cossacks lay down to sleep, after hobbling their horses and turning them out to graze. They lay down in their gaberdines. The stars of night gazed directly down upon them. They could hear the countless myriads of insects which filled the grass; their rasping, whistling, and chirping, softened by the fresh air, resounded clearly through the night, and lulled the drowsy ear. If one of them rose and stood for a time, the steppe presented itself to him strewn with the sparks of glow-worms. At times the night sky was illumined in spots by the glare of burning reeds along pools or river-bank; and dark flights of swans flying to the north were suddenly lit up by the silvery, rose-coloured gleam, till it seemed as though red kerchiefs were floating in the dark heavens. |
| Путешественники ехали без всяких приключений. Нигде не попадались им деревья, все та же бесконечная, вольная, прекрасная степь. По временам только в стороне синели верхушки отдаленного леса, тянувшегося по берегам Днепра. Один только раз Тарас указал сыновьям на маленькую, черневшую в дальней траве точку, сказавши: “Смотрите, детки, вон скачет татарин!” Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух, как гончая собака, и, как серна, пропала, увидевши, что козаков было тринадцать человек. “А ну, дети, попробуйте догнать татарина!.. И не пробуйте – вовеки не поймаете: у него конь быстрее моего Черта”. Однако ж Бульба взял предосторожность, опасаясь где-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали к небольшой речке, называвшейся Татаркою, впадающей в Днепр, кинулись в воду с конями своими и долго плыли по ней. чтобы скрыть след свой, и тогда уже, выбравшись на берег, они продолжали далее путь. | The travellers proceeded onward without any adventure. They came across no villages. It was ever the same boundless, waving, beautiful steppe. Only at intervals the summits of distant forests shone blue, on one hand, stretching along the banks of the Dnieper. Once only did Taras point out to his sons a small black speck far away amongst the grass, saying, “Look, children! yonder gallops a Tatar.” The little head with its long moustaches fixed its narrow eyes upon them from afar, its nostrils snuffing the air like a greyhound’s, and then disappeared like an antelope on its owner perceiving that the Cossacks were thirteen strong. “And now, children, don’t try to overtake the Tatar! You would never catch him to all eternity; he has a horse swifter than my Devil.” But Bulba took precautions, fearing hidden ambushes. They galloped along the course of a small stream, called the Tatarka, which falls into the Dnieper; rode into the water and swam with their horses some distance in order to conceal their trail. Then, scrambling out on the bank, they continued their road. |
| Чрез три дни после этого они были уже недалеко от места бывшего предметом их поездки. В воздухе вдруг захолодело; они почувствовали близость Днепра. Вот он сверкает вдали и темною полосою отделился от горизонта. Он веял холодными волнами и расстилался ближе, ближе и, наконец, обхватил половину всей поверхности земли. Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами, брал наконец свое и шумел, как море, разлившись по воле; где брошенные в средину его острова вытесняли его еще далее из берегов и волны его стлались широко по земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Козаки сошли с коней своих, взошли на паром и чрез три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда Сечь, так часто переменявшая свое жилище. | Three days later they were not far from the goal of their journey. The air suddenly grew colder: they could feel the vicinity of the Dnieper. And there it gleamed afar, distinguishable on the horizon as a dark band. It sent forth cold waves, spreading nearer, nearer, and finally seeming to embrace half the entire surface of the earth. This was that section of its course where the river, hitherto confined by the rapids, finally makes its own away and, roaring like the sea, rushes on at will; where the islands, flung into its midst, have pressed it farther from their shores, and its waves have spread widely over the earth, encountering neither cliffs nor hills. The Cossacks, alighting from their horses, entered the ferry-boat, and after a three hours’ sail reached the shores of the island of Khortitz, where at that time stood the Setch, which so often changed its situation. |
| Куча народу бранилась на берегу с перевозчиками. Козаки оправили коней. Тарас приосанился, стянул на себе покрепче пояс и гордо провел рукою по усам. Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног до головы с каким-то страхом и неопределенным удовольствием, – и все вместе въехали в предместье, находившееся за полверсты от Сечи. При въезде их оглушили пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дерном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ятками сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочал на рожнах бараньи катки с тестом. Жид, выставив вперед свою голову, цедил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой средине дороги, раскинув руки и ноги. Тарас Бульба не мог не остановиться и не полюбоваться на него. | A throng of people hastened to the shore with boats. The Cossacks arranged the horses’ trappings. Taras assumed a stately air, pulled his belt tighter, and proudly stroked his moustache. His sons also inspected themselves from head to foot, with some apprehension and an undefined feeling of satisfaction; and all set out together for the suburb, which was half a verst from the Setch. On their arrival, they were deafened by the clang of fifty blacksmiths’ hammers beating upon twenty-five anvils sunk in the earth. Stout tanners seated beneath awnings were scraping ox-hides with their strong hands; shop-keepers sat in their booths, with piles of flints, steels, and powder before them; Armenians spread out their rich handkerchiefs; Tatars turned their kabobs upon spits; a Jew, with his head thrust forward, was filtering some corn-brandy from a cask. But the first man they encountered was a Zaporozhetz (1) who was sleeping in the very middle of the road with legs and arms outstretched. Taras Bulba could not refrain from halting to admire him. |
| (1) Sometimes written Zaporovian. | |
| – Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! – говорил он, остановивши коня. | “How splendidly developed he is; phew, what a magnificent figure!” he said, stopping his horse. |
| В самом деле, это была картина довольно смелая: запорожец как лев растянулся на дороге. Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорогого сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения. Полюбовавшись, Бульба пробирался далее по тесной улице, которая была загромождена мастеровыми, тут же отправлявшими ремесло свое, и людьми всех наций, наполнявшими это предместие Сечи, которое было похоже на ярмарку и которое одевало и кормило Сечь, умевшую только гулять да палить из ружей. | It was, in fact, a striking picture. This Zaporozhetz had stretched himself out in the road like a lion; his scalp-lock, thrown proudly behind him, extended over upwards of a foot of ground; his trousers of rich red cloth were spotted with tar, to show his utter disdain for them. Having admired to his heart’s content, Bulba passed on through the narrow street, crowded with mechanics exercising their trades, and with people of all nationalities who thronged this suburb of the Setch, resembling a fair, and fed and clothed the Setch itself, which knew only how to revel and burn powder. |
| Наконец они миновали предместие и увидели несколько разбросанных куреней, покрытых дерном или, по-татарски, войлоком. Иные уставлены были пушками. Нигде не видно было забора или тех низеньких домиков с навесами на низеньких деревянных столбиках, какие были в предместье. Небольшой вал и засека, не хранимые решительно никем, показывали страшную беспечность. Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге, посмотрели на них довольно равнодушно и не сдвинулись с места. Тарас осторожно проехал с сыновьями между них, сказавши: “Здравствуйте, панове!” – “Здравствуйте и вы!” – отвечали запорожцы. Везде, по всему полю, живописными кучами пестрел народ. По смуглым лицам видно было, что все они были закалены в битвах, испробовали всяких невзгод. Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и козачество на всю Украйну! | At length they left the suburb behind them, and perceived some scattered kurens (2), covered with turf, or in Tatar fashion with felt. Some were furnished with cannon. Nowhere were any fences visible, or any of those low-roofed houses with verandahs supported upon low wooden pillars, such as were seen in the suburb. A low wall and a ditch, totally unguarded, betokened a terrible degree of recklessness. Some sturdy Zaporozhtzi lying, pipe in mouth, in the very road, glanced indifferently at them, but never moved from their places. Taras threaded his way carefully among them, with his sons, saying, “Good-day, gentles.”—“Good-day to you,” answered the Zaporozhtzi. Scattered over the plain were picturesque groups. From their weatherbeaten faces, it was plain that all were steeled in battle, and had faced every sort of bad weather. And there it was, the Setch! There was the lair from whence all those men, proud and strong as lions, issued forth! There was the spot whence poured forth liberty and Cossacks all over the Ukraine. |
| (2) Enormous wooden sheds, each inhabited by a troop or kuren. | |
| Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочке сидел запорожец без рубашки: он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в средине которых отплясывал молодой запорожец, заломивши шапку чертом и вскинувши руками. Он кричал только: “Живее играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки православным христианам!” И Фома, с подбитым глазом, мерял без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четверо старых выработывали довольно мелко ногами, вскидывались, как вихорь, на сторону, почти на голову музыкантам, и, вдруг опустившись, неслись вприсядку и били круто и крепко своими серебряными подковами плотно убитую землю. Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе далече отдавались гопаки и тропаки, выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танце. Чуприна развевалась по ветру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимний кожух был надет в рукава, и пот градом лил с него, как из ведра. “Да сними хоть кожух! – сказал наконец Тарас. – Видишь, как парит!” – “Не можно!” – кричал запорожец. “Отчего?” – “Не можно; у меня уж такой нрав: что скину, то пропью”. А шапки уж давно не было на молодце, ни пояса на кафтане, ни шитого платка; все пошло куда следует. Толпа росла; к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движенья, как все отдирало танец самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо свет и который, по своим мощным изобретателям, назван козачком. | The travellers entered the great square where the council generally met. On a huge overturned cask sat a Zaporozhetz without his shirt; he was holding it in his hands, and slowly sewing up the holes in it. Again their way was stopped by a whole crowd of musicians, in the midst of whom a young Zaporozhetz was dancing, with head thrown back and arms outstretched. He kept shouting, “Play faster, musicians! Begrudge not, Thoma, brandy to these orthodox Christians!” And Thoma, with his blackened eye, went on measuring out without stint, to every one who presented himself, a huge jugful. About the youthful Zaporozhetz four old men, moving their feet quite briskly, leaped like a whirlwind to one side, almost upon the musicians’ heads, and, suddenly, retreating, squatted down and drummed the hard earth vigorously with their silver heels. The earth hummed dully all about, and afar the air resounded with national dance tunes beaten by the clanging heels of their boots. But one shouted more loudly than all the rest, and flew after the others in the dance. His scalp-lock streamed in the wind, his muscular chest was bare, his warm, winter fur jacket was hanging by the sleeves, and the perspiration poured from him as from a pig. “Take off your jacket!” said Taras at length: “see how he steams!”—“I can’t,” shouted the Cossack. “Why?”—“I can’t: I have such a disposition that whatever I take off, I drink up.” And indeed, the young fellow had not had a cap for a long time, nor a belt to his caftan, nor an embroidered neckerchief: all had gone the proper road. The throng increased; more folk joined the dancer: and it was impossible to observe without emotion how all yielded to the impulse of the dance, the freest, the wildest, the world has ever seen, still called from its mighty originators, the Kosachka. |
| – Эх, если бы не конь! – вскрикнул Тарас, – пустился бы, право, пустился бы сам в танец! | “Oh, if I had no horse to hold,” exclaimed Taras, “I would join the dance myself.” |
| А между тем в народе стали попадаться и степенные, уваженные по заслугам всею Сечью, седые, старые чубы, бывавшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрий слышали только приветствия: “А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолуп!” – “Откуда бог несет тебя, Тарас?” – “Ты как сюда зашел, Долото?” – “Здорово, Кирдяга! Здорово, Густый! Думал ли я видеть тебя, Ремень?” И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России, целовались взаимно; и тут понеслись вопросы: “А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что Пидсышок?” И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсышкова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил: “Добрые были козаки!” | Meanwhile there began to appear among the throng men who were respected for their prowess throughout all the Setch—old greyheads who had been leaders more than once. Taras soon found a number of familiar faces. Ostap and Andrii heard nothing but greetings. “Ah, it is you, Petcheritza! Good day, Kozolup!”—“Whence has God brought you, Taras?”—“How did you come here, Doloto? Health to you, Kirdyaga! Hail to you, Gustui! Did I ever think of seeing you, Remen?” And these heroes, gathered from all the roving population of Eastern Russia, kissed each other and began to ask questions. “But what has become of Kasyan? Where is Borodavka? and Koloper? and Pidsuitok?” And in reply, Taras Bulba learned that Borodavka had been hung at Tolopan, that Koloper had been flayed alive at Kizikirmen, that Pidsuitok’s head had been salted and sent in a cask to Constantinople. Old Bulba hung his head and said thoughtfully, “They were good Cossacks.” |
| III | III |
| Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сечи. Остап и Андрий мало занимались военною школою. Сечь не любила затруднять себя военными упражнениями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось в ней одним опытом, в самом пылу битв, которые оттого были почти беспрерывны. Промежутки козаки почитали скучным занимать изучением какой-нибудь дисциплины, кроме разве стрельбы в цель да изредка конной скачки и гоньбы за зверем в степях и лугах; все прочее время отдавалось гульбе – признаку широкого размета душевной воли. Вся Сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла с утра до вечера, если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Оно не было сборищем бражников, напивавшихся с горя, но было просто бешеное разгулье веселости. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей. Это производило ту бешеную веселость, которая не могла бы родиться ни из какого другого источника. Рассказы и болтовня среди собравшейся толпы, лениво отдыхавшей на земле, часто так были смешны и дышали такою силою живого рассказа, что нужно было иметь всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выражение лица, не моргнув даже усом, – резкая черта, которою отличается доныне от других братьев своих южный россиянин. Веселость была пьяна, шумна, но при всем том это не был черный кабак, где мрачно-искажающим весельем забывается человек; это был тесный круг школьных товарищей. Разница была только в том, что вместо сидения за указкой и пошлых толков учителя они производили набег на пяти тысячах коней; вместо луга, где играют в мяч, у них были неохраняемые, беспечные границы, в виду которых татарин выказывал быструю свою голову и неподвижно, сурово глядел турок в зеленой чалме своей. Разница та, что вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов; что здесь были те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые вместо бледной смерти увидели жизнь – и жизнь во всем разгуле; что здесь были те, которые, по благородному обычаю, не могли удержать в кармане своем копейки; что здесь были те, которые дотоле червонец считали богатством, у которых, по милости арендаторов-жидов, карманы можно было выворотить без всякого опасения что-нибудь выронить. Здесь были все бурсаки, не вытерпевшие академических лоз и не вынесшие из школы ни одной буквы; но вместе с ними здесь были и те, которые знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика. Тут было много тех офицеров, которые потом отличались в королевских войсках; тут было множество образовавшихся опытных партизанов, которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно, где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы. Много было и таких, которые пришли на Сечь с тем, чтобы потом сказать, что они были на Сечи и уже закаленные рыцари. Но кого тут не было? Эта странная республика была именно потребностию того века. Охотники до военной жизни, до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь работу. Одни только обожатели женщин не могли найти здесь ничего, потому что даже в предместье Сечи не смела показываться ни одна женщина. | Taras Bulba and his sons had been in the Setch about a week. Ostap and Andrii occupied themselves but little with the science of war. The Setch was not fond of wasting time in warlike exercises. The young generation learned these by experience alone, in the very heat of battles, which were therefore incessant. The Cossacks thought it a nuisance to fill up the intervals of this instruction with any kind of drill, except perhaps shooting at a mark, and on rare occasions with horse-racing and wild-beast hunts on the steppes and in the forests. All the rest of the time was devoted to revelry—a sign of the wide diffusion of moral liberty. The whole of the Setch presented an unusual scene: it was one unbroken revel; a ball noisily begun, which had no end. Some busied themselves with handicrafts; others kept little shops and traded; but the majority caroused from morning till night, if the wherewithal jingled in their pockets, and if the booty they had captured had not already passed into the hands of the shopkeepers and spirit-sellers. This universal revelry had something fascinating about it. It was not an assemblage of topers, who drank to drown sorrow, but simply a wild revelry of joy. Every one who came thither forgot everything, abandoned everything which had hitherto interested him. He, so to speak, spat upon his past and gave himself recklessly up to freedom and the good-fellowship of men of the same stamp as himself—idlers having neither relatives nor home nor family, nothing, in short, save the free sky and the eternal revel of their souls. This gave rise to that wild gaiety which could not have sprung from any other source. The tales and talk current among the assembled crowd, reposing lazily on the ground, were often so droll, and breathed such power of vivid narration, that it required all the nonchalance of a Zaporozhetz to retain his immovable expression, without even a twitch of the moustache—a feature which to this day distinguishes the Southern Russian from his northern brethren. It was drunken, noisy mirth; but there was no dark ale-house where a man drowns thought in stupefying intoxication: it was a dense throng of schoolboys. The only difference as regarded the students was that, instead of sitting under the pointer and listening to the worn-out doctrines of a teacher, they practised racing with five thousand horses; instead of the field where they had played ball, they had the boundless borderlands, where at the sight of them the Tatar showed his keen face and the Turk frowned grimly from under his green turban. The difference was that, instead of being forced to the companionship of school, they themselves had deserted their fathers and mothers and fled from their homes; that here were those about whose neck a rope had already been wound, and who, instead of pale death, had seen life, and life in all its intensity; those who, from generous habits, could never keep a coin in their pockets; those who had thitherto regarded a ducat as wealth, and whose pockets, thanks to the Jew revenue-farmers, could have been turned wrong side out without any danger of anything falling from them. Here were students who could not endure the academic rod, and had not carried away a single letter from the schools; but with them were also some who knew about Horace, Cicero, and the Roman Republic. There were many leaders who afterwards distinguished themselves in the king’s armies; and there were numerous clever partisans who cherished a magnanimous conviction that it was of no consequence where they fought, so long as they did fight, since it was a disgrace to an honourable man to live without fighting. There were many who had come to the Setch for the sake of being able to say afterwards that they had been there and were therefore hardened warriors. But who was not there? This strange republic was a necessary outgrowth of the epoch. Lovers of a warlike life, of golden beakers and rich brocades, of ducats and gold pieces, could always find employment there. The lovers of women alone could find naught, for no woman dared show herself even in the suburbs of the Setch. |
| Остапу и Андрию казалось чрезвычайно странным, что при них же приходила на Сечь гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил: откуда эти люди, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращаясь в свой собственный дом, из которого только за час пред тем вышли. Пришедший являлся только к кошевому; который обыкновенно говорил: | It seemed exceedingly strange to Ostap and Andrii that, although a crowd of people had come to the Setch with them, not a soul inquired, “Whence come these men? who are they? and what are their names?” They had come thither as though returning to a home whence they had departed only an hour before. The new-comer merely presented himself to the Koschevoi, or head chief of the Setch, who generally said, |
| – Здравствуй! Что, во Христа веруешь? | “Welcome! Do you believe in Christ?” |
| – Верую! – отвечал приходивший. | —“I do,” replied the new-comer. |
| – И в троицу святую веруешь? | “And do you believe in the Holy Trinity?” |
| – Верую! | —“I do.” |
| – И в церковь ходишь? | —“And do you go to church?” |
| – Хожу! | —“I do.” |
| – А ну, перекрестись! | “Now cross yourself.” |
| Пришедший крестился. | The new-comer crossed himself. |
| – Ну, хорошо, – отвечал кошевой, – ступай же в который сам знаешь курень. | “Very good,” replied the Koschevoi; “enter the kuren where you have most acquaintances.” |
| Этим оканчивалась вся церемония. И вся Сечь молилась в одной церкви и готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Только побуждаемые сильною корыстию жиды, армяне и татары осмеливались жить и торговать в предместье, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула из кармана денег, столько и платили. Впрочем, участь этих корыстолюбивых торгашей была очень жалка. Они были похожи на тех, которые селились у подошвы Везувия, потому что как только у запорожцев не ставало денег, то удалые разбивали их лавочки и брали всегда даром. Сечь состояла из шестидесяти с лишком куреней, которые очень походили на отдельные, независимые республики, а еще более походили на школу и бурсу детей, живущих на всем готовом. Никто ничем не заводился и не держал у себя. Все было на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название батька. У него были на руках деньги, платья, весь харч, саламата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги под сохран. Нередко происходила ссора у куреней с куренями. В таком случае дело тот же час доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу бока, пока одни не пересиливали наконец и не брали верх, и тогда начиналась гульня. Такова была эта Сечь, имевшая столько приманок для молодых людей. | This concluded the ceremony. And all the Setch prayed in one church, and were willing to defend it to their last drop of blood, although they would not hearken to aught about fasting or abstinence. Jews, Armenians, and Tatars, inspired by strong avarice, took the liberty of living and trading in the suburbs; for the Zaporozhtzi never cared for bargaining, and paid whatever money their hand chanced to grasp in their pocket. Moreover, the lot of these gain-loving traders was pitiable in the extreme. They resembled people settled at the foot of Vesuvius; for when the Zaporozhtzi lacked money, these bold adventurers broke down their booths and took everything gratis. The Setch consisted of over sixty kurens, each of which greatly resembled a separate independent republic, but still more a school or seminary of children, always ready for anything. No one had any occupation; no one retained anything for himself; everything was in the hands of the hetman of the kuren, who, on that account, generally bore the title of “father.” In his hands were deposited the money, clothes, all the provisions, oatmeal, grain, even the firewood. They gave him money to take care of. Quarrels amongst the inhabitants of the kuren were not unfrequent; and in such cases they proceeded at once to blows. The inhabitants of the kuren swarmed into the square, and smote each other with their fists, until one side had finally gained the upper hand, when the revelry began. Such was the Setch, which had such an attraction for young men. |
| Остап и Андрий кинулись со всею пылкостию юношей в это разгульное море и забыли вмиг и отцовский дом, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало их: разгульные обычаи Сечи и немногосложная управа и законы, которые казались им иногда даже слишком строгими среди такой своевольной республики. Если козак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это считалось уже поношением всему козачеству: его, как бесчестного, привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которою всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали его насмерть. Не платившего должника приковывали цепью к пушке, где должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из товарищей не решался его выкупить и заплатить за него долг. Но более всего произвела впечатленья на Андрия страшная казнь, определенная за смертоубийство. Тут же, при нем, вырыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали землею. Долго потом все чудился ему страшный обряд казни и все представлялся этот заживо засыпанный человек вместе с ужасным гробом. | Ostap and Andrii flung themselves into this sea of dissipation with all the ardour of youth, forgot in a trice their father’s house, the seminary, and all which had hitherto exercised their minds, and gave themselves wholly up to their new life. Everything interested them—the jovial habits of the Setch, and its chaotic morals and laws, which even seemed to them too strict for such a free republic. If a Cossack stole the smallest trifle, it was considered a disgrace to the whole Cossack community. He was bound to the pillar of shame, and a club was laid beside him, with which each passer-by was bound to deal him a blow until in this manner he was beaten to death. He who did not pay his debts was chained to a cannon, until some one of his comrades should decide to ransom him by paying his debts for him. But what made the deepest impression on Andrii was the terrible punishment decreed for murder. A hole was dug in his presence, the murderer was lowered alive into it, and over him was placed a coffin containing the body of the man he had killed, after which the earth was thrown upon both. Long afterwards the fearful ceremony of this horrible execution haunted his mind, and the man who had been buried alive appeared to him with his terrible coffin. |
| Скоро оба молодые козака стали на хорошем счету у козаков. Часто вместе с другими товарищами своего куреня, а иногда со всем куренем и с соседними куренями выступали они в степи для стрельбы несметного числа всех возможных степных птиц, оленей и коз или же выходили на озера, реки и протоки, отведенные по жребию каждому куреню, закидывать невода, сети и тащить богатые тони на продовольствие всего куреня. Хотя и не было тут науки, на которой пробуется козак, но они стали уже заметны между другими молодыми прямою удалью и удачливостью во всем. Бойко и метко стреляли в цель, переплывали Днепр против течения – дело, за которое новичок принимался торжественно в козацкие круги. | Both the young Cossacks soon took a good standing among their fellows. They often sallied out upon the steppe with comrades from their kuren, and sometimes too with the whole kuren or with neighbouring kurens, to shoot the innumerable steppe-birds of every sort, deer, and goats. Or they went out upon the lakes, the river, and its tributaries allotted to each kuren, to throw their nets and draw out rich prey for the enjoyment of the whole kuren. Although unversed in any trade exercised by a Cossack, they were soon remarked among the other youths for their obstinate bravery and daring in everything. Skilfully and accurately they fired at the mark, and swam the Dnieper against the current—a deed for which the novice was triumphantly received into the circle of Cossacks. |
| Но старый Тарас готовил другую им деятельность. Ему не по душе была такая праздная жизнь – настоящего дела хотел он. Он все придумывал, как бы поднять Сечь на отважное предприятие, где бы можно было разгуляться как следует рыцарю. Наконец в один день пришел к кошевому и сказал ему прямо: | But old Taras was planning a different sphere of activity for them. Such an idle life was not to his mind; he wanted active employment. He reflected incessantly how to stir up the Setch to some bold enterprise, wherein a man could revel as became a warrior. At length he went one day to the Koschevoi, and said plainly:— |
| – Что, кошевой, пора бы погулять запорожцам? | “Well, Koschevoi, it is time for the Zaporozhtzi to set out.” |
| – Негде погулять, – отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку и сплюнув на сторону. | “There is nowhere for them to go,” replied the Koschevoi, removing his short pipe from his mouth and spitting to one side. |
| – Как негде? Можно пойти на Турещину или на Татарву. | “What do you mean by nowhere? We can go to Turkey or Tatary.” |
| -Не можно ни в Турещину, ни в Татарву, – отвечал кошевой, взявши опять хладнокровно в рот свою трубку. | “Impossible to go either to Turkey or Tatary,” replied the Koschevoi, putting his pipe coolly into his mouth again. |
| – Как не можно? | “Why impossible?” |
| – Так. Мы обещали султану мир. | “It is so; we have promised the Sultan peace.” |
| – Да ведь он бусурмен: и бог и Святое писание велит бить бусурменов. | “But he is a Mussulman; and God and the Holy Scriptures command us to slay Mussulmans.” |
| – Не имеем права. Если б не клялись еще нашею верою, то, может быть, и можно было бы; а теперь нет, не можно. | “We have no right. If we had not sworn by our faith, it might be done; but now it is impossible.” |
| – Как не можно? Как же ты говоришь: не имеем права? Вот у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тот, ни другой не был на войне, а ты говоришь – не имеем права; а ты говоришь – не нужно идти запорожцам. | “How is it impossible? How can you say that we have no right? Here are my two sons, both young men. Neither has been to war; and you say that we have no right, and that there is no need for the Zaporozhtzi to set out on an expedition.” |
| – Ну, уж не следует так. | “Well, it is not fitting.” |
| – Так, стало быть, следует, чтобы пропадала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живем, на какого черта мы живем? растолкуй ты мне это. Ты человек умный, тебя недаром выбрали в кошевые, растолкуй ты мне, на что мы живем? | “Then it must be fitting that Cossack strength should be wasted in vain, that a man should disappear like a dog without having done a single good deed, that he should be of no use to his country or to Christianity! Why, then, do we live? What the deuce do we live for? just tell me that. You are a sensible man, you were not chosen as Koschevoi without reason: so just tell me what we live for?” |
| Кошевой не дал ответа на этот запрос Это был упрямый козак. Он немного помолчал и потом сказал: | The Koschevoi made no reply to this question. He was an obstinate Cossack. He was silent for a while, and then said, |
| – А войне все-таки не бывать. | “Anyway, there will not be war.” |
| – Так не бывать войне? – спросил опять Тарас. | “There will not be war?” Taras asked again. |
| – Нет. | “No.” |
| – Так уж и думать об этом нечего? | “Then it is no use thinking about it?” |
| – И думать об этом нечего. | “It is not to be thought of.” |
| “Постой же ты, чертов кулак! – сказал Бульба про себя, – ты у меня будешь знать!” И положил тут же отмстить кошевому. | “Wait, you devil’s limb!” said Taras to himself; “you shall learn to know me!” and he at once resolved to have his revenge on the Koschevoi. |
| Сговорившись с тем и другим, задал он всем попойку, и хмельные козаки, в числе нескольких человек, повалили прямо на площадь, где стояли привязанные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на раду. Не нашедши палок, хранившихся всегда у довбиша, они схватили по полену в руки и начали колотить в них. На бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек с одним только глазом, несмотря, однако ж, на то, страшно заспанным. | Having made an agreement with several others, he gave them liquor; and the drunken Cossacks staggered into the square, where on a post hung the kettledrums which were generally beaten to assemble the people. Not finding the sticks, which were kept by the drummer, they seized a piece of wood and began to beat. The first to respond to the drum-beat was the drummer, a tall man with but one eye, but a frightfully sleepy one for all that. |
| – Кто смеет бить в литавры? – закричал он. | “Who dares to beat the drum?” he shouted. |
| – Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебе велят! – отвечали подгулявшие старшины. | “Hold your tongue! take your sticks, and beat when you are ordered!” replied the drunken men. |
| Довбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он взял с собою, очень хорошо зная окончание подобных происшествий. Литавры грянули, – и скоро на площадь, как шмели, стали собираться черные кучи запорожцев. Все собрались в кружок, и после третьего боя показались наконец старшины: кошевой с палицей в руке – знаком своего достоинства, судья с войсковою печатью, писарь с чернильницею и есаул с жезлом. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на все стороны козакам, которые гордо стояли, подпершись руками в бока. | The drummer at once took from his pocket the sticks which he had brought with him, well knowing the result of such proceedings. The drum rattled, and soon black swarms of Cossacks began to collect like bees in the square. All formed in a ring; and at length, after the third summons, the chiefs began to arrive—the Koschevoi with staff in hand, the symbol of his office; the judge with the army-seal; the secretary with his ink-bottle; and the osaul with his staff. The Koschevoi and the chiefs took off their caps and bowed on all sides to the Cossacks, who stood proudly with their arms akimbo. |
| – Что значит это собранье? Чего хотите, панове? – сказал кошевой. Брань и крики не дали ему говорить. | “What means this assemblage? what do you wish, gentles?” said the Koschevoi. Shouts and exclamations interrupted his speech. |
| – Клади палицу! Клади, чертов сын, сей же час палицу! Не хотим тебя больше! – кричали из толпы козаки. | “Resign your staff! resign your staff this moment, you son of Satan! we will have you no longer!” shouted some of the Cossacks in the crowd. |
| Некоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противиться; но курени, и пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крик и шум сделались общими. | Some of the sober ones appeared to wish to oppose this, but both sober and drunken fell to blows. The shouting and uproar became universal. |
| Кошевой хотел было говорить, но, зная, что разъярившаяся, своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях, поклонился очень низко, положил палицу и скрылся в толпе. | The Koschevoi attempted to speak; but knowing that the self-willed multitude, if enraged, might beat him to death, as almost always happened in such cases, he bowed very low, laid down his staff, and hid himself in the crowd. |
| – Прикажете, панове, и нам положить знаки достоинства? – сказали судья, писарь и есаул и готовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жезл. | “Do you command us, gentles, to resign our insignia of office?” said the judge, the secretary, and the osaul, as they prepared to give up the ink-horn, army-seal, and staff, upon the spot. |
| – Нет, вы оставайтесь! – закричали из толпы. – нам нужно было только прогнать кошевого, потому что он баба, а нам нужно человека в кошевые. | “No, you are to remain!” was shouted from the crowd. “We only wanted to drive out the Koschevoi because he is a woman, and we want a man for Koschevoi.” |
| – Кого же выберете теперь в кошевые? – сказали старшины. | “Whom do you now elect as Koschevoi?” asked the chiefs. |
| – Кукубенка выбрать! – кричала часть. | “We choose Kukubenko,” shouted some. |
| – Не хотим Кукубенка! – кричала другая. – Рано ему, еще молоко на губах не обсохло! | “We won’t have Kukubenko!” screamed another party: “he is too young; the milk has not dried off his lips yet.” |
| – Шило пусть будет атаманом! – кричали одни. – Шила посадить в кошевые! | “Let Schilo be hetman!” shouted some: “make Schilo our Koschevoi!” |
| – В спину тебе шило! – кричала с бранью толпа. – Что он за козак, когда проворовался, собачий сын, как татарин? К черту в мешок пьяницу Шила! | “Away with your Schilo!” yelled the crowd; “what kind of a Cossack is he who is as thievish as a Tatar? To the devil in a sack with your drunken Schilo! |
| – Бородатого, Бородатого посадим в кошевые! | “Borodaty! let us make Borodaty our Koschevoi!” |
| – Не хотим Бородатого! К нечистой матери Бородатого! | “We won’t have Borodaty! To the evil one’s mother with Borodaty!” |
| – Кричите Кирдягу! – шепнул Тарас Бульба некоторым. | “Shout Kirdyanga!” whispered Taras Bulba to several. |
| – Кирдягу! Кирдягу! – кричала толпа. – Бородатого! Бородатого! Кирдягу! Кирдягу! Шила! К черту с Шилом! Кирдягу! | “Kirdyanga, Kirdyanga!” shouted the crowd. “Borodaty, Borodaty! Kirdyanga, Kirdyanga! Schilo! Away with Schilo! Kirdyanga!” |
| Все кандидаты, услышавши произнесенными свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участьем своим в избрании. | All the candidates, on hearing their names mentioned, quitted the crowd, in order not to give any one a chance of supposing that they were personally assisting in their election. |
| – Кирдягу! Кирдягу! – раздавалось сильнее прочих. – Бородатого! | “Kirdyanga, Kirdyanga!” echoed more strongly than the rest. “Borodaty!” |
| Дело принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовал. | They proceeded to decide the matter by a show of hands, and Kirdyanga won. |
| – Ступайте за Кирдягою! – закричали. | “Fetch Kirdyanga!” they shouted. |
| Человек десяток козаков отделилось тут же из толпы; некоторые из них едва держались на ногах – до такой степени успели нагрузиться, – и отправились прямо к Кирдяге, объявить ему о его избрании. | Half a score of Cossacks immediately left the crowd—some of them hardly able to keep their feet, to such an extent had they drunk—and went directly to Kirdyanga to inform him of his election. |
| Кирдяга, хотя престарелый, но умный козак, давно уже сидел в своем курене и как будто бы не ведал ни о чем происходившем. | Kirdyanga, a very old but wise Cossack, had been sitting for some time in his kuren, as if he knew nothing of what was going on. |
| – Что, панове, что вам нужно? – спросил он. | “What is it, gentles? What do you wish?” he inquired. |
| – Иди, тебя выбрали в кошевые!.. | “Come, they have chosen you for Koschevoi.” |
| – Помилосердствуйте, панове! – сказал Кирдяга. – Где мне быть достойну такой чести! Где мне быть кошевым! Да у меня и разума не хватит к отправленью такой должности. Будто уже никого лучшего не нашлось в целом войске? | “Have mercy, gentles!” said Kirdyanga. “How can I be worthy of such honour? Why should I be made Koschevoi? I have not sufficient capacity to fill such a post. Could no better person be found in all the army?” |
| – Ступай же, говорят тебе! – кричали запорожцы. Двое из них схватили его под руки, и как он ни упирался ногами, но был наконец притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваньем сзади кулаками, пинками и увещаньями. – Не пяться же, чертов сын! Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее! | “Come, I say!” shouted the Zaporozhtzi. Two of them seized him by the arms; and in spite of his planting his feet firmly they finally dragged him to the square, accompanying his progress with shouts, blows from behind with their fists, kicks, and exhortations. “Don’t hold back, you son of Satan! Accept the honour, you dog, when it is given!” |
| Таким образом введен был Кирдяга в козачий круг. | In this manner Kirdyanga was conducted into the ring of Cossacks. |
| – Что, панове? – провозгласили во весь народ приведшие его. – Согласны ли вы, чтобы сей козак был у нас кошевым? | “How now, gentles?” announced those who had brought him, “are you agreed that this Cossack shall be your Koschevoi?” |
| – Все согласны! – закричала толпа, и от крику долго гремело все поле. | “We are all agreed!” shouted the throng, and the whole plain trembled for a long time afterwards from the shout. |
| Один из старшин взял палицу и поднес ее новоизбранному кошевому. Кирдяга, по обычаю, тотчас же отказался. Старшина поднес в другой раз. Кирдяга отказался и в другой раз и потом уже, за третьим разом, взял палицу. Ободрительный крик раздался по всей толпе, и вновь далеко загудело от козацкого крика все поле. Тогда выступило из средины народа четверо самых старых, седоусых и седочупринных козаков (слишком старых не было на Сечи, ибо никто из запорожцев не умирал своею смертью) и, взявши каждый в руки земли, которая на ту пору от бывшего дождя растворилась в грязь, положили ее ему на голову. Стекла с головы его мокрая земля, потекла по усам и по щекам и все лицо замазала ему грязью. Но Кирдяга стоял не сдвинувшись и благодарил козаков за оказанную честь. | One of the chiefs took the staff and brought it to the newly elected Koschevoi. Kirdyanga, in accordance with custom, immediately refused it. The chief offered it a second time; Kirdyanga again refused it, and then, at the third offer, accepted the staff. A cry of approbation rang out from the crowd, and again the whole plain resounded afar with the Cossacks’ shout. Then there stepped out from among the people the four oldest of them all, white-bearded, white-haired Cossacks; though there were no very old men in the Setch, for none of the Zaporozhtzi ever died in their beds. Taking each a handful of earth, which recent rain had converted into mud, they laid it on Kirdyanga’s head. The wet earth trickled down from his head on to his moustache and cheeks and smeared his whole face. But Kirdyanga stood immovable in his place, and thanked the Cossacks for the honour shown him. |
| Таким образом кончилось шумное избрание, которому, неизвестно, были ли так рады другие, как рад был Бульба: этим он отомстил прежнему кошевому; к тому же и Кирдяга был старый его товарищ и бывал с ним в одних и тех же сухопутных и морских походах, деля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбрелась тут же праздновать избранье, и поднялась гульня, какой еще не видывали дотоле Остап и Андрий. Винные шинки были разбиты; мед, горелка и пиво забирались просто, без денег; шинкари были уже рады и тому, что сами остались целы. Вся ночь прошла в криках и песнях, славивших подвиги. И взошедший месяц долго еще видел толпы музыкантов, проходивших по улицам с бандурами, турбанами, круглыми балалайками, и церковных песельников, которых держали на Сечи для пенья в церкви и для восхваленья запорожских дел. Наконец хмель и утомленье стали одолевать крепкие головы. И видно было, как то там, то в другом месте падал на землю козак. Как товарищ, обнявши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вместе с ним. Там гурьбою улегалась целая куча; там выбирал иной, как бы получше ему улечься, и лег прямо на деревянную колоду. Последний, который был покрепче, еще выводил какие-то бессвязные речи; наконец и того подкосила хмельная сила, и тот повалился – и заснула вся Сечь. | Thus ended the noisy election, concerning which we cannot say whether it was as pleasing to the others as it was to Bulba; by means of it he had revenged himself on the former Koschevoi. Moreover, Kirdyanga was an old comrade, and had been with him on the same expeditions by sea and land, sharing the toils and hardships of war. The crowd immediately dispersed to celebrate the election, and such revelry ensued as Ostap and Andrii had not yet beheld. The taverns were attacked and mead, corn-brandy, and beer seized without payment, the owners being only too glad to escape with whole skins themselves. The whole night passed amid shouts, songs, and rejoicings; and the rising moon gazed long at troops of musicians traversing the streets with guitars, flutes, tambourines, and the church choir, who were kept in the Setch to sing in church and glorify the deeds of the Zaporozhtzi. At length drunkenness and fatigue began to overpower even these strong heads, and here and there a Cossack could be seen to fall to the ground, embracing a comrade in fraternal fashion; whilst maudlin, and even weeping, the latter rolled upon the earth with him. Here a whole group would lie down in a heap; there a man would choose the most comfortable position and stretch himself out on a log of wood. The last, and strongest, still uttered some incoherent speeches; finally even they, yielding to the power of intoxication, flung themselves down and all the Setch slept. |
| IV | IV |
| А на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым кошевым, как поднять запорожцев на какое-нибудь дело. Кошевой был умный и хитрый козак, знал вдоль и поперек запорожцев и сначала сказал: “Не можно клятвы преступить, никак не можно”. А потом, помолчавши, прибавил: “Ничего, можно; клятвы мы не преступим, а так кое-что придумаем. Пусть только соберется народ, да не то чтобы по моему приказу, а просто своею охотою. Вы уж знаете, как это сделать. А мы с старшинами тотчас и прибежим на площадь, будто бы ничего не знаем”. | But next day Taras Bulba had a conference with the new Koschevoi as to the method of exciting the Cossacks to some enterprise. The Koschevoi, a shrewd and sensible Cossack, who knew the Zaporozhtzi thoroughly, said at first, “Oaths cannot be violated by any means”; but after a pause added, “No matter, it can be done. We will not violate them, but let us devise something. Let the people assemble, not at my summons, but of their own accord. You know how to manage that; and I will hasten to the square with the chiefs, as though we know nothing about it.” |
| Не прошло часу после их разговора, как уже грянули в литавры. Нашлись вдруг и хмельные и неразумные козаки. Миллион козацких шапок высыпал вдруг на площадь. Поднялся говор: “Кто?.. Зачем?.. Из-за какого дела пробили сбор?” Никто не отвечал. Наконец в том и в другом углу стало раздаваться: “Вот пропадает даром козацкая сила: нет войны!.. Вот старшины забайбачились наповал, позаплыли жиром очи!.. Нет, видно, правды на свете!” Другие козаки слушали сначала, а потом и сами стали говорить: “А и вправду нет никакой правды на свете!” Старшины казались изумленными от таких речей. Наконец кошевой вышел вперед и сказал: | Not an hour had elapsed after their conversation, when the drums again thundered. The drunken and senseless Cossacks assembled. A myriad Cossack caps were sprinkled over the square. A murmur arose, “Why? What? Why was the assembly beaten?” No one answered. At length, in one quarter and another, it began to be rumoured about, “Behold, the Cossack strength is being vainly wasted: there is no war! Behold, our leaders have become as marmots, every one; their eyes swim in fat! Plainly, there is no justice in the world!” The other Cossacks listened at first, and then began themselves to say, “In truth, there is no justice in the world!” Their leaders seemed surprised at these utterances. Finally the Koschevoi stepped forward: |
| – Позвольте, панове запорожцы, речь держать! | “Permit me, Cossacks, to address you.” |
| – Держи! | “Do so!” |
| – Вот в рассуждении того теперь идет речь, панове добродийство, – да вы, может быть, и сами лучше это знаете, – что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет. Потом опять в рассуждении того пойдет речь, что есть много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку, – и сами знаете, панове, – без войны не можно пробыть. Какой и запорожец из него, если он еще ни разу не бил бусурмена? | “Touching the matter in question, gentles, none know better than yourselves that many Zaporozhtzi have run in debt to the Jew ale-house keepers and to their brethren, so that now they have not an atom of credit. Again, touching the matter in question, there are many young fellows who have no idea of what war is like, although you know, gentles, that without war a young man cannot exist. How make a Zaporozhetz out of him if he has never killed a Mussulman?” |
| “Он хорошо говорит”, – подумал Бульба. | “He speaks well,” thought Bulba. |
| – Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир: сохрани бог! Я только так это говорю. Притом же у нас храм божий – грех сказать, что такое: вот сколько лет уже, как, по милости божией, стоит Сечь, а до сих пор не то уже чтобы снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства. Хотя бы серебряную ризу кто догадался им выковать! Они только то и получили, что отказали в духовной иные козаки. Да и даяние их было бедное, потому что почти всь пропили еще при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурменами: мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему. | “Think not, however, gentles, that I speak thus in order to break the truce; God forbid! I merely mention it. Besides, it is a shame to see what sort of church we have for our God. Not only has the church remained without exterior decoration during all the years which by God’s mercy the Setch has stood, but up to this day even the holy pictures have no adornments. No one has even thought of making them a silver frame; they have only received what some Cossacks have left them in their wills; and these gifts were poor, since they had drunk up nearly all they had during their lifetime. I am making you this speech, therefore, not in order to stir up a war against the Mussulmans; we have promised the Sultan peace, and it would be a great sin in us to break this promise, for we swore it on our law.” |
| – Что ж он путает такое? – сказал про себя Бульба. | “What is he mixing things up like that for?” said Bulba to himself. |
| – Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Рыцарская честь не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю: пустить с челнами одних молодых, пусть немного пошарпают берега Натолии. Как думаете, панове? | “So you see, gentles, that war cannot be begun; honour does not permit it. But according to my poor opinion, we might, I think, send out a few young men in boats and let them plunder the coasts of Anatolia a little. What do you think, gentles?” |
| < < < BILINGUAL BOOKS | > > > |
| Двуязычный текст, подготовленный Akirill.com , размещенные на сайте Akirill.com 17 июня 2022 года. 2022 года. Каждую из книг (на английском или русском языках) можно забрать отдельно и повторно использовать в личных и некоммерческих целях. Они свободны от авторского права. При любом совместном использовании двух книг должно быть указано их происхождение https://www.Akirill.com | Bilingual text prepared by Akirill.com , deposited on the site Akirill.com on June 17, 2022. Each of the books (English or French) can be taken back separately and reused for personal and non-commercial purposes. They are free of copyright. Any use of the two books side by side must mention their origin https://www.Akirill.com |
Taras Bulba , by Nikolai Vasilievich Gogol
| If you liked this page, don’t forget to like and share. Si vous avez aimé cette page, n’oublier pas d’aimer et de partager. |
| Subscribe to not miss anything Abonnez-vous pour ne rien manquer |
| Check out our latest posts |
| Découvrez nos derniers articles |