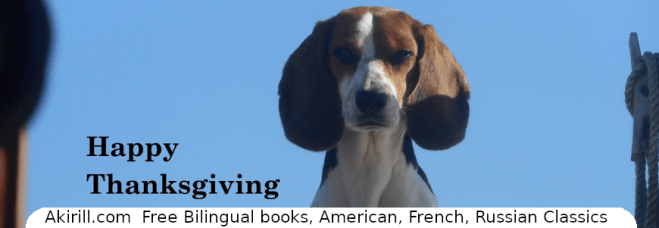Это не дословный перевод, а книга на двух языках, вышедшие бок о бок. Вы можете прочитать его на русском, английском или на обоих языках.
This is not a word-by-word translation but the books in the two languages put side by side. You can read it in Russian, in English or both.
Тарас Бульба (Николай Гоголь)
| Тарас Бульба (Николай Гоголь) | Taras Bulba , by Nikolai Vasilievich Gogol |
| < < < | > > > |
| Page 4 | Page 4 |
| – За Сичь! – отдалося густо в передних рядах. – За Сичь! – сказали тихо старые, моргнувши седым усом; и, встрепенувшись, как молодые соколы, повторили молодые: – За Сичь! | “To the Setch!” echoed the foremost ranks. “To the Setch!” said the old men, softly, twitching their grey moustaches; and eagerly as young hawks, the youths repeated, “To the Setch!” |
| И слышало далече поле, как поминали козаки свою Сичь. | And the distant plain heard how the Cossacks mentioned their Setch. |
| – Теперь последний глоток; товарищи, за славу и всех христиан, какие живут на свете! | “Now a last draught, comrades, to the glory of all Christians now living in the world!” |
| И все козаки, до последнего в поле, выпили последний глоток в ковшах за славу и всех христиан, какие ни есть на свете. И долго еще повторялось по всем рядам промеж всеми куренями: | And every Cossack drank a last draught to the glory of all Christians in the world. And among all the ranks in the kurens they long repeated, |
| – За всех христиан, какие ни есть на свете! | “To all the Christians in the world!” |
| Уже пусто было в ковшах, а всь еще стояли козаки, поднявши руки. Хоть весело глядели очи их всех, просиявшие вином, но сильно загадались они. Не о корысти и военном прибытке теперь думали они, не о том, кому посчастливится набрать червонцев, дорогого оружия, шитых кафтанов и черкесских коней; но загадалися они – как орлы, севшие на вершинах обрывистых, высоких гор, с которых далеко видно расстилающееся беспредельно море, усыпанное, как мелкими птицами, галерами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонам чуть видными тонкими поморьями, с прибрежными, как мошки, городами и склонившимися, как мелкая травка, лесами. Как орлы, озирали они вокруг себя очами все поле и чернеющую вдали судьбу свою. Будет, будет все поле с облогами и дорогами покрыто торчащими их белыми костями, щедро обмывшись козацкою их кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями. Далече раскинутся чубатые головы с перекрученными и запекшимися в крови чубами и запущенными книзу усами. Будут, налетев, орлы выдирать и выдергивать из них козацкие очи. Но добро великое в таком широко и вольно разметавшемся смертном ночлеге! Не погибнет ни одно великодушное дело, и не пропадет, как малая порошинка с ружейного дула, козацкая слава. Будет, будет бандурист с седою по грудь бородою, а может, еще полный зрелого мужества, но белоголовый старец, вещий духом, и скажет он про них свое густое, могучее слово. И пойдет дыбом по всему свету о них слава, и все, что ни народится потом, заговорит о них. Ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной меди, в которую много повергнул мастер дорогого чистого серебра, чтобы далече по городам, лачугам, палатам и весям разносился красный звон, сзывая равно всех на святую молитву. | The pails were empty, but the Cossacks still stood with their hands uplifted. Although the eyes of all gleamed brightly with the wine, they were thinking deeply. Not of greed or the spoils of war were they thinking now, nor of who would be lucky enough to get ducats, fine weapons, embroidered caftans, and Tcherkessian horses; but they meditated like eagles perched upon the rocky crests of mountains, from which the distant sea is visible, dotted, as with tiny birds, with galleys, ships, and every sort of vessel, bounded only by the scarcely visible lines of shore, with their ports like gnats and their forests like fine grass. Like eagles they gazed out on all the plain, with their fate darkling in the distance. All the plain, with its slopes and roads, will be covered with their white projecting bones, lavishly washed with their Cossack blood, and strewn with shattered waggons and with broken swords and spears; the eagles will swoop down and tear out their Cossack eyes. But there is one grand advantage: not a single noble deed will be lost, and the Cossack glory will not vanish like the tiniest grain of powder from a gun-barrel. The guitar-player with grey beard falling upon his breast, and perhaps a white-headed old man still full of ripe, manly strength will come, and will speak his low, strong words of them. And their glory will resound through all the world, and all who are born thereafter will speak of them; for the word of power is carried afar, ringing like a booming brazen bell, in which the maker has mingled much rich, pure silver, that is beautiful sound may be borne far and wide through the cities, villages, huts, and palaces, summoning all betimes to holy prayer. Akirill.com |
| IX | IX |
| В городе не узнал никто, что половина запорожцев выступила в погоню за татарами. С магистратской башни приметили только часовые, что потянулась часть возов за лес; но подумали, что козаки готовились сделать засаду; тоже думал и французский инженер. А между тем слова кошевого не прошли даром, и в городе оказался недостаток в съестных припасах. По обычаю прошедших веков, войска не разочли, сколько им было нужно. Попробовали сделать вылазку, но половина смельчаков была тут же перебита козаками, а половина прогнана в город ни с чем. Жиды, однако же, воспользовались вылазкою и пронюхали всь: куда и зачем отправились запорожцы, и с какими военачальниками, и какие именно курени, и сколько их числом, и сколько было оставшихся на месте, и что они думают делать, – словом, чрез несколько уже минут в городе всь узнали. Полковники ободрились и готовились дать сражение. Тарас уже видел то по движенью и шуму в городе и расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, уставил в три таборы курени, обнесши их возами в виде крепостей, – род битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы; двум куреням повелел забраться в засаду: убил часть поля острыми кольями, изломанным оружием, обломками копьев, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда все было сделано как нужно, сказал речь козакам, не для того, чтобы ободрить и освежить их, – знал, что и без того крепки они духом, – а просто самому хотелось высказать все, что было на сердце. | In the city, no one knew that one-half of the Cossacks had gone in pursuit of the Tatars. From the tower of the town hall the sentinel only perceived that a part of the waggons had been dragged into the forest; but it was thought that the Cossacks were preparing an ambush—a view taken by the French engineer also. Meanwhile, the Koschevoi’s words proved not unfounded, for a scarcity of provisions arose in the city. According to a custom of past centuries, the army did not separate as much as was necessary. They tried to make a sortie; but half of those who did so were instantly killed by the Cossacks, and the other half driven back into the city with no results. But the Jews availed themselves of the opportunity to find out everything; whither and why the Zaporozhtzi had departed, and with what leaders, and which particular kurens, and their number, and how many had remained on the spot, and what they intended to do; in short, within a few minutes all was known in the city. The besieged took courage, and prepared to offer battle. Taras had already divined it from the noise and movement in the city, and hastened about, making his arrangements, forming his men, and giving orders and instructions. He ranged the kurens in three camps, surrounding them with the waggons as bulwarks—a formation in which the Zaporozhtzi were invincible—ordered two kurens into ambush, and drove sharp stakes, broken guns, and fragments of spears into a part of the plain, with a view to forcing the enemy’s cavalry upon it if an opportunity should present itself. When all was done which was necessary, he made a speech to the Cossacks, not for the purpose of encouraging and freshening up their spirits—he knew their souls were strong without that—but simply because he wished to tell them all he had upon his heart. Akirill.com |
| – Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество! Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; видишь – и там люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, – видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, – любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а… – сказал Тарас, и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: – Нет, так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, – так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их! | “I want to tell you, brother gentles, what our brotherhood is. You have heard from your fathers and grandfathers in what honour our land has always been held by all. We made ourselves known to the Greeks, and we took gold from Constantinople, and our cities were luxurious, and we had, too, our temples, and our princes—the princes of the Russian people, our own princes, not Catholic unbelievers. But the Mussulmans took all; all vanished, and we remained defenceless; yea, like a widow after the death of a powerful husband: defenceless was our land as well as ourselves! Such was the time, comrades, when we joined hands in a brotherhood: that is what our fellowship consists in. There is no more sacred brotherhood. The father loves his children, the mother loves her children, the children love their father and mother; but this is not like that, brothers. The wild beast also loves its young. But a man can be related only by similarity of mind and not of blood. There have been brotherhoods in other lands, but never any such brotherhoods as on our Russian soil. It has happened to many of you to be in foreign lands. You look: there are people there also, God’s creatures, too; and you talk with them as with the men of your own country. But when it comes to saying a hearty word—you will see. No! they are sensible people, but not the same; the same kind of people, and yet not the same! No, brothers, to love as the Russian soul loves, is to love not with the mind or anything else, but with all that God has given, all that is within you. Ah!” said Taras, and waved his hand, and wiped his grey head, and twitched his moustache, and then went on: “No, no one else can love in that way! I know that baseness has now made its way into our land. Men care only to have their ricks of grain and hay, and their droves of horses, and that their mead may be safe in their cellars; they adopt, the devil only knows what Mussulman customs. They speak scornfully with their tongues. They care not to speak their real thoughts with their own countrymen. They sell their own things to their own comrades, like soulless creatures in the market-place. The favour of a foreign king, and not even a king, but the poor favour of a Polish magnate, who beats them on the mouth with his yellow shoe, is dearer to them than all brotherhood. But the very meanest of these vile men, whoever he may be, given over though he be to vileness and slavishness, even he, brothers, has some grains of Russian feeling; and they will assert themselves some day. And then the wretched man will beat his breast with his hands; and will tear his hair, cursing his vile life loudly, and ready to expiate his disgraceful deeds with torture. Let them know what brotherhood means on Russian soil! And if it has come to the point that a man must die for his brotherhood, it is not fit that any of them should die so. No! none of them. It is not a fit thing for their mouse-like natures.” |
| Так говорил атаман и, когда кончил речь, все еще потрясал посеребрившеюся в козацких делах головою. Всех, кто ни стоял, разобрала сильно такая речь, дошед далеко, до самого сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы в землю; слеза тихо накатывалася в старых очах; медленно отирали они ее рукавом. И потом все, как будто сговорившись, махнули в одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, удалью и всяким невзгодьем жизни, или хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодою жемчужною душою на вечную радость старцам родителям, родившим их. | Thus spoke the hetman; and after he had finished his speech he still continued to shake his head, which had grown grey in Cossack service. All who stood there were deeply affected by his speech, which went to their very hearts. The oldest in the ranks stood motionless, their grey heads drooping. Tears trickled quietly from their aged eyes; they wiped them slowly away with their sleeves, and then all, as if with one consent, waved their hands in the air at the same moment, and shook their experienced heads. For it was evident that old Taras recalled to them many of the best-known and finest traits of the heart in a man who has become wise through suffering, toil, daring, and every earthly misfortune, or, though unknown to them, of many things felt by young, pure spirits, to the eternal joy of the parents who bore them. |
| А из города уже выступало неприятельское войско, гремя в литавры и трубы, и, подбоченившись, выезжали паны, окруженные несметными слугами. Толстый полковник отдавал приказы. И стали наступать они тесно на козацкие таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща медными доспехами. Как только увидели козаки, что подошли они на ружейный выстрел, все разом грянули в семипядные пищали, и, не перерывая, всь палили они из пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всем окрестным полям и нивам, сливаясь в беспрерывный гул; дымом затянуло все поле, а запорожцы всь палили, не переводя духу: задние только заряжали да передавали передним, наводя изумление на неприятеля, не могшего понять, как стреляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великим дымом, обнявшим то и другое воинство, не видно было, как то одного, то другого не ставало в рядах; но чувствовали ляхи, что густо летели пули и жарко становилось дело; и когда попятились назад, чтобы посторониться от дыма и оглядеться, то многих недосчитались в рядах своих. А у козаков, может быть, другой-третий был убит на всю сотню. И всь продолжали палить козаки из пищалей, ни на минуту не давая промежутка. Сам иноземный инженер подивился такой, никогда им не виданной тактике, сказавши тут же, при всех: “Вот бравые молодцы-запорожцы! Вот как нужно биться и другим в других землях!” И дал совет поворотить тут же на табор пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунные пушки; дрогнула, далеко загудевши, земля, и вдвое больше затянуло дымом все поле. Почуяли запах пороха среди площадей и улиц в дальних и ближних городах. Но нацелившие взяли слишком высоко: раскаленные ядра выгнули слишком высокую дугу. Страшно завизжав по воздуху, перелетели они через головы всего табора и углубились далеко в землю, взорвав и взметнув высоко на воздух черную землю. Ухватил себя за волосы французский инженер при виде такого неискусства и сам принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями беспрерывно козаки. Akirill.com | But the army of the enemy was already marching out of the city, sounding drums and trumpets; and the nobles, with their arms akimbo, were riding forth too, surrounded by innumerable servants. The stout colonel gave his orders, and they began to advance briskly on the Cossack camps, pointing their matchlocks threateningly. Their eyes flashed, and they were brilliant with brass armour. As soon as the Cossacks saw that they had come within gunshot, their matchlocks thundered all together, and they continued to fire without cessation. The detonations resounded through the distant fields and meadows, merging into one continuous roar. The whole plain was shrouded in smoke, but the Zaporozhtzi continued to fire without drawing breath—the rear ranks doing nothing but loading the guns and handing them to those in front, thus creating amazement among the enemy, who could not understand how the Cossacks fired without reloading. Amid the dense smoke which enveloped both armies, it could not be seen how first one and then another dropped: but the Lyakhs felt that the balls flew thickly, and that the affair was growing hot; and when they retreated to escape from the smoke and see how matters stood, many were missing from their ranks, but only two or three out of a hundred were killed on the Cossack side. Still the Cossacks went on firing off their matchlocks without a moment’s intermission. Even the foreign engineers were amazed at tactics heretofore unknown to them, and said then and there, in the presence of all, “These Zaporozhtzi are brave fellows. That is the way men in other lands ought to fight.” And they advised that the cannons should at once be turned on the camps. Heavily roared the iron cannons with their wide throats; the earth hummed and trembled far and wide, and the smoke lay twice as heavy over the plain. They smelt the reek of the powder among the squares and streets in the most distant as well as the nearest quarters of the city. But those who laid the cannons pointed them too high, and the shot describing too wide a curve flew over the heads of the camps, and buried themselves deep in the earth at a distance, tearing the ground, and throwing the black soil high in the air. At the sight of such lack of skill the French engineer tore his hair, and undertook to lay the cannons himself, heeding not the Cossack bullets which showered round him. |
| Тарас видел еще издали, что беда будет всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнул зычно: “Выбирайтесь скорей из-за возов, и садись всякий на коня!” Но не поспели бы сделать то и другое козаки, если бы Остап не ударил в самую середину; выбил фитили у шести пушкарей, у четырех только не мог выбить: отогнали его назад ляхи. А тем временем иноземный капитан сам взял в руку фитиль, чтобы выпалить из величайшей пушки, какой никто из казаков не видывал дотоле. Страшно глядела она широкою пастью, и тысяча смертей глядело оттуда. И как грянула она, а за нею следом три другие, четырехкратно потрясши глухо-ответную землю, – много нанесли они горя! Не по одному козаку взрыдает старая мать, ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси. Не одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове и других городах. Будет, сердечная, выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая каждого из них в очи, нет ли между их одного, милейшего всех. Но много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет между ними одного, милейшего всех. | Taras saw from afar that destruction menaced the whole Nezamaikovsky and Steblikivsky kurens, and gave a ringing shout, “Get away from the waggons instantly, and mount your horses!” But the Cossacks would not have succeeded in effecting both these movements if Ostap had not dashed into the middle of the foe and wrenched the linstocks from six cannoneers. But he could not wrench them from the other four, for the Lyakhs drove him back. Meanwhile the foreign captain had taken the lunt in his own hand to fire the largest cannon, such a cannon as none of the Cossacks had ever beheld before. It looked horrible with its wide mouth, and a thousand deaths poured forth from it. And as it thundered, the three others followed, shaking in fourfold earthquake the dully responsive earth. Much woe did they cause. For more than one Cossack wailed the aged mother, beating with bony hands her feeble breast; more than one widow was left in Glukhof, Nemirof, Chernigof, and other cities. The loving woman will hasten forth every day to the bazaar, grasping at all passers-by, scanning the face of each to see if there be not among them one dearer than all; but though many an army will pass through the city, never among them will a single one of all their dearest be. |
| Так, как будто и не бывало половины Незамайковского куреня! Как градом выбивает вдруг всю ниву, где, что полновесный червонец, красовался всякий колос, так их выбило и положило. | Half the Nezamaikovsky kuren was as if it had never been. As the hail suddenly beats down a field where every ear of grain shines like purest gold, so were they beaten down. |
| Как же вскинулись козаки! Как схватились все! Как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевши, что лучшей половины куреня его нет! Разом вбился он с остальными своими незамайковцами в самую середину. В гневе иссек в капусту первого попавшегося, многих конников сбил с коней, доставши копьем и конника и коня, пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку. А уж там, видит, хлопочет уманский куренной атаман и Степан Гуска уже отбивает главную пушку. Оставил он тех козаков и поворотил с своими в другую неприятельскую гущу. Так, где прошли незамайковцы – так там и улица, где поворотились – так уж там и переулок! Так и видно, как редели ряды и снопами валились ляхи! А у самых возов Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальних возов Дьгтяренко, а за ним куренной атаман Вертыхвист. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дьгтяренко, да напал наконец на неподатливого третьего. Увертлив и крепок был лях, пышной сбруей украшен и пятьдесят одних слуг привел с собою. Согнул он крепко Дьгтяренка, сбил его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричал: “Нет из вас, собак-козаков, ни одного, кто бы посмел противустать мне!” | How the Cossacks hastened thither! How they all started up! How raged Kukubenko, the hetman, when he saw that the best half of his kuren was no more! He fought his way with his remaining Nezamaikovtzi to the very midst of the fray, cut down in his wrath, like a cabbage, the first man he met, hurled many a rider from his steed, piercing both horse and man with his lance; and making his way to the gunners, captured some of the cannons. Here he found the hetman of the Oumansky kuren, and Stepan Guska, hard at work, having already seized the largest cannon. He left those Cossacks there, and plunged with his own into another mass of the foe, making a lane through it. Where the Nezamaikovtzi passed there was a street; where they turned about there was a square as where streets meet. The foemen’s ranks were visibly thinning, and the Lyakhs falling in sheaves. Beside the waggons stood Vovtuzenko, and in front Tcherevitchenko, and by the more distant ones Degtyarenko; and behind them the kuren hetman, Vertikhvist. Degtyarenko had pierced two Lyakhs with his spear, and now attacked a third, a stout antagonist. Agile and strong was the Lyakh, with glittering arms, and accompanied by fifty followers. He fell fiercely upon Degtyarenko, struck him to the earth, and, flourishing his sword above him, cried, “There is not one of you Cossack dogs who has dared to oppose me.” |
| “А вот есть же!” – сказал и выступил вперед Мосий Шило. Сильный был он козак, не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. Схватили их турки у самого Трапезонта и всех забрали невольниками на галеры, взяли их по рукам и ногам в железные цепи, не давали по целым неделям пшена и поили противной морской водою. Все выносили и вытерпели бедные невольники, лишь бы не переменять православной веры. Не вытерпел атаман Мосий Шило, истоптал ногами святой закон, скверною чалмой обвил грешную голову, вошел в доверенность к паше, стал ключником на корабле и старшим над всеми невольниками. Много опечалились оттого бедные невольники, ибо знали, что если свой продаст веру и пристанет к угнетателям, то тяжелей и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом. Так и сбылось. Всех посадил Мосий Шило в новые цепи по три в ряд, прикрутил им до самых белых костей жестокие веревки; всех перебил по шеям, угощая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себе такого слугу, стали пировать и, позабыв закон свой, все перепились, он принес все шестьдесят четыре ключа и роздал невольникам, чтобы отмыкали себя, бросали бы цепи и кандалы в море, а брали бы наместо того сабли да рубили турков. Много тогда набрали козаки добычи и воротились со славою в отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосия Шила. Выбрали бы его в кошевые, да был совсем чудной козак. Иной раз повершал такое дело, какого мудрейшему не придумать, а в другой – просто дурь одолевала казака. Пропил он и прогулял все, всем задолжал на Сечи и, в прибавку к тому, прокрался, как уличный вор: ночью утащил из чужого куреня всю козацкую сбрую и заложил шинкарю. За такое позорное дело привязали его на базаре к столбу и положили возле дубину, чтобы всякий по мере сил своих отвесил ему по удару. Но не нашлось такого из всех запорожцев, кто бы поднял на него дубину, помня прежние его заслуги. Таков был козак Мосий Шило. | “Here is one,” said Mosiy Schilo, and stepped forward. He was a muscular Cossack, who had often commanded at sea, and undergone many vicissitudes. The Turks had once seized him and his men at Trebizond, and borne them captives to the galleys, where they bound them hand and foot with iron chains, gave them no food for a week at a time, and made them drink sea-water. The poor prisoners endured and suffered all, but would not renounce their orthodox faith. Their hetman, Mosiy Schilo, could not bear it: he trampled the Holy Scriptures under foot, wound the vile turban about his sinful head, and became the favourite of a pasha, steward of a ship, and ruler over all the galley slaves. The poor slaves sorrowed greatly thereat, for they knew that if he had renounced his faith he would be a tyrant, and his hand would be the more heavy and severe upon them. So it turned out. Mosiy Schilo had them put in new chains, three to an oar. The cruel fetters cut to the very bone; and he beat them upon the back. But when the Turks, rejoicing at having obtained such a servant, began to carouse, and, forgetful of their law, got all drunk, he distributed all the sixty-four keys among the prisoners, in order that they might free themselves, fling their chains and manacles into the sea, and, seizing their swords, in turn kill the Turks. Then the Cossacks collected great booty, and returned with glory to their country; and the guitar-players celebrated Mosiy Schilo’s exploits for a long time. They would have elected him Koschevoi, but he was a very eccentric Cossack. At one time he would perform some feat which the most sagacious would never have dreamed of. At another, folly simply took possession of him, and he drank and squandered everything away, was in debt to every one in the Setch, and, in addition to that, stole like a street thief. He carried off a whole Cossack equipment from a strange kuren by night and pawned it to the tavern-keeper. For this dishonourable act they bound him to a post in the bazaar, and laid a club beside him, in order that every one who passed should, according to the measure of his strength, deal him a blow. But there was not one Zaporozhetz out of them all to be found who would raise the club against him, remembering his former services. Such was the Cossack, Mosiy Schilo. |
| “Так есть же такие, которые бьют вас, собак!” – сказал он, ринувшись на него. И уж так-то рубились они! И наплечники и зерцала погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем вражий лях железную рубашку, достав лезвеем самого тела: зачервонела козацкая рубашка. Но не поглядел на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и грянулся лях, а Шило принялся рубить и крестить оглушенного. Не добивай, козак, врага, а лучше поворотись назад! Не поворотился козак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился Шило и уж достал было смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов. Пошатнулся Шило и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: “Прощайте, паныбратья, товарищи! Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!” И зажмурил ослабшие свои очи, и вынеслась козацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал Задорожний с своими, ломил ряды куренной Вертыхвист и выступал Балаган. | “Here is one who will kill you, dog!” he said, springing upon the Lyakh. How they hacked away! their shoulder-plates and breast-plates bent under their blows. The hostile Lyakh cut through Schilo’s shirt of mail, reaching the body itself with his blade. The Cossack’s shirt was dyed purple: but Schilo heeded it not. He brandished his brawny hand, heavy indeed was that mighty fist, and brought the pommel of his sword down unexpectedly upon his foeman’s head. The brazen helmet flew into pieces and the Lyakh staggered and fell; but Schilo went on hacking and cutting gashes in the body of the stunned man. Kill not utterly thine enemy, Cossack: look back rather! The Cossack did not turn, and one of the dead man’s servants plunged a knife into his neck. Schilo turned and tried to seize him, but he disappeared amid the smoke of the powder. On all sides rose the roar of matchlocks. Schilo knew that his wound was mortal. He fell with his hand upon his wound, and said, turning to his comrades, “Farewell, brother gentles, my comrades! may the holy Russian land stand forever, and may it be eternally honoured!” And as he closed his failing eyes, the Cossack soul fled from his grim body. Then Zadorozhniy came forward with his men, Vertikhvist issued from the ranks, and Balaban stepped forth. |
| – А что, паны? – сказал Тарас, перекликнувшись с куренными. – Есть еще порох в пороховницах? Не ослабела ли козацкая сила? Не гнутся ли козаки? | “What now, gentles?” said Taras, calling to the hetmans by name: “there is yet powder in the powder-flasks? The Cossack force is not weakened? the Cossacks do not yield?” |
| – Есть еще, батько, порох в пороховницах. Не ослабела еще козацкая сила; еще не гнутся казаки! | “There is yet powder in the flasks, father; the Cossack force is not weakened yet: the Cossacks yield not!” |
| И наперли сильно козаки: совсем смешали все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор и велел выкинуть восемь малеванных знамен, чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по всему полю. Все бежали ляхи к знаменам; но не успели они еще выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь с своими незамайковцами в середину и напал прямо на толстопузого полковника. Не выдержал полковник и, поворотив коня, пустился вскачь; а Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то с бокового куреня, Степан Гуска пустился ему навпереймы, с арканом в руке, всю пригнувши голову к лошадиной шее, и, улучивши время, с одного раза накинул аркан ему на шею. Весь побагровел полковник, ухватясь за веревку обеими руками и силясь разорвать ее, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он, пригвожденный к земле. Но несдобровать и Гуске! Не успели оглянуться козаки, как уже увидели Степана Гуску, поднятого на четыре копья. Только и успел-сказать бедняк: “Пусть же пропадут все враги и ликует вечные веки Русская земля!” И там же испустил дух свой. | And the Cossacks pressed vigorously on: the foemen’s ranks were disordered. The short colonel beat the assembly, and ordered eight painted standards to be displayed to collect his men, who were scattered over all the plain. All the Lyakhs hastened to the standards. But they had not yet succeeded in ranging themselves in order, when the hetman Kukubenko attacked their centre again with his Nezamaikovtzi and fell straight upon the stout colonel. The colonel could not resist the attack, and, wheeling his horse about, set out at a gallop; but Kukubenko pursued him for a considerable distance cross the plain and prevented him from joining his regiment. Perceiving this from the kuren on the flank, Stepan Guska set out after him, lasso in hand, bending his head to his horse’s neck. Taking advantage of an opportunity, he cast his lasso about his neck at the first attempt. The colonel turned purple in the face, grasped the cord with both hands, and tried to break it; but with a powerful thrust Stepan drove his lance through his body, and there he remained pinned to the earth. But Guska did not escape his fate. The Cossacks had but time to look round when they beheld Stepan Guska elevated on four spears. All the poor fellow succeeded in saying was, “May all our enemies perish, and may the Russian land rejoice forever!” and then he yielded up his soul. |
| Оглянулись козаки, а уж там, сбоку, козак Метелыця угощает ляхов, шеломя того и другого; а уж там, с другого, напирает с своими атаман Невылычкий; а у возов ворочает врага и бьется Закрутыгуба; а у дальних возов третий Пысаренко отогнал уже целую ватагу. А уж там, у других возов, схватились и бьются на самых возах. | The Cossacks glanced around, and there was Metelitza on one side, entertaining the Lyakhs by dealing blows on the head to one and another; on the other side, the hetman Nevelitchkiy was attacking with his men; and Zakrutibuga was repulsing and slaying the enemy by the waggons. The third Pisarenko had repulsed a whole squadron from the more distant waggons; and they were still fighting and killing amongst the other waggons, and even upon them. |
| – Что, паны? – перекликнулся атаман Тарас, проехавши впереди всех. – Есть ли еще порох в пороховницах? Крепка ли еще козацкая сила? Не гнутся ли еще козаки? | “How now, gentles?” cried Taras, stepping forward before them all: “is there still powder in your flasks? Is the Cossack force still strong? do the Cossacks yield?” |
| – Есть еще, батько, порох в пороховницах; еще крепка козацкая сила; еще не гнутся козаки! | “There is still powder in the flasks, father; the Cossack force is still strong: the Cossacks yield not!” |
| А уж упал с воза Бовдюг. Прямо под самое сердце пришлась ему пуля, но собрал старый весь дух свой и сказал: “Не жаль расстаться с светом. Дай бог и всякому такой кончины! Пусть же славится до конца века Русская земля!” И понеслась к вышинам Бовдюгова душа рассказать давно отошедшим старцам, как умеют биться на Русской земле и, еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру. | But Bovdug had already fallen from the waggons; a bullet had struck him just below the heart. The old man collected all his strength, and said, “I sorrow not to part from the world. God grant every man such an end! May the Russian land be forever glorious!” And Bovdug’s spirit flew above, to tell the old men who had gone on long before that men still knew how to fight on Russian soil, and better still, that they knew how to die for it and the holy faith. |
| Балабан, куренной атаман, скоро после него грянулся также на землю. Три смертельные раны достались ему: от копья, от пули и от тяжелого палаша. А был один из доблестнейших козаков; много совершил он под своим атаманством морских походов, но славнее всех был поход к анатольским берегам. Много набрали они тогда цехинов, дорогой турецкой габы, киндяков и всяких убранств, но мыкнули горе на обратном пути: попались, сердечные, под турецкие ядра. Как хватило их с корабля – половина челнов закружилась и перевернулась, потопивши не одного в воду, но привязанные к бокам камыши спасли челны от потопления. Балабан отплыл на всех веслах, стал прямо к солнцу и через то сделался невиден турецкому кораблю. Всю ночь потом черпаками и шапками выбирали они воду, латая пробитые места; из козацких штанов нарезали парусов, понеслись и убежали от быстрейшего турецкого корабля. И мало того что прибыли безбедно на Сечу, привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорского киевского монастыря и на Покров, что на Запорожье, оклад из чистого серебра. И славили долго потом бандуристы удачливость козаков. Поникнул он теперь головою, почуяв предсмертные муки, и тихо сказал: “Сдается мне, паны-браты, умираю хорошею смертью: семерых изрубил, девятерых копьем исколол. Истоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулею. Пусть же цветет вечно Русская земля!..” И отлетела его душа. | Balaban, hetman of a kuren, soon after fell to the ground also from a waggon. Three mortal wounds had he received from a lance, a bullet, and a sword. He had been one of the very best of Cossacks, and had accomplished a great deal as a commander on naval expeditions; but more glorious than all the rest was his raid on the shores of Anatolia. They collected many sequins, much valuable Turkish plunder, caftans, and adornments of every description. But misfortune awaited them on their way back. They came across the Turkish fleet, and were fired on by the ships. Half the boats were crushed and overturned, drowning more than one; but the bundles of reeds bound to the sides, Cossack fashion, saved the boats from completely sinking. Balaban rowed off at full speed, and steered straight in the face of the sun, thus rendering himself invisible to the Turkish ships. All the following night they spent in baling out the water with pails and their caps, and in repairing the damaged places. They made sails out of their Cossack trousers, and, sailing off, escaped from the fastest Turkish vessels. And not only did they arrive unharmed at the Setch, but they brought a gold-embroidered vesture for the archimandrite at the Mezhigorsky Monastery in Kief, and an ikon frame of pure silver for the church in honour of the Intercession of the Virgin Mary, which is in Zaporozhe. The guitar-players celebrated the daring of Balaban and his Cossacks for a long time afterwards. Now he bowed his head, feeling the pains which precede death, and said quietly, “I am permitted, brother gentles, to die a fine death. Seven have I hewn in pieces, nine have I pierced with my lance, many have I trampled upon with my horse’s hoofs; and I no longer remember how many my bullets have slain. May our Russian land flourish forever!” and his spirit fled. |
| Козаки, козаки! не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенка, уже семь человек только осталось изо всего Незамайковского куреня; уже и те отбиваются через силу; уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидя беду его, поспешил на выручку. Но поздно подоспели козаки: уже успело ему углубиться под сердце копье прежде, чем были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки подхватившим его козакам, и хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли в склянном сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулею: все разлилось на землю вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай в жизни, чтобы если приведет бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человек… Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил: “Благодарю бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!” И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. “Садись, Кукубенко, одесную меня! – скажет ему Христос, – ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь”. Всех опечалила смерть Кукубенка. Уже редели сильно козацкие ряды; многих, многих храбрых уже недосчитывались; но стояли и держались еще козаки. | Cossacks, Cossacks! abandon not the flower of your army. Already was Kukubenko surrounded, and seven men only remained of all the Nezamaikovsky kuren, exhausted and with garments already stained with their blood. Taras himself, perceiving their straits, hastened to their rescue; but the Cossacks arrived too late. Before the enemies who surrounded him could be driven off, a spear was buried just below Kukubenko’s heart. He sank into the arms of the Cossacks who caught him, and his young blood flowed in a stream, like precious wine brought from the cellar in a glass vessel by careless servants, who, stumbling at the entrance, break the rich flask. The wine streams over the ground, and the master, hastening up, tears his hair, having reserved it, in order that if God should grant him, in his old age, to meet again the comrade of his youth, they might over it recall together former days, when a man enjoyed himself otherwise and better than now. Kukubenko cast his eyes around, and said, “I thank God that it has been my lot to die before your eyes, comrades. May they live better who come after us than we have lived; and may our Russian land, beloved by Christ, flourish forever!” and his young spirit fled. The angels took it in their arms and bore it to heaven: it will be well with him there. “Sit down at my right hand, Kukubenko,” Christ will say to him: “you never betrayed your comrades, you never committed a dishonourable act, you never sold a man into misery, you preserved and defended my church.” The death of Kukubenko saddened them all. The Cossack ranks were terribly thinned. Many brave men were missing, but the Cossacks still stood their ground. |
| – А что, паны? – перекликнулся Тарас с оставшимися куренями. – Есть ли еще порох в пороховницах? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли козацкая сила? Не погнулись ли козаки? | “How now, gentles,” cried Taras to the remaining kurens: “is there still powder in your flasks? Are your swords blunted? Are the Cossack forces wearied? Have the Cossacks given way?” |
| – Достанет еще, батько, пороху! Годятся еще сабли; не утомилась козацкая сила; не погнулись еще козаки! | “There is still an abundance of powder; our swords are still sharp; the Cossack forces are not wearied, and the Cossacks have not yet yielded.” |
| И рванулись снова козаки так, как бы и потерь никаких не потерпели. Уже три только куренных атамана осталось в живых. Червонели уже всюду красные реки; высоко гатились мосты из козацких и вражьих тел. Взглянул Тарас на небо, а уж по небу потянулась вереница кречетов. Ну, будет кому-то пожива! А уж там подняли на копье Метелыцю. Уже голова другого Пысаренка, завертевшись, захлопала очами. Уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охрим Гуска. “Ну!” – сказал Тарас и махнул платком. Понял тот знак Остап и ударил сильно, вырвавшись из засады, в конницу. Не выдержали сильного напору ляхи, а он их гнал и нагнал прямо на место, где были убиты в землю копья и обломки копьев. Пошли спотыкаться и падать кони и лететь через их головы ляхи. А в это время корсунцы, стоявшие последние за возами, увидевши, что уже достанет ружейная пуля, грянули вдруг из самопалов. Все сбились и растерялись ляхи, и приободрились козаки. “Вот и наша победа!” – раздались со всех сторон запорожские голоса, затрубили в трубы и выкинули победную хоругвь. Везде бежали и крылись разбитые ляхи. “Ну, нет, еще не совсем победа!” – сказал Тарас, глядя на городские ворота, и сказал он правду. | And the Cossacks again strained every nerve, as though they had suffered no loss. Only three kuren hetmans still remained alive. Red blood flowed in streams everywhere; heaps of their bodies and of those of the enemy were piled high. Taras looked up to heaven, and there already hovered a flock of vultures. Well, there would be prey for some one. And there the foe were raising Metelitza on their lances, and the head of the second Pisarenko was dizzily opening and shutting its eyes; and the mangled body of Okhrim Guska fell upon the ground. “Now,” said Taras, and waved a cloth on high. Ostap understood this signal and springing quickly from his ambush attacked sharply. The Lyakhs could not withstand this onslaught; and he drove them back, and chased them straight to the spot where the stakes and fragments of spears were driven into the earth. The horses began to stumble and fall and the Lyakhs to fly over their heads. At that moment the Korsuntzi, who had stood till the last by the baggage waggons, perceived that they still had some bullets left, and suddenly fired a volley from their matchlocks. The Lyakhs became confused, and lost their presence of mind; and the Cossacks took courage. “The victory is ours!” rang Cossack voices on all sides; the trumpets sounded and the banner of victory was unfurled. The beaten Lyakhs ran in all directions and hid themselves. “No, the victory is not yet complete,” said Taras, glancing at the city gate; and he was right. |
| Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Под всеми всадниками были все как один бурые аргамаки. Впереди других понесся витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки; вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы. Так и оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрий. А он между тем, объятый пылом и жаром битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пес, красивейший, быстрейший и молодший всех в стае. Атукнул на него опытный охотник – и он понесся, пустив прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись набок всем телом, взрывая снег и десять раз выпереживая самого зайца в жару своего бега. Остановился старый Тарас и глядел на то, как он чистил перед собою дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и закричал: “Как?.. Своих?.. Своих, чертов сын, своих бьешь?..” Но Андрий не различал, кто пред ним был, свои или другие какие; ничего не видел он. Кудри, кудри он видел, длинные, длинные кудри, и подобную речному лебедю грудь, и снежную шею, и плечи, и все, что создано для безумных поцелуев. | The gates opened, and out dashed a hussar band, the flower of all the cavalry. Every rider was mounted on a matched brown horse from the Kabardei; and in front rode the handsomest, the most heroic of them all. His black hair streamed from beneath his brazen helmet; and from his arm floated a rich scarf, embroidered by the hands of a peerless beauty. Taras sprang back in horror when he saw that it was Andrii. And the latter meanwhile, enveloped in the dust and heat of battle, eager to deserve the scarf which had been bound as a gift upon his arm, flew on like a greyhound; the handsomest, most agile, and youngest of all the band. The experienced huntsman urges on the greyhound, and he springs forward, tossing up the snow, and a score of times outrunning the hare, in the ardour of his course. And so it was with Andrii. Old Taras paused and observed how he cleared a path before him, hewing away and dealing blows to the right and the left. Taras could not restrain himself, but shouted: “Your comrades! your comrades! you devil’s brat, would you kill your own comrades?” But Andrii distinguished not who stood before him, comrades or strangers; he saw nothing. Curls, long curls, were what he saw; and a bosom like that of a river swan, and a snowy neck and shoulders, and all that is created for rapturous kisses. |
| “Эй, хлопьята! заманите мне только его к лесу, заманите мне только его!” – кричал Тарас. И вызвалось тот же час тридцать быстрейших козаков заманить его. И, поправив на себе высокие шапки, тут же пустились на конях прямо наперерез гусарам. Ударили сбоку на передних, сбили их, отделили от задних, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватил плашмя по спине Андрия, и в тот же час пустились бежать от них, сколько достало козацкой мочи. Как вскинулся Андрий! Как забунтовала по всем жилкам молодая кровь! Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за козаками, не глядя назад, не видя, что позади всего только двадцать человек успело поспевать за ним. А козаки летели во всю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коне Андрий и чуть было уже не настигнул Голокопытенка, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрий: пред ним Тарас! Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен… | “Hey there, lads! only draw him to the forest, entice him to the forest for me!” shouted Taras. Instantly thirty of the smartest Cossacks volunteered to entice him thither; and setting their tall caps firmly spurred their horses straight at a gap in the hussars. They attacked the front ranks in flank, beat them down, cut them off from the rear ranks, and slew many of them. Golopuitenko struck Andrii on the back with his sword, and immediately set out to ride away at the top of his speed. How Andrii flew after him! How his young blood coursed through all his veins! Driving his sharp spurs into his horse’s flanks, he tore along after the Cossacks, never glancing back, and not perceiving that only twenty men at the most were following him. The Cossacks fled at full gallop, and directed their course straight for the forest. Andrii overtook them, and was on the point of catching Golopuitenko, when a powerful hand seized his horse’s bridle. Andrii looked; before him stood Taras! He trembled all over, and turned suddenly pale, |
| Так школьник, неосторожно задравши своего товарища и получивши за то от него удар линейкою по лбу, вспыхивает, как огонь, бешеный выскакивает из лавки и гонится за испуганным товарищем своим, готовый разорвать его на части; и вдруг наталкивается на входящего в класс учителя: вмиг притихает бешеный порыв и упадает бессильная ярость. Подобно ему, в один миг пропал, как бы не бывал вовсе, гнев Андрия. И видел он перед собою одного только страшного отца. | like a student who, receiving a blow on the forehead with a ruler, flushes up like fire, springs in wrath from his seat to chase his comrade, and suddenly encounters his teacher entering the classroom; in the instant his wrathful impulse calms down and his futile anger vanishes. In this wise, in an instant, Andrii’s wrath was as if it had never existed. And he beheld before him only his terrible father. |
| – Ну, что ж теперь мы будем делать? – сказал Тарас, смотря прямо ему в очи. | “Well, what are we going to do now?” said Taras, looking him straight in the eyes. |
| Но ничего не знал на то сказать Андрий и стоял, утупивши в землю очи. | But Andrii could make no reply to this, and stood with his eyes fixed on the ground. |
| – Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? | “Well, son; did your Lyakhs help you?” |
| Андрий был безответен. | Andrii made no answer. |
| – Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня! | “To think that you should be such a traitor! that you should betray your faith! betray your comrades! Dismount from your horse!” |
| Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив ни мертв перед Тарасом. | Obedient as a child, he dismounted, and stood before Taras more dead than alive. |
| – Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! – сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье. | “Stand still, do not move! I gave you life, I will also kill you!” said Taras, and, retreating a step backwards, he brought his gun up to his shoulder. |
| Бледен как полотно был Андрий; видно было, как тихо шевелились уста его и как он произносил чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьев – это было имя прекрасной полячки. Тарас выстрелил. | Andrii was white as a sheet; his lips moved gently, and he uttered a name; but it was not the name of his native land, nor of his mother, nor his brother; it was the name of the beautiful Pole. Taras fired. |
| Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова. | Like the ear of corn cut down by the reaping-hook, like the young lamb when it feels the deadly steel in its heart, he hung his head and rolled upon the grass without uttering a word. |
| Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп. Он был и мертвый прекрасен: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобедимого для жен очарованья, все еще выражало чудную красоту; черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты. | The murderer of his son stood still, and gazed long upon the lifeless body. Even in death he was very handsome; his manly face, so short a time ago filled with power, and with an irresistible charm for every woman, still had a marvellous beauty; his black brows, like sombre velvet, set off his pale features. |
| – Чем бы не козак был? – сказал Тарас, – и станом высокий, и чернобровый, и лицо как у дворянина, и рука была крепка в бою! Пропал, пропал бесславно, как подлая собака! | “Is he not a true Cossack?” said Taras; “he is tall of stature, and black-browed, his face is that of a noble, and his hand was strong in battle! He is fallen! fallen without glory, like a vile dog!” |
| – Батько, что ты сделал? Это ты убил его? – сказал подъехавший в это время Остап. | “Father, what have you done? Was it you who killed him?” said Ostap, coming up at this moment. |
| Тарас кивнул головою. | Taras nodded. |
| Пристально поглядел мертвому в очи Остап. Жалко ему стало брата, и проговорил он тут же: | Ostap gazed intently at the dead man. He was sorry for his brother, and said at once: |
| – Предадим же, батько, его честно земле, чтобы не поругались над ним враги и не растаскали бы его тела хищные птицы. | “Let us give him honourable burial, father, that the foe may not dishonour his body, nor the birds of prey rend it.” |
| – Погребут его и без нас! – сказал Тарас, – будут у него плакальщики и утешницы! | “They will bury him without our help,” said Taras; “there will be plenty of mourners and rejoicers for him.” |
| И минуты две думал он, кинуть ли его на расхищенье волкам-сыромахам или пощадить в нем рыцарскую доблесть, которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было. Как видит, скачет к нему на коне Голокопытенко: | And he reflected for a couple of minutes, whether he should fling him to the wolves for prey, or respect in him the bravery which every brave man is bound to honour in another, no matter whom? Then he saw Golopuitenko galloping towards them and crying: |
| – Беда, атаман, окрепли ляхи, прибыла на подмогу свежая сила!.. | “Woe, hetman, the Lyakhs have been reinforced, a fresh force has come to their rescue!” |
| Не успел сказать Голокопытенко, скачет Вовтузенко: | Golopuitenko had not finished speaking when Vovtuzenko galloped up: |
| – Беда, атаман, новая валит еще сила!.. | “Woe, hetman! a fresh force is bearing down upon us.” |
| Не успел сказать Вовтузенко, Пысаренко бежит бегом, уже без коня: | Vovtuzenko had not finished speaking when Pisarenko rushed up without his horse: |
| – Где ты, батьку? Ищут тебя козаки. Уж убит куренной атаман Невылычкий, Задорожний убит, Черевиченко убит. Но стоят козаки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи; хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом! | “Where are you, father? The Cossacks are seeking for you. Hetman Nevelitchkiy is killed, Zadorozhniy is killed, and Tcherevitchenko: but the Cossacks stand their ground; they will not die without looking in your eyes; they want you to gaze upon them once more before the hour of death arrives.” |
| – На коня, Остап! – сказал Тарас и спешил, чтобы застать еще козаков, чтобы поглядеть еще на них и чтобы они взглянули перед смертью на своего атамана. | “To horse, Ostap!” said Taras, and hastened to find his Cossacks, to look once more upon them, and let them behold their hetman once more before the hour of death. |
| Но не выехали они еще из лесу, а уж неприятельская сила окружила со всех сторон лес, и меж деревьями везде показались всадники с саблями и копьями. “Остап!.. Остап, не поддавайся!..” – кричал Тарас, а сам, схвативши саблю наголо, начал честить первых попавшихся на все боки. А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро; но не в добрый час, видно, наскочило: с одного полетела голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьем в ребро третьего; четвертый был поотважней, уклонился головой от пули, и попала в конскую грудь горячая пуля, – вздыбился бешеный конь, грянулся о землю и задавил под собою всадника. “Добре, сынку!.. Добре, Остап!.. – кричал Тарас. – Вот я следом за тобою!..” А сам все отбивался от наступавших. Рубится и бьется Тарас, сыплет гостинцы тому и другому на голову, а сам глядит все вперед на Остапа и видит, что уже вновь схватилось с Остапом мало не восьмеро разом. “Остап!.. Остап, не поддавайся!..” Но уж одолевают Остапа; уже один накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут Остапа. “Эх, Остап, Остап!.. – кричал Тарас, пробиваясь к нему, рубя в капусту встречных и поперечных. – Эх, Остап, Остап!..” Но как тяжелым камнем хватило его самого в ту же минуту. Все закружилось и перевернулось в глазах его. На миг смешанно сверкнули пред ним головы, копья, дым, блески огня, сучья с древесными листьями, мелькнувшие ему в самые очи. И грохнулся он, как подрубленный дуб, на землю. И туман покрыл его очи. | But before they could emerge from the wood, the enemy’s force had already surrounded it on all sides, and horsemen armed with swords and spears appeared everywhere between the trees. “Ostap, Ostap! don’t yield!” shouted Taras, and grasping his sword he began to cut down all he encountered on every side. But six suddenly sprang upon Ostap. They did it in an unpropitious hour: the head of one flew off, another turned to flee, a spear pierced the ribs of a third; a fourth, more bold, bent his head to escape the bullet, and the bullet striking his horse’s breast, the maddened animal reared, fell back upon the earth, and crushed his rider under him. “Well done, son! Well done, Ostap!” cried Taras: “I am following you.” And he drove off those who attacked him. Taras hewed and fought, dealing blows at one after another, but still keeping his eye upon Ostap ahead. He saw that eight more were falling upon his son. “Ostap, Ostap! don’t yield!” But they had already overpowered Ostap; one had flung his lasso about his neck, and they had bound him, and were carrying him away. “Hey, Ostap, Ostap!” shouted Taras, forcing his way towards him, and cutting men down like cabbages to right and left. “Hey, Ostap, Ostap!” But something at that moment struck him like a heavy stone. All grew dim and confused before his eyes. In one moment there flashed confusedly before him heads, spears, smoke, the gleam of fire, tree-trunks, and leaves; and then he sank heavily to the earth like a felled oak, and darkness covered his eyes. |
| X | X |
| – Долго же я спал! – сказал Тарас, очнувшись, как после трудного хмельного сна, и стараясь распознать окружавшие его предметы. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались пред ним стены и углы незнакомой светлицы. Наконец заметил он, что пред ним сидел Товкач, и, казалось, прислушивался но всякому его дыханию. | “I have slept a long while!” said Taras, coming to his senses, as if after a heavy drunken sleep, and trying to distinguish the objects about him. A terrible weakness overpowered his limbs. The walls and corners of a strange room were dimly visible before him. At length he perceived that Tovkatch was seated beside him, apparently listening to his every breath. |
| “Да, – подумал про себя Товкач, – заснул бы ты, может быть, и навеки! ” Но ничего не сказал, погрозил пальцем и дал знак молчать. | “Yes,” thought Tovkatch, “you might have slept forever.” But he said nothing, only shook his finger, and motioned him to be silent. |
| – Да скажи же мне, где я теперь? – спросил опять Тарас, напрягая ум и стараясь припомнить бывшее. | “But tell me where I am now?” asked Taras, straining his mind, and trying to recollect what had taken place. |
| – Молчи ж! – прикрикнул сурово на него товарищ. – Чего тебе еще хочется знать? Разве ты не видишь, что весь изрублен? Уж две недели как мы с тобою скачем не переводя духу и как ты в горячке и жару несешь и городишь чепуху. Вот в первый раз заснул покойно. Молчи ж, если не хочешь нанести сам себе беду. | “Be silent!” cried his companion sternly. “Why should you want to know? Don’t you see that you are all hacked to pieces? Here I have been galloping with you for two weeks without taking a breath; and you have been burnt up with fever and talking nonsense. This is the first time you have slept quietly. Be silent if you don’t wish to do yourself an injury.” |
| Но Тарас все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее. | But Taras still tried to collect his thoughts and to recall what had passed. |
| – Да ведь меня же схватили и окружили было совсем ляхи? Мне ж не было никакой возможности выбиться из толпы? | “Well, the Lyakhs must have surrounded and captured me. I had no chance of fighting my way clear from the throng.” |
| – Молчи ж, говорят тебе, чертова детина! – закричал Товкач сердито, как нянька, выведенная из терпенья, кричит неугомонному повесе-ребенку. – Что пользы знать тебе, как выбрался? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали, – ну, и будет с тебя! Нам еще немало ночей скакать вместе. Ты думаешь, что пошел за простого козака? Нет, твою голову оценили в две тысячи червонных. | “Be silent, I tell you, you devil’s brat!” cried Tovkatch angrily, as a nurse, driven beyond her patience, cries out at her unruly charge. “What good will it do you to know how you got away? It is enough that you did get away. Some people were found who would not abandon you; let that be enough for you. It is something for me to have ridden all night with you. You think that you passed for a common Cossack? No, they have offered a reward of two thousand ducats for your head.” |
| – А Остап? – вскрикнул вдруг Тарас, понатужился приподняться и вдруг вспомнил, как Остапа схватили и связали в глазах его и что он теперь уже в ляшских руках. | “And Ostap!” cried Taras suddenly, and tried to rise; for all at once he recollected that Ostap had been seized and bound before his very eyes, and that he was now in the hands of the Lyakhs. |
| И обняло горе старую голову. Сорвал и сдернул он все перевязки ран своих, бросил их далеко прочь, хотел громко что-то сказать – и вместо того понес чепуху; жар и бред вновь овладели им, и понеслись без толку и связи безумные речи. | Grief overpowered him. He pulled off and tore in pieces the bandages from his wounds, and threw them far from him; he tried to say something, but only articulated some incoherent words. Fever and delirium seized upon him afresh, and he uttered wild and incoherent speeches. |
| А между тем верный товарищ стоял пред ним, бранясь и рассыпая без счету жестокие уморительные слова и упреки. Наконец схватил он его за ноги и руки, спеленал, как ребенка, поправил все перевязки, увернул его в воловью кожу, увязал в лубки и, прикрепивши веревками к седлу, помчался вновь с ним в дорогу. | Meanwhile his faithful comrade stood beside him, scolding and showering harsh, reproachful words upon him without stint. Finally, he seized him by the arms and legs, wrapped him up like a child, arranged all his bandages, rolled him in an ox-hide, bound him with bast, and, fastening him with ropes to his saddle, rode with him again at full speed along the road. |
| – Хоть неживого, да довезу тебя! Не попущу, чтобы ляхи поглумились над твоей козацкою породою, на куски рвали бы твое тело да бросали его в воду. Пусть же хоть и будет орел высмыкать из твоего лоба очи, да пусть же степовой наш орел, а не ляшский, не тот, что прилетает из польской земли. Хоть неживого, а довезу тебя до Украйны! | “I’ll get you there, even if it be not alive! I will not abandon your body for the Lyakhs to make merry over you, and cut your body in twain and fling it into the water. Let the eagle tear out your eyes if it must be so; but let it be our eagle of the steppe and not a Polish eagle, not one which has flown hither from Polish soil. I will bring you, though it be a corpse, to the Ukraine!” |
| Там говорил верный товарищ. Скакал без отдыху дни и ночи и привез его, бесчувственного, в самую Запорожскую Сечь. Там принялся он лечить его неутомимо травами и смачиваньями; нашел какую-то знающую жидовку, которая месяц поила его разными снадобьями, и наконец Тарасу стало лучше. Лекарства ли или своя железная сила взяла верх, только он через полтора месяца стал на ноги; раны зажили, и только одни сабельные рубцы давали знать, как глубоко когда-то был ранен старый козак. Однако же заметно стал он пасмурен и печален. Три тяжелые морщины насунулись на лоб его и уже больше никогда не сходили с него. Оглянулся он теперь вокруг себя: все новое на Сечи, все перемерли старые товарищи. Ни одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство. И те, которые отправились с кошевым в угон за татарами, и тех уже не было давно: все положили головы, все сгибли – кто положив на самом бою честную голову, кто от безводья и бесхлебья среди крымских солончаков, кто в плену пропал, не вынесши позора; и самого прежнего кошевого уже давно не было на свете, и никого из старых товарищей; и уже давно поросла травою когда-то кипевшая козацкая сила. Слышал он только, что был пир, сильный, шумный пир: вся перебита вдребезги посуда; нигде не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги все дорогие кубки и сосуды, – и смутный стоит хозяин дома, думая:”Лучше б и не было того пира”. Напрасно старались занять и развеселить Тараса; напрасно бородатые, седые бандуристы, проходя по два и по три, расславляли его козацкие подвиги. Сурово и равнодушно глядел он на все, и на неподвижном лице его выступала неугасимая горесть, и, тихо понурив голову, говорил он: “Сын мой! Остап мой!” | Thus spoke his faithful companion. He rode without drawing rein, day and night, and brought Taras still insensible into the Zaporozhian Setch itself. There he undertook to cure him, with unswerving care, by the aid of herbs and liniments. He sought out a skilled Jewess, who made Taras drink various potions for a whole month, and at length he improved. Whether it was owing to the medicine or to his iron constitution gaining the upper hand, at all events, in six weeks he was on his feet. His wounds had closed, and only the scars of the sabre-cuts showed how deeply injured the old Cossack had been. But he was markedly sad and morose. Three deep wrinkles engraved themselves upon his brow and never more departed thence. Then he looked around him. All was new in the Setch; all his old companions were dead. Not one was left of those who had stood up for the right, for faith and brotherhood. And those who had gone forth with the Koschevoi in pursuit of the Tatars, they also had long since disappeared. All had perished. One had lost his head in battle; another had died for lack of food, amid the salt marshes of the Crimea; another had fallen in captivity and been unable to survive the disgrace. Their former Koschevoi was no longer living, nor any of his old companions, and the grass was growing over those once alert with power. He felt as one who had given a feast, a great noisy feast. All the dishes had been smashed in pieces; not a drop of wine was left anywhere; the guests and servants had all stolen valuable cups and platters; and he, like the master of the house, stood sadly thinking that it would have been no feast. In vain did they try to cheer Taras and to divert his mind; in vain did the long-bearded, grey-haired guitar-players come by twos and threes to glorify his Cossack deeds. He gazed grimly and indifferently at everything, with inappeasable grief printed on his stolid face; and said softly, as he drooped his head, “My son, my Ostap!” |
| Запорожцы собирались на морскую экспедицию. Двести челнов спущены были в Днепр, и Малая Азия видела их, с бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цветущие берега ее; видела чалмы своих магометанских обитателей раскиданными, подобно ее бесчисленным цветам, на смоченных кровию полях и плававшими у берегов. Она видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускулистых рук с черными нагайками. Запорожцы переели и переломали весь виноград; в мечетях оставили целые кучи навозу; персидские дорогие шали употребляли вместо очкуров и опоясывали ими запачканные свитки. Долго еще после находили в тех местах запорожские коротенькие люльки. Они весело плыли назад; за ними гнался десятипушечный турецкий корабль и залпом из всех орудий своих разогнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть их потонула в морских глубинах, но остальные снова собрались вместе и прибыли к устью Днепра с двенадцатью бочонками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Он уходил в луга и степи, будто бы за охотою, но заряд его оставался невыстрелянным. И, положив ружье, полный тоски, садился он на морской берег. Долго сидел он там, понурив голову и все говоря: “Остап мой! Остап мой!” Перед ним сверкало и расстилалось Черное море; в дальнем тростнике кричала чайка; белый ус его серебрился, и слеза капала одна за другою. | The Zaporozhtzi assembled for a raid by sea. Two hundred boats were launched on the Dnieper, and Asia Minor saw those who manned them, with their shaven heads and long scalp-locks, devote her thriving shores to fire and sword; she saw the turbans of her Mahometan inhabitants strewn, like her innumerable flowers, over the blood-sprinkled fields, and floating along her river banks; she saw many tarry Zaporozhian trousers, and strong hands with black hunting-whips. The Zaporozhtzi ate up and laid waste all the vineyards. In the mosques they left heaps of dung. They used rich Persian shawls for sashes, and girded their dirty gaberdines with them. Long afterwards, short Zaporozhian pipes were found in those regions. They sailed merrily back. A ten-gun Turkish ship pursued them and scattered their skiffs, like birds, with a volley from its guns. A third part of them sank in the depths of the sea; but the rest again assembled, and gained the mouth of the Dnieper with twelve kegs full of sequins. But all this did not interest Taras. He went off upon the steppe as though to hunt; but the charge remained in his gun, and, laying down the weapon, he would seat himself sadly on the shores of the sea. He sat there long with drooping head, repeating continually, “My Ostap, my Ostap!” Before him spread the gleaming Black Sea; in the distant reeds the sea-gull screamed. His grey moustache turned to silver, and the tears fell one by one upon it. |
| И не выдержал наконец Тарас. “Что бы ни было, пойду разведать, что он: жив ли он? в могиле? или уже и в самой могиле нет его? Разведаю во что бы то ни стало!” И через неделю уже очутился он в городе Умани, вооруженный, на коне, с копьем, саблей, дорожной баклагой у седла, походным горшком с саламатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочим снарядом. Он прямо подъехал к нечистому, запачканному домишке, у которого небольшие окошки едва были видны, закопченные неизвестно чем; труба заткнута была тряпкою, и дырявая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякого сору лежала пред самыми дверьми. Из окна выглядывала голова жидовки, в чепце с потемневшими жемчугами. | At last Taras could endure it no longer. “Whatever happens, I must go and find out what he is doing. Is he alive, or in the grave? I will know, cost what it may!” Within a week he found himself in the city of Ouman, fully armed, and mounted, with lance, sword, canteen, pot of oatmeal, powder horn, cord to hobble his horse, and other equipments. He went straight to a dirty, ill-kept little house, the small windows of which were almost invisible, blackened as they were with some unknown dirt. The chimney was wrapped in rags; and the roof, which was full of holes, was covered with sparrows. A heap of all sorts of refuse lay before the very door. From the window peered the head of a Jewess, in a head-dress with discoloured pearls. |
| – Муж дома? – сказал Бульба, слезая с коня и привязывая повод к железному крючку, бывшему у самых дверей. | “Is your husband at home?” said Bulba, dismounting, and fastening his horse’s bridle to an iron hook beside the door. |
| – Дома, – сказала жидовка и поспешила тот же час выйти с пшеницей в корчике для коня и стопой пива для рыцаря. | “He is at home,” said the Jewess, and hastened out at once with a measure of corn for the horse, and a stoup of beer for the rider. |
| – Где же твой жид? | “Where is your Jew?” |
| – Он в другой светлице молится, – проговорила жидовка, кланяясь и пожелав здоровья в то время, когда Бульба поднес к губам стопу. | “He is in the other room at prayer,” replied the Jewess, bowing and wishing Bulba good health as he raised the cup to his lips. |
| – Оставайся здесь, накорми и напои моего коня, а я пойду поговорю с ним один. У меня до него дело. | “Remain here, feed and water my horse, whilst I go speak with him alone. I have business with him.” |
| Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство. Тарас вошел в светлицу. Жид молился, накрывшись своим довольно запачканным саваном, и оборотился, чтобы в последний раз плюнуть, по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего напади Бульбу. Так и бросились жиду прежде всего в глаза две тысячи червонных, которые были обещаны за его голову; но он постыдился своей корысти и силился подавить в себе вечную мысль о золоте, которая, как червь, обвивает душу жида. | This Jew was the well-known Yankel. He was there as revenue-farmer and tavern-keeper. He had gradually got nearly all the neighbouring noblemen and gentlemen into his hands, had slowly sucked away most of their money, and had strongly impressed his presence on that locality. For a distance of three miles in all directions, not a single farm remained in a proper state. All were falling in ruins; all had been drunk away, and poverty and rags alone remained. The whole neighbourhood was depopulated, as if after a fire or an epidemic; and if Yankel had lived there ten years, he would probably have depopulated the Waiwode’s whole domains. Taras entered the room. The Jew was praying, enveloped in his dirty shroud, and was turning to spit for the last time, according to the forms of his creed, when his eye suddenly lighted on Taras standing behind him. The first thing that crossed Yankel’s mind was the two thousand ducats offered for his visitor’s head; but he was ashamed of his avarice, and tried to stifle within him the eternal thought of gold, which twines, like a snake, about the soul of a Jew. |
| – Слушай, Янкель! – сказал Тарас жиду, который начал перед ним кланяться и запер осторожно дверь, чтобы их не видели. – Я спас твою жизнь, – тебя бы разорвали, как собаку, запорожцы; теперь твоя очередь, теперь сделай мне услугу! | “Listen, Yankel,” said Taras to the Jew, who began to bow low before him, and as he spoke he shut the door so that they might not be seen, “I saved your life: the Zaporozhtzi would have torn you to pieces like a dog. Now it is your turn to do me a service.” |
| Лицо жида несколько поморщилось. | The Jew’s face clouded over a little. |
| – Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать? | “What service? If it is a service I can render, why should I not render it?” |
| – Не говори ничего. Вези меня в Варшаву. | “Ask no questions. Take me to Warsaw.” |
| – В Варшаву? Как в Варшаву? – сказал Янкель. Брови и плечи его поднялись вверх от изумления. | “To Warsaw? Why to Warsaw?” said the Jew, and his brows and shoulders rose in amazement. |
| – Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву. Что бы ни было, а я хочу еще раз увидеть его, сказать ему хоть одно слово. | Ask me nothing. Take me to Warsaw. I must see him once more at any cost, and say one word to him.” |
| – Кому сказать слово? | “Say a word to whom?” |
| – Ему, Остапу, сыну моему. | “To him—to Ostap—to my son.” |
| – Разве пан не слышал, что уже… | “Has not my lord heard that already—” |
| – Знаю, знаю все: за мою голову дают две тысячи червонных. Знают же, они, дурни, цену ей! Я тебе пять тысяч дам. Вот тебе две тысячи сейчас, – Бульба высыпал из кожаного гамана две тысячи червонных, – а остальные – как ворочусь. | “I know, I know all. They offer two thousand ducats for my head. They know its value, fools! I will give you five thousand. Here are two thousand on the spot,” and Bulba poured out two thousand ducats from a leather purse, |
| Жид тотчас схватил полотенце и накрыл им червонцы. | “and the rest when I return.” |
| – Ай, славная монета! Ай, добрая монета! – говорил он, вертя один червонец в руках и пробуя на зубах. – Я думаю, тот человек, у которого пан обобрал такие хорошие червонцы, и часу не прожил на свете, пошел тот же час в реку, да и утонул там после таких славных червонцев. | The Jew instantly seized a towel and concealed the ducats under it. “Ai, glorious money! ai, good money!” he said, twirling one gold piece in his hand and testing it with his teeth. “I don’t believe the man from whom my lord took these fine gold pieces remained in the world an hour longer; he went straight to the river and drowned himself, after the loss of such magnificent gold pieces.” |
| – Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не горазд на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете; вы знаете все штуки; вот для чего я пришел к тебе! Да и в Варшаве я бы сам собою ничего не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня! | “I should not have asked you, I might possibly have found my own way to Warsaw; but some one might recognise me, and then the cursed Lyakhs would capture me, for I am not clever at inventions; whilst that is just what you Jews are created for. You would deceive the very devil. You know every trick: that is why I have come to you; and, besides, I could do nothing of myself in Warsaw. Harness the horse to your waggon at once and take me.” |
| – А пан думает, что так прямо взял кобылу, запряг, да и “эй, ну пошел, сивка!”. Думает пан, что можно так, как есть, не спрятавши, везти пана? | “And my lord thinks that I can take the nag at once, and harness him, and say ‘Get up, Dapple!’ My lord thinks that I can take him just as he is, without concealing him?” |
| – Ну, так прятай, прятай как знаешь; в порожнюю бочку, что ли? | “Well, hide me, hide me as you like: in an empty cask?” |
| – Ай, ай! А пан думает, разве можно спрятать его в бочку? Пан разве не знает, что всякий подумает, что в бочке горелка? | “Ai, ai! and my lord thinks he can be concealed in an empty cask? Does not my lord know that every man thinks that every cast he sees contains brandy?” |
| – Ну, так и пусть думает, что горелка. | “Well, let them think it is brandy.” |
| – Как пусть думает, что горелка? – сказал жид и схватил себя обеими руками за пейсики и потом поднял кверху обе руки. | “Let them think it is brandy?” said the Jew, and grasped his ear-locks with both hands, and then raised them both on high. |
| – Ну, что же ты так оторопел? | “Well, why are you so frightened?” |
| – А пан разве не знает, что бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал! Там всь лакомки, ласуны: шляхтич будет бежать верст пять за бочкой, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет: “Жид не повезет порожнюю бочку; верно, тут есть что-нибудь. Схватить жида, связать жида, отобрать все деньги у жида, посадить в тюрьму жида!” Потому что все, что ни есть недоброго, все валится на жида; потому что жида всякий принимает за собаку; потому что думают, уж и не человек, коли жид. | “And does not my lord know that God has made brandy expressly for every one to sip? They are all gluttons and fond of dainties there: a nobleman will run five versts after a cask; he will make a hole in it, and as soon as he sees that nothing runs out, he will say, ‘A Jew does not carry empty casks; there is certainly something wrong. Seize the Jew, bind the Jew, take away all the Jew’s money, put the Jew in prison!’ Then all the vile people will fall upon the Jew, for every one takes a Jew for a dog; and they think he is not a man, but only a Jew.” |
| – Ну, так положи меня в воз с рыбою! | “Then put me in the waggon with some fish over me.” |
| – Не можно, пан; ей-богу, не можно. По всей Польше люди голодны теперь, как собаки: и рыбу раскрадут, и пана нащупают. | “I cannot, my lord, by heaven, I cannot: all over Poland the people are as hungry as dogs now. They will steal the fish, and feel my lord.” |
| – Так вези меня хоть на черте, только вези! | “Then take me in the fiend’s way, only take me.” |
| – Слушай, слушай, пан! – сказал жид, посунувши обшлага рукавов своих и подходя к нему с растопыренными руками. – Вот что мы сделаем. Теперь строят везде крепости и замки; из Неметчины приехали французские инженеры, а потому по дорогам везут много кирпичу и камней. Пан пусть ляжет на дне воза, а верх я закладу кирпичом. Пан здоровый и крепкий с виду, и потому ему ничего, коли будет тяжеленько; а я сделаю в возу снизу дырочку, чтобы кормить пана. | “Listen, listen, my lord!” said the Jew, turning up the ends of his sleeves, and approaching him with extended arms. “This is what we will do. They are building fortresses and castles everywhere: French engineers have come from Germany, and so a great deal of brick and stone is being carried over the roads. Let my lord lie down in the bottom of the waggon, and over him I will pile bricks. My lord is strong and well, apparently, so he will not mind if it is a little heavy; and I will make a hole in the bottom of the waggon in order to feed my lord.” |
| – Делай как хочешь, только вези! | “Do what you will, only take me!” |
| И через час воз с кирпичом выехал из Умани, запряженный в две клячи. На одной из них сидел высокий Янкель, и длинные курчавые пейсики его развевались из-под жидовского яломка по мере того, как он подпрыгивал на лошади, длинный, как верста, поставленная на дороге. | In an hour, a waggon-load of bricks left Ouman, drawn by two sorry nags. On one of them sat tall Yankel, his long, curling ear-locks flowing from beneath his Jewish cap, as he bounced about on the horse, like a verst-mark planted by the roadside. |
| XI | XI |
| В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и потому всякий мог везти, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большею частию для своего собственного удовольствия, особливо если на возу находились заманчивые для глаз предметы и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе Жидовской, потому что здесь действительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные домы, со множеством протянутых из окон жердей, увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху ощекатуренный кусок стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимою для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий, что только было у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможные удобства питать все чувства свои этою дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукою жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранное потемневшими бусами, выглядывало из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид, с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жид, остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром. | At the time when these things took place, there were as yet on the frontiers neither custom-house officials nor guards—those bugbears of enterprising people—so that any one could bring across anything he fancied. If any one made a search or inspection, he did it chiefly for his own pleasure, especially if there happened to be in the waggon objects attractive to his eye, and if his own hand possessed a certain weight and power. But the bricks found no admirers, and they entered the principal gate unmolested. Bulba, in his narrow cage, could only hear the noise, the shouts of the driver, and nothing more. Yankel, bouncing up and down on his dust-covered nag, turned, after making several detours, into a dark, narrow street bearing the names of the Muddy and also of the Jews’ street, because Jews from nearly every part of Warsaw were to be found here. This street greatly resembled a back-yard turned wrong side out. The sun never seemed to shine into it. The black wooden houses, with numerous poles projecting from the windows, still further increased the darkness. Rarely did a brick wall gleam red among them; for these too, in many places, had turned quite black. Here and there, high up, a bit of stuccoed wall illumined by the sun glistened with intolerable whiteness. Pipes, rags, shells, broken and discarded tubs: every one flung whatever was useless to him into the street, thus affording the passer-by an opportunity of exercising all his five senses with the rubbish. A man on horseback could almost touch with his hand the poles thrown across the street from one house to another, upon which hung Jewish stockings, short trousers, and smoked geese. Sometimes a pretty little Hebrew face, adorned with discoloured pearls, peeped out of an old window. A group of little Jews, with torn and dirty garments and curly hair, screamed and rolled about in the dirt. A red-haired Jew, with freckles all over his face which made him look like a sparrow’s egg, gazed from a window. He addressed Yankel at once in his gibberish, and Yankel at once drove into a court-yard. Another Jew came along, halted, and entered into conversation. When Bulba finally emerged from beneath the bricks, he beheld three Jews talking with great warmth. |
| Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но, однако ж, он надеется доставить ему свидание. | Yankel turned to him and said that everything possible would be done; that his Ostap was in the city jail, and that although it would be difficult to persuade the jailer, yet he hoped to arrange a meeting. |
| Бульба вошел с тремя жидами в комнату. | Bulba entered the room with the three Jews. |
| Жиды начали опять говорить между собою на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды – надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния; старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши. | The Jews again began to talk among themselves in their incomprehensible tongue. Taras looked hard at each of them. Something seemed to have moved him deeply; over his rough and stolid countenance a flame of hope spread, of hope such as sometimes visits a man in the last depths of his despair; his aged heart began to beat violently as though he had been a youth. |
| – Слушайте, жиды! – сказал он, и в словах его было что-то восторженное. – Вы всь на свете можете сделать, выкопаете хоть из дна морского; и пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего Остапа! Дайте случай убежать ему от дьявольских рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать тысяч червонных, – я прибавляю еще двенадцать. Все, какие у меня есть, дорогие кубки и закопанное в земле золото, хату и последнюю одежду продам и заключу с вами контракт на всю жизнь, с тем чтобы все, что ни добуду на войне, делить с вами пополам. | “Listen, Jews!” said he, and there was a triumphant ring in his words. “You can do anything in the world, even extract things from the bottom of the sea; and it has long been a proverb, that a Jew will steal from himself if he takes a fancy to steal. Set my Ostap at liberty! give him a chance to escape from their diabolical hands. I promised this man five thousand ducats; I will add another five thousand: all that I have, rich cups, buried gold, houses, all, even to my last garment, I will part with; and I will enter into a contract with you for my whole life, to give you half of all the booty I may gain in war.” |
| – О, не можно любезный пан, не можно! – сказал со вздохом Янкель. | “Oh, impossible, dear lord, it is impossible!” said Yankel with a sigh. |
| – Нет, не можно! – сказал другой жид. | “Impossible,” said another Jew. |
| Все три жида взглянули один на другого. | All three Jews looked at each other. |
| – А попробовать? – сказал третий, боязливо поглядывая на двух других, – может быть, бог даст. | “We might try,” said the third, glancing timidly at the other two. “God may favour us.” |
| Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать; он слышал только часто произносимое слово “Мардохай”, и больше ничего. | All three Jews discussed the matter in German. Bulba, in spite of his straining ears, could make nothing of it; he only caught the word “Mardokhai” often repeated. |
| – Слушай, пан! – сказал Янкель, – нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда не было на свете. У-у! то такой мудрый, как Соломон; и когда он ничего не сделает, то уж никто на свете не сделает. Сиди тут; вот ключ, и не впускай никого! | “Listen, my lord!” said Yankel. “We must consult with a man such as there never was before in the world… ugh, ugh! as wise as Solomon; and if he will do nothing, then no one in the world can. Sit here: this is the key; admit no one.” |
| Жиды вышли на улицу. | The Jews went out into the street. |
| Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посредине улицы и стали говорить довольно азартно; к ним присоединился скоро четвертый, наконец, и пятый. Он слышал опять повторяемое: “Мардохай, Мардохай”. Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы; наконец в конце ее из-за одного дрянного дома показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукафтанья. “А, Мардохай, Мардохай!” – закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромною верхнею губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв спешили рассказать ему, причем Мардохай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардохай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтанья, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший на стороже, должен был дать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, но, вспомнивши, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился. | Taras locked the door, and looked out from the little window upon the dirty Jewish street. The three Jews halted in the middle of the street and began to talk with a good deal of warmth: a fourth soon joined them, and finally a fifth. Again he heard repeated, “Mardokhai, Mardokhai!” The Jews glanced incessantly towards one side of the street; at length from a dirty house near the end of it emerged a foot in a Jewish shoe and the skirts of a caftan. “Ah! Mardokhai, Mardokhai!” shouted the Jews in one voice. A thin Jew somewhat shorter than Yankel, but even more wrinkled, and with a huge upper lip, approached the impatient group; and all the Jews made haste to talk to him, interrupting each other. During the recital, Mardokhai glanced several times towards the little window, and Taras divined that the conversation concerned him. Mardokhai waved his hands, listened, interrupted, spat frequently to one side, and, pulling up the skirts of his caftan, thrust his hand into his pocket and drew out some jingling thing, showing very dirty trousers in the operation. Finally all the Jews set up such a shouting that the Jew who was standing guard was forced to make a signal for silence, and Taras began to fear for his safety; but when he remembered that Jews can only consult in the street, and that the demon himself cannot understand their language, he regained his composure. |
| Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату. Мардохай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал: “Когда мы да бог захочем сделать, то уже будет так, как нужно”. | Two minutes later the Jews all entered the room together. Mardokhai approached Taras, tapped him on the shoulder, and said, “When we set to work it will be all right.” |
| Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете, и получил некоторую надежду. Действительно, вид его мог внушить некоторое доверие: верхняя губа у него была просто страшилище; толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних причин. В бороде у этого Соломона было только пятнадцать волосков, и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удальство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна. | Taras looked at this Solomon whom the world had never known and conceived some hope: indeed, his face might well inspire confidence. His upper lip was simply an object of horror; its thickness being doubtless increased by adventitious circumstances. This Solomon’s beard consisted only of about fifteen hairs, and they were on the left side. Solomon’s face bore so many scars of battle, received for his daring, that he had doubtless lost count of them long before, and had grown accustomed to consider them as birthmarks. |
| Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении: он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий как дуб; он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он, наконец, весь день; не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец уже ввечеру поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло. | Mardokhai departed, accompanied by his comrades, who were filled with admiration at his wisdom. Bulba remained alone. He was in a strange, unaccustomed situation for the first time in his life; he felt uneasy. His mind was in a state of fever. He was no longer unbending, immovable, strong as an oak, as he had formerly been: but felt timid and weak. He trembled at every sound, at every fresh Jewish face which showed itself at the end of the street. In this condition he passed the whole day. He neither ate nor drank, and his eye never for a moment left the small window looking on the street. Finally, late at night, Mardokhai and Yankel made their appearance. Taras’s heart died within him. |
| – Что? удачно? – спросил он их с нетерпением дикого коня. | “What news? have you been successful?” he asked with the impatience of a wild horse. |
| Но прежде еще, нежели жиды собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже не было последнего локона, который хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под яломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку во рту, как будто бы страдал простудою. | But before the Jews had recovered breath to answer, Taras perceived that Mardokhai no longer had the locks, which had formerly fallen in greasy curls from under his felt cap. It was evident that he wished to say something, but he uttered only nonsense which Taras could make nothing of. Yankel himself put his hand very often to his mouth as though suffering from a cold. |
| – О, любезный пан! – сказал Янкель, – теперь совсем не можно! Ей-богу, не можно! Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардохай скажет. Мардохай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете; но бог не захотел, чтобы так было. Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить. | “Oh, dearest lord!” said Yankel: “it is quite impossible now! by heaven, impossible! Such vile people that they deserve to be spit upon! Mardokhai here says the same. Mardokhai has done what no man in the world ever did, but God did not will that it should be so. Three thousand soldiers are in garrison here, and to-morrow the prisoners are all to be executed.” |
| Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева. | Taras looked the Jew straight in the face, but no longer with impatience or anger. |
| – А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и один левентарь обещался. Только пусть им не будет на том свете счастья! Ой, вей мир! Что это за корыстный народ! И между нами таких нет: пятьдесят червонцев я дал каждому, а левентарю… | “But if my lord wishes to see his son, then it must be early to-morrow morning, before the sun has risen. The sentinels have consented, and one gaoler has promised. But may he have no happiness in the world, woe is me! What greedy people! There are none such among us: I gave fifty ducats to each sentinel and to the gaoler.” |
| – Хорошо. Веди меня к нему! – произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его душу. | “Good. Take me to him!” exclaimed Taras, with decision, and with all his firmness of mind restored. |
| Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли, для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какою-то рогожею, и разостлал его на лавке для Бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полукафтанье и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своею жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал; он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцами по столу; он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля. | He agreed to Yankel’s proposition that he should disguise himself as a foreign count, just arrived from Germany, for which purpose the prudent Jew had already provided a costume. It was already night. The master of the house, the red-haired Jew with freckles, pulled out a mattress covered with some kind of rug, and spread it on a bench for Bulba. Yankel lay upon the floor on a similar mattress. The red-haired Jew drank a small cup of brandy, took off his caftan, and betook himself—looking, in his shoes and stockings, very like a lean chicken—with his wife, to something resembling a cupboard. Two little Jews lay down on the floor beside the cupboard, like a couple of dogs. But Taras did not sleep; he sat motionless, drumming on the table with his fingers. He kept his pipe in his mouth, and puffed out smoke, which made the Jew sneeze in his sleep and pull his coverlet over his nose. Scarcely was the sky touched with the first faint gleams of dawn than he pushed Yankel with his foot, saying: |
| – Вставай, жид, и давай твою графскую одежду. | “Rise, Jew, and give me your count’s dress!” |
| В минуту оделся он; вычернил усы, брови, надел на темя маленькую темную шапочку, – и никто бы из самых близких к нему козаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более тридцати пяти лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему. | In a moment he was dressed. He blackened his moustache and eyebrows, put on his head a small dark cap; even the Cossacks who knew him best would not have recognised him. Apparently he was not more than thirty-five. A healthy colour glowed on his cheeks, and his scars lent him an air of command. The gold-embroidered dress became him extremely well. |
| Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с коробкою в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной стороны его выкидывалась, как шея аиста, длинная узкая башня, на верху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей: тут были и казармы, и тюрьмы, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы, или крытого двора. Около тысячи человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал: | The streets were still asleep. Not a single one of the market folk as yet showed himself in the city, with his basket on his arm. Yankel and Bulba made their way to a building which presented the appearance of a crouching stork. It was large, low, wide, and black; and on one side a long slender tower like a stork’s neck projected above the roof. This building served for a variety of purposes; it was a barrack, a jail, and the criminal court. The visitors entered the gate and found themselves in a vast room, or covered courtyard. About a thousand men were sleeping here. Straight before them was a small door, in front of which sat two sentries playing at some game which consisted in one striking the palm of the other’s hand with two fingers. They paid little heed to the new arrivals, and only turned their heads when Yankel said, |
| – Это мы; слышите, паны? это мы. | “It is we, sirs; do you hear? it is we.” |
| – Ступайте! – говорил один из них, отворяя одною рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов. | “Go in!” said one of them, opening the door with one hand, and holding out the other to his comrade to receive his blows. |
| Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху. | They entered a low and dark corridor, which led them to a similar room with small windows overhead. |
| – Кто идет? – закричало несколько голосов; и Тарас увидел порядочное количество гайдуков в полном вооружении. – Нам никого не велено пускать. | “Who goes there?” shouted several voices, and Taras beheld a number of warriors in full armour. “We have been ordered to admit no one.” |
| – Это мы! – кричал Янкель. – Ей-богу, мы, ясные паны. | “It is we!” cried Yankel; “we, by heavens, noble sirs!” |
| Но никто не хотел слушать. К счастию, в это время подошел какой-то толстяк, который по всем приметам казался начальником, потому что ругался сильнее всех. | ” But no one would listen to him. Fortunately, at that moment a fat man came up, who appeared to be a commanding officer, for he swore louder than all the others. |
| – Пан, это ж мы, вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить. | “My lord, it is we! you know us, and the lord count will thank you.” |
| – Пропустите, сто дьяблов чертовой матке! И больше никого не пускайте! Да саблей чтобы никто не скидал и не собачился на полу… | “Admit them, a hundred fiends, and mother of fiends! Admit no one else. And no one is to draw his sword, nor quarrel.” |
| Продолжения красноречивого приказа уже не слышали наши путники. | The conclusion of this order the visitors did not hear. |
| – Это мы… это я… это свои! – говорил Янкель, встречаясь со всяким. | “It is we, it is I, it is your friends!” Yankel said to every one they met. |
| – А что, можно теперь? – спросил он одного из стражей, когда они наконец подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался. | “Well, can it be managed now?” he inquired of one of the guards, when they at length reached the end of the corridor. |
| – Можно; только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна: вместо его стоит другой, – отвечал часовой. | “It is possible, but I don’t know whether you will be able to gain admission to the prison itself. Yana is not here now; another man is keeping watch in his place,” replied the guard. |
| – Ай, ай! – произнес тихо жид. – Это скверно, любезный пан! | “Ai, ai!” cried the Jew softly: “this is bad, my dear lord!” |
| – Веди! – произнес упрямо Тарас. | “Go on!” said Taras, firmly, |
| Жид повиновался. | and the Jew obeyed. |
| У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота. | At the arched entrance of the vaults stood a heyduke, with a moustache trimmed in three layers: the upper layer was trained backwards, the second straight forward, and the third downwards, which made him greatly resemble a cat. |
| < < < | > > > |
| Двуязычный текст, подготовленный Akirill.com , размещенные на сайте Akirill.com 17 июня 2022 года. 2022 года. Каждую из книг (на английском или русском языках) можно забрать отдельно и повторно использовать в личных и некоммерческих целях. Они свободны от авторского права. При любом совместном использовании двух книг должно быть указано их происхождение https://www.Akirill.com | Bilingual text prepared by Akirill.com , deposited on the site Akirill.com on June 17, 2022. Each of the books (English or French) can be taken back separately and reused for personal and non-commercial purposes. They are free of copyright. Any use of the two books side by side must mention their origin https://www.Akirill.com |
Taras Bulba , by Nikolai Vasilievich Gogol
| If you liked this page, don’t forget to like and share. Si vous avez aimé cette page, n’oublier pas d’aimer et de partager. |
| Subscribe to not miss anything Abonnez-vous pour ne rien manquer |
| Check out our latest posts |
| Découvrez nos derniers articles |