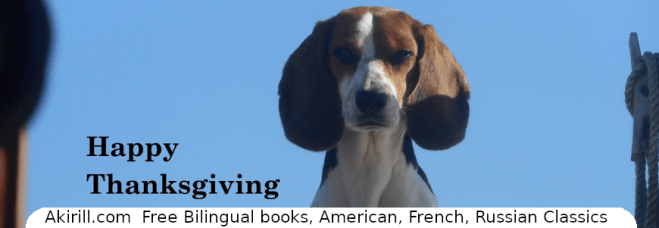Это не дословный перевод, а книга на двух языках, вышедшие бок о бок. Вы можете прочитать его на русском, английском или на обоих языках.
This is not a word-by-word translation but the books in the two languages put side by side. You can read it in Russian, in English or both.
Тарас Бульба (Николай Гоголь)
| Тарас Бульба (Николай Гоголь) | Taras Bulba , by Nikolai Vasilievich Gogol |
| < < < | > > > |
| Page 3 | Page 3 |
| Но она молчала, не отнимала платка от лица своего и оставалась неподвижна. Akirill.com | But she still kept silence, never taking the kerchief from her face, and remaining motionless. |
| – Отчего же ты так печальна? Скажи мне, отчего ты так печальна? | “Why are you so sad? Tell me, why are you so sad?” |
| Бросила прочь она от себя платок, отдернула налезавшие на очи длинные волосы косы своей и вся разлилася в жалостных речах, выговаривая их тихим-тихим голосом, подобно когда ветер, поднявшись прекрасным вечером, пробежит вдруг по густой чаще приводного тростника: зашелестят, зазвучат и понесутся вдруг унывно-тонкие звуки, и ловит их с непонятной грустью остановившийся путник, не чуя ни погасающего вечера, ни несущихся веселых песен народа, бредущего от полевых работ и жнив, ни отдаленного тарахтанья где-то проезжающей телеги. | She cast away the handkerchief, pushed aside the long hair which fell over her eyes, and poured out her heart in sad speech, in a quiet voice, like the breeze which, rising on a beautiful evening, blows through the thick growth of reeds beside the stream. They rustle, murmur, and give forth delicately mournful sounds, and the traveller, pausing in inexplicable sadness, hears them, and heeds not the fading light, nor the gay songs of the peasants which float in the air as they return from their labours in meadow and stubble-field, nor the distant rumble of the passing waggon. |
| – Не достойна ли я вечных сожалений? Не несчастна ли мать, родившая меня на свет? Не горькая ли доля пришлась на часть мне? Не лютый ли ты изо всего шляхетства, богатейших панов, графов и иноземных баронов и все, что ни есть цвет нашего рыцарства. Всем им было вольно любить меня, и за великое благо всякий из них почел бы любовь мою. Стоило мне только махнуть рукой, и любой из них, красивейший, прекраснейший лицом и породою, стал бы моим супругом. И ни к одному из них не причаровала ты моего сердца, свирепая судьба моя; а причаровала мое сердце, мимо лучших витязей земли нашей, к чуждому, к врагу нашему. За что же ты, пречистая божья матерь, за какие грехи, за какие тяжкие преступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня? В изобилии и роскошном избытке всего текли дни мои; лучшие, дорогие блюда и сладкие вина были мне снедью. И на что все это было? к чему оно все было? К тому ли, чтобы наконец умереть лютою смертью, какой не умирает последний нищий в королевстве? И мало того, что осуждена я на такую страшную участь; мало того, что перед концом своим должна видеть, как станут умирать в невыносимых муках отец и мать, для спасенья которых двадцать раз готова бы была отдать жизнь свою; мало всего этого: нужно, чтобы перед концом своим мне довелось увидать и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы он речами своими разодрал на части мое сердце, чтобы горькая моя участь была еще горше, чтобы еще жалче было мне моей молодой жизни, чтобы еще страшнее казалась мне смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя – прости мое прегрешение, – святая божья матерь! | “Am not I worthy of eternal pity? Is not the mother that bore me unhappy? Is it not a bitter lot which has befallen me? Art not thou a cruel executioner, fate? Thou has brought all to my feet—the highest nobles in the land, the richest gentlemen, counts, foreign barons, all the flower of our knighthood. All loved me, and any one of them would have counted my love the greatest boon. I had but to beckon, and the best of them, the handsomest, the first in beauty and birth would have become my husband. And to none of them didst thou incline my heart, O bitter fate; but thou didst turn it against the noblest heroes of our land, and towards a stranger, towards our enemy. O most holy mother of God! for what sin dost thou so pitilessly, mercilessly, persecute me? In abundance and superfluity of luxury my days were passed, the richest dishes and the sweetest wine were my food. And to what end was it all? What was it all for? In order that I might at last die a death more cruel than that of the meanest beggar in the kingdom? And it was not enough that I should be condemned to so horrible a fate; not enough that before my own end I should behold my father and mother perish in intolerable torment, when I would have willingly given my own life twenty times over to save them; all this was not enough, but before my own death I must hear words of love such as I had never before dreamed of. It was necessary that he should break my heart with his words; that my bitter lot should be rendered still more bitter; that my young life should be made yet more sad; that my death should seem even more terrible; and that, dying, I should reproach thee still more, O cruel fate! and thee—forgive my sin—O holy mother of God!” |
| И когда затихла она, безнадежное, безнадежное чувство отразилось в лице ее; ноющею грустью заговорила всякая черта его, и все, от печально поникшего лба и опустившихся очей до слез, застывших и засохнувших по тихо пламеневшим щекам ее, – все, казалось, говорило: “Нет счастья на лице сем!” | As she ceased in despair, her feelings were plainly expressed in her face. Every feature spoke of gnawing sorrow and, from the sadly bowed brow and downcast eyes to the tears trickling down and drying on her softly burning cheeks, seemed to say, “There is no happiness in this face.” Akirill.com |
| – Не слыхано на свете, не можно, не быть тому, – говорил Андрий, – чтобы красивейшая и лучшая из жен понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы пред ней, как пред святыней, преклонилось все, что ни есть лучшего на свете. Нет, ты не умрешь! Не тебе умирать! Клянусь моим рождением и всем, что мне мило на свете, ты не умрешь! Если же выйдет уже так и ничем – ни силой, ни молитвой, ни мужеством – нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе; и прежде я умру, умру перед тобой, у твоих прекрасных коленей, и разве уже мертвого меня разлучат с тобою. | “Such a thing was never heard of since the world began. It cannot be,” said Andrii, “that the best and most beautiful of women should suffer so bitter a fate, when she was born that all the best there is in the world should bow before her as before a saint. No, you will not die, you shall not die! I swear by my birth and by all there is dear to me in the world that you shall not die. But if it must be so; if nothing, neither strength, nor prayer, nor heroism, will avail to avert this cruel fate—then we will die together, and I will die first. I will die before you, at your beauteous knees, and even in death they shall not divide us.” |
| – Не обманывай, рыцарь, и себя и меня, – говорила она, качая тихо прекрасной головой своей, – знаю и, к великому моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня; и знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы – враги тебе. | “Deceive not yourself and me, noble sir,” she said, gently shaking her beautiful head; “I know, and to my great sorrow I know but too well, that it is impossible for you to love me. I know what your duty is, and your faith. Your father calls you, your comrades, your country, and we are your enemies.” |
| – А что мне отец, товарищи и отчизна! – сказал Андрий, встряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой, как надречная осокорь, стан свой. – Так если ж так, так вот что: нет у меня никого! Никого, никого! – пввторил он тем же голосом и сопроводив его тем движеньем руки, с каким упругий, несокрушимый козак выражает решимость на дело, неслыханное и невозможное для другого. – Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя – ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь из козаков вырвет ее оттуда! И все, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну! | “And what are my father, my comrades, my country to me?” said Andrii, with a quick movement of his head, and straightening up his figure like a poplar beside the river. “Be that as it may, I have no one, no one!” he repeated, with that movement of the hand with which the Cossack expresses his determination to do some unheard-of deed, impossible to any other man. “Who says that the Ukraine is my country? Who gave it to me for my country? Our country is the one our soul longs for, the one which is dearest of all to us. My country is—you! That is my native land, and I bear that country in my heart. I will bear it there all my life, and I will see whether any of the Cossacks can tear it thence. And I will give everything, barter everything, I will destroy myself, for that country!” |
| На миг остолбенев, как прекрасная статуя, смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала, и с чудною женскою стремительностью, на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение, кинулась она к нему на шею, обхватив его снегоподобными, чудными руками, и зарыдала. В это время раздались на улице неясные крики, сопровожденные трубным и литаврным звуком. Но он не слышал их. Он слышал только, как чудные уста обдавали его благовонной теплотой своего дыханья, как слезы ее текли ручьями к нему на лицо и спустившиеся все с головы пахучие ее волосы опутали его всего своим темным и блистающим шелком. | Astounded, she gazed in his eyes for a space, like a beautiful statue, and then suddenly burst out sobbing; and with the wonderful feminine impetuosity which only grand-souled, uncalculating women, created for fine impulses of the heart, are capable of, threw herself upon his neck, encircling it with her wondrous snowy arms, and wept. At that moment indistinct shouts rang through the street, accompanied by the sound of trumpets and kettledrums; but he heard them not. He was only conscious of the beauteous mouth bathing him with its warm, sweet breath, of the tears streaming down his face, and of her long, unbound perfumed hair, veiling him completely in its dark and shining silk. |
| В это время вбежала к ним с радостным криком татарка. | At that moment the Tatar ran in with a cry of joy. |
| – Спасены, спасены! – кричала она, не помня себя. – Наши вошли в город, привезли хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев. | “Saved, saved!” she cried, beside herself. “Our troops have entered the city. They have brought corn, millet, flour, and Zaporozhtzi in chains!” |
| Но не слышал никто из них, какие “наши” вошли в город, что привезли с собою и каких связали запорожцев. Полный не на земле вкушаемых чувств, Андрий поцеловал в сии благовонные уста, прильнувшие к щеке его, и небезответны были благовонные уста. Они отозвались тем же, и в сем обоюднос- лиянном поцелуе ощутилось то, что один только раз в жизни дается чувствовать человеку. | But no one heard that “our troops” had arrived in the city, or what they had brought with them, or how they had bound the Zaporozhtzi. Filled with feelings untasted as yet upon earth, Andrii kissed the sweet mouth which pressed his cheek, and the sweet mouth did not remain unresponsive. In this union of kisses they experienced that which it is given to a man to feel but once on earth. Akirill.com |
| И погиб козак! Пропал для всего козацкого рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих, ни церкви божьей! Украйне не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее. Вырвет старый Тарас седой клок волос из своей чуприны и проклянет и день и час, в который породил на позор себе такого сына. | And the Cossack was ruined. He was lost to Cossack chivalry. Never again will Zaporozhe, nor his father’s house, nor the Church of God, behold him. The Ukraine will never more see the bravest of the children who have undertaken to defend her. Old Taras may tear the grey hair from his scalp-lock, and curse the day and hour in which such a son was born to dishonour him. |
| VII | VII |
| Шум и движение происходили в запорожском таборе. Сначала никто не мог дать верного отчета, как случилось, что войска прошли в город. Потом уже оказалось, что весь Переяславский курень, расположившийся перед боковыми городскими воротами, был пьян мертвецки; стало быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана прежде, чем все могли узнать, в чем дело. Покамест ближние курени, разбуженные шумом, успели схватиться за оружие, войско уже уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устремившихся на них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся запорожцев. Кошевой дал приказ собраться всем, и когда все стали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал: | Noise and movement were rife in the Zaporozhian camp. At first, no one could account for the relieving army having made its way into the city; but it afterwards appeared that the Pereyaslavsky kuren, encamped before the wide gate of the town, had been dead drunk. It was no wonder that half had been killed, and the other half bound, before they knew what it was all about. Meantime the neighbouring kurens, aroused by the tumult, succeeded in grasping their weapons; but the relieving force had already passed through the gate, and its rear ranks fired upon the sleepy and only half-sober Zaporozhtzi who were pressing in disorder upon them, and kept them back. |
| – Так вот что, панове-братове, случилось в эту ночь. Вот до чего довел хмель! Вот какое поруганье оказал нам неприятель! У вас, видно, уже такое заведение: коли позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христова воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начихает, так вы того не услышите. | The Koschevoi ordered a general assembly; and when all stood in a ring and had removed their caps and became quiet, he said: “See what happened last night, brother gentles! See what drunkenness has led to! See what shame the enemy has put upon us! It is evident that, if your allowances are kindly doubled, then you are ready to stretch out at full length, and the enemies of Christ can not only take your very trousers off you, but sneeze in your faces without your hearing them!” |
| Козаки все стояли понурив головы, зная вину; один только незамайковский куренной атаман Кукубенко отозвался. | The Cossacks all stood with drooping heads, knowing that they were guilty; only Kukubenko, the hetman of the Nezamisky kuren, answered back. |
| – Постой, батько! – сказал он. – Хоть оно и не в законе, чтобы сказать какое возражение, когда говорит кошевой перед лицом всего войска, да дело не так было, так нужно сказать. Ты не совсем справедливо попрекнул все христианское войско. Козаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной, тяжкой работе. Но мы сидели без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского воздержанья не было: как же может статься, чтобы на безделье не напился человек? Греха тут нет. А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пят не унесут домой. | “Stop, father!” said he; “although it is not lawful to make a retort when the Koschevoi speaks before the whole army, yet it is necessary to say that that was not the state of the case. You have not been quite just in your reprimand. The Cossacks would have been guilty, and deserving of death, had they got drunk on the march, or when engaged on heavy toilsome labour during war; but we have been sitting here unoccupied, loitering in vain before the city. There was no fast or other Christian restraint; how then could it be otherwise than that a man should get drunk in idleness? There is no sin in that. But we had better show them what it is to attack innocent people. They first beat us well, and now we will beat them so that not half a dozen of them will ever see home again.” |
| Речь куренного атамана понравилась козакам. Они приподняли уже совсем было понурившиеся головы, и многие одобрительно кивнули головой, промолвивши: “Добре сказал Кукубенко!” А Тарас Бульба, стоявший недалеко от кошевого, сказал: | The speech of the hetman of the kuren pleased the Cossacks. They raised their drooping heads upright and many nodded approvingly, muttering, “Kukubenko has spoken well!” And Taras Bulba, who stood not far from the Koschevoi, said: |
| – А что, кошевой, видно Кукубенко правду сказал? Что ты скажешь на это? | “How now, Koschevoi? Kukubenko has spoken truth. What have you to say to this?” |
| – А что скажу? Скажу: блажен и отец, родивший такого сына! Еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но бо’льшая мудрость сказать такое слово, которое бы, не поругавшись над бедою человека, ободрило бы его, придало бы духу ему, как шпоры придают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко догадался прежде. | “What have I to say? I say, Blessed be the father of such a son! It does not need much wisdom to utter words of reproof; but much wisdom is needed to find such words as do not embitter a man’s misfortune, but encourage him, restore to him his spirit, put spurs to the horse of his soul, refreshed by water. I meant myself to speak words of comfort to you, but Kukubenko has forestalled me.” |
| “Добре сказал и кошевой!” – отозвалось в рядах запорожцев. “Доброе слово!” – повторили другие. И самые седые, стоявшие, как сизые голуби, и те кивнули головою и, моргнувши седым усом, тихо сказали: “Добре сказанное слово!” | “The Koschevoi has also spoken well!” rang through the ranks of the Zaporozhtzi. “His words are good,” repeated others. And even the greyheads, who stood there like dark blue doves, nodded their heads and, twitching their grey moustaches, muttered softly, “That was well said.” |
| – Слушайте же, панове! – продолжал кошевой. – Брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные, немецкие мастера, – пусть ей враг прикинется! – и неприлично, и не козацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с большим запасом; телег что-то было с ним немного. Народ в городе голодный; стало быть, все съест духом, да и коням тоже сена… уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой… только про это еще бог знает; а ксендзы-то их горазды на одни слова. За тем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами пять куреней, перед другими по три куреня. Дядькивский и Корсунский курень на засаду! Полковник Тарас с полком на засаду! Тытаревский и Тымошевский курень на запас, с правого бока обоза! Щербиновский и Стебликивский верхний – с левого боку! Да выбирайтесь из ряду, молодцы, которые позубастее на слово, задирать неприятеля! У ляха пустоголовая натура: брани не вытерпит; и, может быть, сегодня же все они выйдут из ворот. Куренные атаманы, перегляди всякий курень свой: у кого недочет, пополни его останками Переяславского. Перегляди всь снова! Дать на опохмел всем по чарке и по хлебу на козака! Только, верно, всякий еще вчерашним сыт, ибо, некуда деть правды, понаедались все так, что дивлюсь, как ночью никто не лопнул. Да вот еще один наказ: если кто-нибудь, шинкарь, жид, продаст козаку хоть один кухоль сивухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо, собаке, и повешу ногами вверх! За работу же, братцы! За работу! | “Listen now, gentles,” continued the Koschevoi. “To take the city, by scaling its walls, or undermining them as the foreign engineers do, is not proper, not Cossack fashion. But, judging from appearances, the enemy entered the city without many provisions; they had not many waggons with them. The people in the city are hungry; they will all eat heartily, and the horses will soon devour the hay. I don’t know whether their saints will fling them down anything from heaven with hayforks; God only knows that though there are a great many Catholic priests among them. By one means or another the people will seek to leave the city. Divide yourselves, therefore, into three divisions, and take up your posts before the three gates; five kurens before the principal gate, and three kurens before each of the others. Let the Dadikivsky and Korsunsky kurens go into ambush and Taras and his men into ambush too. The Titarevsky and Timoschevsky kurens are to guard the baggage train on the right flank, the Scherbinovsky and Steblikivsky on the left, and to select from their ranks the most daring young men to face the foe. The Lyakhs are of a restless nature and cannot endure a siege, and perhaps this very day they will sally forth from the gates. Let each hetman inspect his kuren; those whose ranks are not full are to be recruited from the remains of the Pereyaslavsky kuren. Inspect them all anew. Give a loaf and a beaker to each Cossack to strengthen him. But surely every one must be satiated from last night; for all stuffed themselves so that, to tell the truth, I am only surprised that no one burst in the night. And here is one further command: if any Jew spirit-seller sells a Cossack so much as a single jug of brandy, I will nail pig’s ears to his very forehead, the dog, and hang him up by his feet. To work, brothers, to work!” |
| Так распоряжал кошевой, и все поклонились ему в пояс и, не надевая шапок, отправились по своим возам и таборам и, когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки. Все начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши, насыпали порох из мешков в пороховницы, откатывали и становили возы и выбирали коней. | Thus did the Koschevoi give his orders. All bowed to their girdles, and without putting on their caps set out for their waggons and camps. It was only when they had gone some distance that they covered themselves. All began to equip themselves: they tested their swords, poured powder from the sacks into their powder-flasks, drew up and arranged the waggons, and looked to their horses. |
| Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда девался Андрий: полонили ли его вместе с другими и связали сонного? Только нет, не таков Андрий, чтобы отдался живым в плен. Между убитыми козаками тоже не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед полком, не слыша, что его давно называл кто-то по имени. | On his way to his band, Taras wondered what had become of Andrii; could he have been captured and found while asleep with the others? But no, Andrii was not the man to go alive into captivity. Yet he was not to be seen among the slaughtered Cossacks. Taras pondered deeply and went past his men without hearing that some one had for some time been calling him by name. |
| – Кому нужно меня? – сказал он, наконец очнувшись. | “Who wants me?” he said, finally arousing himself from his reflections. |
| Перед ним стоял жид Янкель. | Before him stood the Jew, Yankel. |
| – Пан полковник, пан полковник! – говорил жид поспешным и прерывистым голосом, как будто бы хотел объявить дело не совсем пустое. – Я был в городе, пан полковник! | “Lord colonel! lord colonel!” said the Jew in a hasty and broken voice, as though desirous of revealing something not utterly useless, “I have been in the city, lord colonel!” |
| Тарас посмотрел на жида и подивился тому, что он уже успел побывать в городе. | Taras looked at the Jew, and wondered how he had succeeded in getting into the city. |
| – Какой же враг тебя занес туда? | “What enemy took you there?” |
| – Я сейчас расскажу, – сказал Янкель. – Как только услышал я на заре шум и козаки стали стрелять, я ухватил кафтан и, не надевая его, побежал туда бегом; дорогою уже надел его в рукава, потому что хотел поскорей узнать, отчего шум, отчего козаки на самой заре стали стрелять. Я взял и прибежал к самым городским воротам, в то время, когда последнее войско входило в город. Гляжу – впереди отряда пан хорунжий Галяндович. Он человек мне знакомый: еще с третьего года задолжал сто червонных. Я за ним, будто бы затем, чтобы выправить с него долг, и вошел вместе с ними в город. | “I will tell you at once,” said Yankel. “As soon as I heard the uproar this morning, when the Cossacks began to fire, I seized my caftan and, without stopping to put it on, ran at the top of my speed, thrusting my arms in on the way, because I wanted to know as soon as possible the cause of the noise and why the Cossacks were firing at dawn. I ran to the very gate of the city, at the moment when the last of the army was passing through. I looked, and in command of the rearguard was Cornet Galyandovitch. He is a man well known to me; he has owed me a hundred ducats these three years past. I ran after him, as though to claim the debt of him, and so entered the city with them.” |
| – Как же ты: вошел в город, да еще и долг хотел выправить? – сказал Бульба. – И не велел он тебя тут же повесить, как собаку? | “You entered the city, and wanted him to settle the debt!” said Bulba; “and he did not order you to be hung like a dog on the spot?” |
| – А ей-богу, хотел повесить, – отвечал жид, – уже было его слуги совсем схватили меня и закинули веревку на шею, но взмолился пану, сказал, что подожду долгу, сколько пан хочет, и пообещал еще дать взаймы, как только поможет мне собрать долги с других рыцарей; ибо у пана хорунжего – я все скажу пану – нет и одного червонного в кармане. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самого Шклова, а грошей у него так, как у козака, – ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его бреславские жиды, не в чем было бы ему и на войну выехать. Он и на сейме оттого не был. | “By heavens, he did want to hang me,” replied the Jew; “his servants had already seized me and thrown a rope about my neck. But I besought the noble lord, and said that I would wait for the money as long as his lordship liked, and promised to lend him more if he would only help me to collect my debts from the other nobles; for I can tell my lord that the noble cornet had not a ducat in his pocket, although he has farms and estates and four castles and steppe-land that extends clear to Schklof; but he has not a penny, any more than a Cossack. If the Breslau Jews had not equipped him, he would never have gone on this campaign. That was the reason he did not go to the Diet.” |
| – Что ж ты делал в городе? Видел наших? | “What did you do in the city? Did you see any of our people?” |
| – Как же! Наших там много: Ицка, Рахум, Самуйло, Хайвалох, еврей-арендатор… | “Certainly, there are many of them there: Itzok, Rachum, Samuel, Khaivalkh, Evrei the pawnbroker—” |
| – Пропади они, собаки! – вскрикнул, рассердившись, Тарас. – Что ты мне тычешь свое жидовское племя! Я тебя спрашиваю про наших запорожцев. | “May they die, the dogs!” shouted Taras in a rage. “Why do you name your Jewish tribe to me? I ask you about our Zaporozhtzi.” |
| – Наших запорожцев не видал. А видал одного пана Андрия. | “I saw none of our Zaporozhtzi; I saw only Lord Andrii.” |
| – Андрия видел? – вскрикнул Бульба. – Что ж ты, где видел его? в подвале? в яме? обесчещен? связан? | “You saw Andrii!” shouted Bulba. “What is he doing? Where did you see him? In a dungeon? in a pit? dishonoured? bound?” |
| – Кто же бы смел связать пана Андрия? Теперь он такой важный рыцар ь… Далибуг, я не узнал! И наплечники в золоте, и нарукавники в золоте, и зерцало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и все золото. Так, как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая пташка пищит и поет и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте. И коня дал ему воевода самого лучшего под верх; два ста червонных стоит один конь. | “Who would dare to bind Lord Andrii? now he is so grand a knight. I hardly recognised him. Gold on his shoulders and his belt, gold everywhere about him; as the sun shines in spring, when every bird twitters and sings in the orchard, so he shines, all gold. And his horse, which the Waiwode himself gave him, is the very best; that horse alone is worth two hundred ducats.” |
| Бульба остолбенел. | Bulba was petrified. |
| – Зачем же он надел чужое одеянье? | “Why has he put on foreign garments?” |
| – Потому что лучше, потому и надел… И сам разъезжает, и другие разъезжают; и он учит, и его учат. Как наибогатейший польский пан! | “He put them on because they were finer. And he rides about, and the others ride about, and he teaches them, and they teach him; like the very grandest Polish noble.” |
| – Кто ж его принудил? | “Who forced him to do this?” |
| – Я ж не говорю, чтобы его кто принудил. Разве пан не знает, что он по своей воле перешел к ним? | “I should not say that he had been forced. Does not my lord know that he went over to them of his own free will?” |
| – Кто перешел? | “Who went over?” |
| – А пан Андрий. | “Lord Andrii.” |
| – Куда перешел? | “Went where?” |
| – Перешел на их сторону, он уж теперь совсем ихний. | “Went over to their side; he is now a thorough foreigner.” |
| – Врешь, свиное ухо! | “You lie, you hog’s ear!” |
| – Как же можно, чтобы я врал? Дурак я разве, чтобы врал? На свою бы голову я врал? Разве я не знаю, что жида повесят, как собаку, колк он соврет перед паном? | “How is it possible that I should lie? Am I a fool, that I should lie? Would I lie at the risk of my head? Do not I know that Jews are hung like dogs if they lie to nobles?” |
| – Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру? | “Then it means, according to you, he has betrayed his native land and his faith?” |
| – Я же не говорю этого, чтобы он продавал что: я сказал только, то он перешел к ним. | “I do not say that he has betrayed anything; I merely said that he had gone over to the other side.” |
| – Врешь, чертов жид! Такого дела не было на христианской земле! Ты путаешь, собака! | “You lie, you imp of a Jew! Such a deed was never known in a Christian land. You are making a mistake, dog!” |
| – Пусть трава прорастет на пороге моего дома, если я путаю! Пусть всякий наплюет на могилу отца, матери, свекора, и отца отца моего, и отца матери моей, если я путаю. Если пан хочет, я даже скажу, и отчего он перешел к ним. | “May the grass grow upon the threshold of my house if I am mistaken! May every one spit upon the grave of my father, my mother, my father’s father, and my mother’s father, if I am mistaken! If my lord wished I can even tell him why he went over to them.” |
| – Отчего? | “Why?” |
| – У воеводы есть дочка-красавица. Святой боже, какая красавица! | “The Waiwode has a beautiful daughter. Holy Father! what a beauty!” |
| Здесь жид постарался, как только мог, выразить в лице своем красоту, расставив руки, прищурив глаз и покрививши набок рот, как будто чего-нибудь отведавши. | Here the Jew tried his utmost to express beauty by extending his hands, screwing up his eyes, and twisting his mouth to one side as though tasting something on trial. |
| – Ну, так что же из того? | “Well, what of that?” |
| – Он для нее и сделал все и перешел. Коли человек влюбится, то он все равно что подошва, которую, коли размочишь в воде, возьми согни – она и согнется. | “He did it all for her, he went there for her sake. When a man is in love, then all things are the same to him; like the sole of a shoe which you can bend in any direction if you soak it in water.” |
| Крепко задумался Бульба. Вспомнил он, что велика власть слабой женщины, что многих сильных погубляла она, что податлива с этой стороны природа Андрия; и стоял он долго как вкопанный на одном и том же месте. | Bulba reflected deeply. He remembered the power of weak woman—how she had ruined many a strong man, and that this was the weak point in Andrii’s nature—and stood for some time in one spot, as though rooted there. |
| – Слушай, пан, я все расскажу пану, – говорил жид. – Как только услышал я шум и увидел, что проходят в городские ворота, я схватил на всякий случай с собой нитку жемчуга, потому что в городе есть красавицы и дворянки, а коли есть красавицы и дворянки, сказал я себе, то хоть им и есть нечего, а жемчуг все-таки купят. И как только хорунжего слуги пустили меня, я побежал на воеводин двор продавать жемчуг и расспросил все у служанки-татарки. “Будет свадьба сейчас, как только прогонят запорожцев. Пан Андрий обещал прогнать запорожцев”. | “Listen, my lord, I will tell my lord all,” said the Jew. “As soon as I heard the uproar, and saw them going through the city gate, I seized a string of pearls, in case of any emergency. For there are beauties and noble-women there; ‘and if there are beauties and noble-women,’ I said to myself, ‘they will buy pearls, even if they have nothing to eat.’ And, as soon as ever the cornet’s servants had set me at liberty, I hastened to the Waiwode’s residence to sell my pearls. I asked all manner of questions of the lady’s Tatar maid; the wedding is to take place immediately, as soon as they have driven off the Zaporozhtzi. Lord Andrii has promised to drive off the Zaporovians.” |
| – И ты не убил тут же на месте его, чертова сына? – вскрикнул Бульба. | “And you did not kill him on the spot, you devil’s brat?” shouted Bulba. |
| – За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, туда и перешел. | “Why should I kill him? He went over of his own free will. What is his crime? He liked it better there, so he went there.” |
| – И ты видел его в самое лицо? | “And you saw him face to face?” |
| – Ей-богу, в самое лицо! Такой славный вояка! Всех взрачней. Дай бог ему здоровья, меня тотчас узнал; и когда я подошел к нему, тотчас сказал… | “Face to face, by heavens! such a magnificent warrior! more splendid than all the rest. God bless him, he knew me, and when I approached him he said at once—” |
| – Что ж он сказал? | “What did he say?” |
| – Он сказал… прежде кивнул пальцем, а потом уже сказал: “Янкель!” А я: “Пан Андрий!” – говорю. “Янкель! скажи отцу, скажи брату, скажи козакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец – теперь не отец мне, брат – не брат, товарищ – не товарищ, и что я с ними буду биться со всеми. Со всеми буду биться!” | “He said—First he beckoned me with his finger, and then he said, ‘Yankel!’ Lord Andrii said, ‘Yankel, tell my father, tell my brother, tell all the Cossacks, all the Zaporozhtzi, everybody, that my father is no longer my father, nor my brother my brother, nor my comrades my comrades; and that I will fight them all, all.’” |
| – Врешь, чертов Иуда! – закричал, вышед из себя, Тарас. – Врешь, собака! Ты и Христа распял, проклятый богом человек! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда, не то – тут же тебе и смерть! – И, сказавши это, Тарас выхватил свою саблю. | “You lie, imp of a Jew!” shouted Taras, beside himself. “You lie, dog! I will kill you, Satan! Get away from here! if not, death awaits you!” So saying, Taras drew his sword. |
| Испуганный жид припустился тут же во все лопатки, как только могли вынести его тонкие, сухие икры. Долго еще бежал он без оглядки между козацким табором и потом далеко по всему чистому полю, хотя Тарас вовсе не гнался за ним, размыслив, что неразумно вымещать запальчивость на первом подвернувшемся. | The terrified Jew set off instantly, at the full speed of his thin, shrunken legs. He ran for a long time, without looking back, through the Cossack camp, and then far out on the deserted plain, although Taras did not chase him at all, reasoning that it was foolish to thus vent his rage on the first person who presented himself. |
| Теперь припомнил он, что видел в прошлую ночь Андрия, проходившего по табору с какой-то женщиною, и поник седою головою, а все еще не хотел верить, чтобы могло случиться такое позорное дело и чтобы собственный сын его продал веру и душу. | Then he recollected that he had seen Andrii on the previous night traversing the camp with some woman, and he bowed his grey head. Still he would not believe that so disgraceful a thing could have happened, and that his own son had betrayed his faith and soul. |
| Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не выжжен еще козаками. А запорожцы, и пешие и конные, выступали на три дороги к трем воротам. Один за другим валили курени: Уманский, Поповичевский, Каневский, Стебликивский, Незамайковский, Гургузив, Тытаревский, Тымошевский. Одного только Переяславского не было. Крепко курнули козаки его и прокурили свою долю. Кто проснулся связанный во вражьих руках, кто, и совсем не просыпаясь, сонный перешел в сырую землю, и сам атаман Хлиб, без шаровар и верхнего убранства, очутился в ляшском стану. | Finally he placed his men in ambush in a wood—the only one which had not been burned by the Cossacks—whilst the Zaporozhians, foot and horse, set out for the three gates by three different roads. One after another the kurens turned out: Oumansky, Popovichesky, Kanevsky, Steblikovsky, Nezamaikovsky, Gurgazif, Titarevsky, Tomischevsky. The Pereyaslavsky kuren alone was wanting. Its Cossacks had smoked and drank to their destruction. Some awoke to find themselves bound in the enemy’s hands; others never woke at all but passed in their sleep into the damp earth; and the hetman Khlib himself, minus his trousers and accoutrements, found himself in the camp of the Lyakhs. |
| В городе услышали козацкое движенье. Все высыпали на вал, и предстала пред козаков живая картина: польские витязи, один другого красивей, стояли на валу. Медные шапки сияли, как солнца, оперенные белыми, как лебедь, перьями. На других были легкие шапочки, розовые и голубые с перегнутыми набекрень верхами; кафтаны с откидными рукавами, шитые и золотом и просто выложенные шнурками; у тех сабли и ружья в дорогих оправах, за которые дорого приплачивались паны, – и много было всяких других убранств. Напереди стоял спесиво, в красной шапке, убранной золотом, буджаковский полковник. Грузен был полковник, всех выше и толще, и широкий дорогой кафтан в силу облекал его. На другой стороне, почти к боковым воротам, стоял другой полковник, небольшой человек, весь высохший; но малые зоркие очи глядели живо из-под густо наросших бровей, и оборачивался он скоро на все стороны, указывая бойко тонкою, сухою рукою своею, раздавая приказанья; видно было, что, несмотря на малое тело свое, знал он хорошо ратную науку. Недалеко от него стоял хорунжий, длинный-длинный, с густыми усами, и, казалось, не было у него недостатка в краске на лице: любил пан крепкие меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовские деньги, заложив все, что ни нашлось в дедовских замках. Немало было и всяких сенаторских нахлебников, которых брали с собою сенаторы на обеды для почета, которые крали со стола и из буфетов серебряные кубки и после сегодняшнего почета на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Много всяких было там. Иной раз и выпить было не на что, а на войну все принарядились. | The uproar among the Zaporozhtzi was heard in the city. All the besieged hastened to the ramparts, and a lively scene was presented to the Cossacks. The handsome Polish heroes thronged on the wall. The brazen helmets of some shone like the sun, and were adorned with feathers white as swans. Others wore pink and blue caps, drooping over one ear, and caftans with the sleeves thrown back, embroidered with gold. Their weapons were richly mounted and very costly, as were their equipments. In the front rank the Budzhakovsky colonel stood proudly in his red cap ornamented with gold. He was a tall, stout man, and his rich and ample caftan hardly covered him. Near the side gate stood another colonel. He was a dried-up little man, but his small, piercing eyes gleamed sharply from under his thick and shaggy brows, and as he turned quickly on all sides, motioning boldly with his thin, withered hand, and giving out his orders, it was evident that, in spite of his little body, he understood military science thoroughly. Not far from him stood a very tall cornet, with thick moustaches and a highly-coloured complexion—a noble fond of strong mead and hearty revelry. Behind them were many nobles who had equipped themselves, some with their own ducats, some from the royal treasury, some with money obtained from the Jews, by pawning everything they found in their ancestral castles. Many too were parasites, whom the senators took with them to dinners for show, and who stole silver cups from the table and the sideboard, and when the day’s display was over mounted some noble’s coach-box and drove his horses. There were folk of all kinds there. Sometimes they had not enough to drink, but all were equipped for war. |
| Казацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было на них ни на ком золота, только разве кое-где блестело оно на сабельных рукоятках и ружейных оправах. Не любили козаки богато выряжаться на битвах; простые были на них кольчуги и свиты, и далеко чернели и червонели черные, червонноверхие бараньи их шапки. | The Cossack ranks stood quietly before the walls. There was no gold about them, save where it shone on the hilt of a sword or the mountings of a gun. The Zaporozhtzi were not given to decking themselves out gaily for battle: their coats-of-mail and garments were plain, and their black-bordered red-crowned caps showed darkly in the distance. |
| Два козака выехало вперед из запорожских рядов. Один еще совсем молодой, другой постарее, оба зубастые на слова, на деле тоже не плохие козаки: Охрим Наш и Мыкыта Голокопытенко. Следом за ними выехал и Демид Попович, коренастый козак, уже давно маячивший на Сечи, бывший под Адрианополем и много натерпевшийся на веку своем: горел в огне и прибежал на Сечь с обсмаленною, почерневшею головою и выгоревшими усами. Но раздобрел вновь Попович, пустил за ухо оселедец, вырастил усы, густые и черные как смоль. И крепок был на едкое слово Попович. | Two men—Okhrim Nasch and Mikiga Golokopuitenko—advanced from the Zaporozhian ranks. One was quite young, the other older; both fierce in words, and not bad specimens of Cossacks in action. They were followed by Demid Popovitch, a strongly built Cossack who had been hanging about the Setch for a long time, after having been in Adrianople and undergoing a great deal in the course of his life. He had been burned, and had escaped to the Setch with blackened head and singed moustaches. But Popovitch recovered, let his hair grow, raised moustaches thick and black as pitch, and was a stout fellow, according to his own biting speech. |
| – А, красные жупаны на всем войске, да хотел бы я знать, красная ли сила у войска? | “Red jackets on all the army, but I should like to know what sort of men are under them,” he cried. |
| – Вот я вас! – кричал сверху дюжий полковник, – всех перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней. Видели, как перевязал я ваших? Выведите им на вал запорожцев! | “I will show you,” shouted the stout colonel from above. “I will capture the whole of you. Surrender your guns and horses, slaves. Did you see how I caught your men?—Bring out a Zaporozhetz on the wall for them to see.” |
| И вывели на вал скрученных веревками запорожцев. Впереди их был куренной атаман Хлиб, без шаровар и верхнего убранства, – так, как схватили его хмельного. И потупил в землю голову атаман, стыдясь наготы своей перед своими же козаками и того, что попал в плен, как собака, сонный. В одну ночь поседела крепкая голова его. | And they let out a Zaporozhetz bound with stout cords. Before them stood Khlib, the hetman of the Pereyaslavsky kuren, without his trousers or accoutrements, just as they had captured him in his drunken sleep. He bowed his head in shame before the Cossacks at his nakedness, and at having been thus taken like a dog, while asleep. His hair had turned grey in one night. |
| – Не печалься, Хлиб! Выручим! – кричали ему снизу козаки. | “Grieve not, Khlib: we will rescue you,” shouted the Cossacks from below. |
| – Не печалься, друзьяка! – отозвался куренной атаман Бородатый. – В том нет вины твоей, что схватили тебя нагого. Беда может быть со всяким человеком; но стыдно им, что выставили тебя на позор, не прикрывши прилично наготы твоей. | “Grieve not, friend,” cried the hetman Borodaty. “It is not your fault that they caught you naked: that misfortune might happen to any man. But it is a disgrace to them that they should have exposed you to dishonour, and not covered your nakedness decently.” |
| – Вы, видно, на сонных людей храброе войско! – говорил, поглядывая на вал, Голокопытенко. | “You seem to be a brave army when you have people who are asleep to fight,” remarked Golokopuitenko, glancing at the ramparts. |
| – Вот, погодите, обрежем мы вам чубы! – кричали им сверху. | “Wait a bit, we’ll singe your top-knots for you!” was the reply. |
| – А хотел бы я поглядеть, как они нам обрежут чубы! – говорил Попович, поворотившись перед ними на коне. Потом, поглядевши на своих, сказал: – А что ж? Может быть, ляхи и правду говорят. Колк выведет их вон тот пузатый, им всем будет добрая защита. | “I should like to see them singe our scalp locks!” said Popovitch, prancing about before them on his horse; and then, glancing at his comrades, he added, “Well, perhaps the Lyakhs speak the truth: if that fat-bellied fellow leads them, they will all find a good shelter.” |
| – Отчего ж, ты думаешь, будет им добрая защита? – сказали козаки, зная, что Попович, верно, уже готовился что-нибудь отпустить. | “Why do you think they will find a good shelter?” asked the Cossacks, knowing that Popovitch was probably preparing some repartee. |
| – А оттого, что позади его упрячется все войско, и уж черта с два из-за его пуза достанешь которого-нибудь копьем! | “Because the whole army will hide behind him; and the devil himself couldn’t help you to reach any one with your spear through that belly of his!” |
| Все засмеялись козаки. И долго многие из них еще покачивали головою, говоря: “Ну уж Попович! Уж коли кому закрутит слово, так только ну…” Да уж и не сказали козаки, что такое “ну”. | The Cossacks laughed, some of them shaking their heads and saying, “What a fellow Popovitch is for a joke! but now—” But the Cossacks had not time to explain what they meant by that “now.” |
| – Отступайте, отступайте скорей от стен! – закричал кошевой. Ибо ляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и полковник махнул рукой. | “Fall back, fall back quickly from the wall!” shouted the Koschevoi, seeing that the Lyakhs could not endure these biting words, and that the colonel was waving his hand. |
| Едва только посторонились козаки, как грянули с валу картечью. На валу засуетились, показался сам седой воевода на коне. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выехали ровным конным строем шитые гусары. За ними кольчужники, потом латники с копьями, потом все в медных шапках, потом ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый одетый по-своему. Не хотели гордые шляхтичи смешаться в ряды с другими, и у которого не было команды, тот ехал один с своими слугами. Потом опять ряды, и за ними выехал хорунжий; за ним опять ряды, и выехал дюжий полковник; а позади всего уже войска выехал последним низенький полковник. | The Cossacks had hardly retreated from the wall before the grape-shot rained down. On the ramparts all was excitement, and the grey-haired Waiwode himself appeared on horseback. The gates opened and the garrison sallied forth. In the van came hussars in orderly ranks, behind them the horsemen in armour, and then the heroes in brazen helmets; after whom rode singly the highest nobility, each man accoutred as he pleased. These haughty nobles would not mingle in the ranks with others, and such of them as had no commands rode apart with their own immediate following. Next came some more companies, and after these the cornet, then more files of men, and the stout colonel; and in the rear of the whole force the little colonel. |
| – Не давать им, не давать им строиться и становиться в ряды! – кричал кошевой. – Разом напирайте на них все курени! Оставляйте прочие ворота! Тытаревский курень, нападай сбоку! Дядькивский курень, нападай с другого! Напирайте на тыл, Кукубенко и Палывода! Мешайте, мешайте и розните их! | “Keep them from forming in line!” shouted the Koschevoi; “let all the kurens attack them at once! Block the other gate! Titarevsky kuren, fall on one flank! Dyadovsky kuren, charge on the other! Attack them in the rear, Kukubenko and Palivod! Check them, break them!” |
| И ударили со всех сторон козаки, сбили и смешали их, и сами смешались. Не дали даже и стрельбы произвести; пошло дело на мечи да на копья. Все сбились в кучу, и каждому привел случай показать себя. Демид Попович трех заколол простых и двух лучших шляхтичей сбил с коней, говоря: “Вот добрые кони! Таких коней я давно хотел достать!” И выгнал коней далеко в поле, крича стоявшим козакам перенять их. Потом вновь пробился в кучу, напал опять на сбитых с коней шляхтичей, одного убил, а другому накинул аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю, снявши с него саблю с дорогою рукоятью и отвязавши от пояса целый черенок с червонцами. Кобита, добрый козак и молодой еще, схватился тоже с одним из храбрейших в польском войске, и долго бились они. Сошлись уже в рукопашный. Одолел было уже козак и, сломивши, ударил вострым турецким ножом в грудь, но не уберегся сам. Тут же в висок хлопнула его горячая пуля. Свалил его знатнее из панов, красивейший и древнего княжеского роду рыцарь. Как стройный тополь, носился он на булатом коне своем. И много уже показал боярской богатырской удали: двух запорожцев разрубил надвое; Федора Коржа, доброго козака, опрокинул вместе с конем, выстрелил по коню и козака достал из-за коня копьем; многим отнес головы и руки и повалил козака Кобиту, вогнавши ему пулю в висок. | The Cossacks attacked on all sides, throwing the Lyakhs into confusion and getting confused themselves. They did not even give the foe time to fire, it came to swords and spears at once. All fought hand to hand, and each man had an opportunity to distinguish himself. Demid Popovitch speared three soldiers, and struck two of the highest nobles from their saddles, saying, “Good horses! I have long wanted just such horses.” And he drove the horses far afield, shouting to the Cossacks standing about to catch them. Then he rushed again into the fray, fell upon the dismounted nobles, slew one, and throwing his lasso round the neck of the other, tied him to his saddle and dragged him over the plain, after having taken from him his sword from its rich hilt and removed from his girdle a whole bag of ducats. Kobita, a good Cossack, though still very young, attacked one of the bravest men in the Polish army, and they fought long together. They grappled, and the Cossack mastering his foe, and throwing him down, stabbed him in the breast with his sharp Turkish knife. But he did not look out for himself, and a bullet struck him on the temple. The man who struck him down was the most distinguished of the nobles, the handsomest scion of an ancient and princely race. Like a stately poplar, he bestrode his dun-coloured steed, and many heroic deeds did he perform. He cut two Cossacks in twain. Fedor Korzh, the brave Cossack, he overthrew together with his horse, shooting the steed and picking off the rider with his spear. Many heads and hands did he hew off; and slew Kobita by sending a bullet through his temple. |
| – Вот с кем бы я хотел попробовать силы! – закричал незамайковский куренной атаман Кукубенко. Припустив коня, налетел прямо ему в тыл и сильно вскрикнул, так что вздрогнули все близ стоявшие от нечеловеческого крика. Хотел было поворотить вдруг своего коня лях и стать ему в лицо; но не послушался конь: испуганный страшным крюком, метнулся на сторону, и достал его ружейною пулею Кукубенко. Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля, и свалился он с коня. Но и тут не поддался лях, все еще силился нанести врагу удар, но ослабела упавшая вместе с саблею рука. А Кукубенко, взяв в обе руки свой тяжелый палаш, вогнал его ему в самые побледневшие уста. Вышиб два сахарные зуба палаш, рассек надвое язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю. Так и пригвоздил он его там навеки к сырой земле. Ключом хлынула вверх алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь обшитый золотом желтый кафтан его. А Кукубенко уже кинул его и пробился с своими незамайковцами в другую кучу. | “There’s a man I should like to measure strength with!” shouted Kukubenko, the hetman of the Nezamaikovsky kuren. Spurring his horse, he dashed straight at the Pole’s back, shouting loudly, so that all who stood near shuddered at the unearthly yell. The boyard tried to wheel his horse suddenly and face him, but his horse would not obey him; scared by the terrible cry, it bounded aside, and the Lyakh received Kukubenko’s fire. The ball struck him in the shoulder-blade, and he rolled from his saddle. Even then he did not surrender and strove to deal his enemy a blow, but his hand was weak. Kukubenko, taking his heavy sword in both hands, thrust it through his mouth. The sword, breaking out two teeth, cut the tongue in twain, pierced the windpipe, and penetrated deep into the earth, nailing him to the ground. His noble blood, red as viburnum berries beside the river, welled forth in a stream staining his yellow, gold-embroidered caftan. But Kukubenko had already left him, and was forcing his way, with his Nezamaikovsky kuren, towards another group. |
| – Эх, оставил неприбранным такое дорогое убранство! – сказал уманский куренной Бородатый, отъехавши от своих к месту, где лежал убитый Кукубенком шляхтич. – Я семерых убил шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще не видел ни на ком. | “He has left untouched rich plunder,” said Borodaty, hetman of the Oumansky kuren, leaving his men and going to the place where the nobleman killed by Kukubenko lay. “I have killed seven nobles with my own hand, but such spoil I never beheld on any one.” |
| И польстился корыстью Бородатый: нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже турецкий нож в оправе из самоцветных каменьев, отвязал от пояса черенок с червонцами, снял с груди сумку с тонким бельем, дорогим серебром и девическою кудрею, сохранно сберегавшеюся на память. И не услышал Бородатый, как налетел на него сзади красноносый хорунжий, уже раз сбитый им с седла и получивший добрую зазубрину на память. Размахнулся он со всего плеча и ударил его саблей по нагнувшейся шее. Не к добру повела корысть козака: отскочила могучая голова, и упал обезглавленный труп, далеко вокруг оросивши землю. Понеслась к вышинам суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя, и вместе с тем дивуясь, что так рано вылетела из такого крепкого тела. Не успел хорунжий ухватить за чуб атаманскую голову, чтобы привязать ее к седлу, а уж был тут суровый мститель. | Prompted by greed, Borodaty bent down to strip off the rich armour, and had already secured the Turkish knife set with precious stones, and taken from the foe’s belt a purse of ducats, and from his breast a silver case containing a maiden’s curl, cherished tenderly as a love-token. But he heeded not how the red-faced cornet, whom he had already once hurled from the saddle and given a good blow as a remembrance, flew upon him from behind. The cornet swung his arm with all his might, and brought his sword down upon Borodaty’s bent neck. Greed led to no good: the head rolled off, and the body fell headless, sprinkling the earth with blood far and wide; whilst the Cossack soul ascended, indignant and surprised at having so soon quitted so stout a frame. The cornet had not succeeded in seizing the hetman’s head by its scalp-lock, and fastening it to his saddle, before an avenger had arrived. |
| Как плавающий в небе ястреб, давши много кругов сильными крылами, вдруг останавливается распластанный на одном месте и бьет оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги самца-перепела, – так Тарасов сын, Остап, налетел вдруг на хорунжего и сразу накинул ему на шею веревку. Побагровело еще сильнее красное лицо хорунжего, когда затянула ему горло жестокая петля; схватился он было за пистолет, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрела, и даром полетела в поле пуля. Остап тут же, у его же седла, отвязал шелковый шнур, который возил с собою хорунжий для вязания пленных, и его же шнуром связал его по рукам и по ногам, прицепил конец веревки к седлу и поволок его через поле, сзывая громко всех козаков Уманского куреня, чтобы шли отдать последнюю честь атаману. | As a hawk floating in the sky, sweeping in great circles with his mighty wings, suddenly remains poised in air, in one spot, and thence darts down like an arrow upon the shrieking quail, so Taras’s son Ostap darted suddenly upon the cornet and flung a rope about his neck with one cast. The cornet’s red face became a still deeper purple as the cruel noose compressed his throat, and he tried to use his pistol; but his convulsively quivering hand could not aim straight, and the bullet flew wild across the plain. Ostap immediately unfastened a silken cord which the cornet carried at his saddle bow to bind prisoners, and having with it bound him hand and foot, attached the cord to his saddle and dragged him across the field, calling on all the Cossacks of the Oumansky kuren to come and render the last honours to their hetman. |
| Как услышали уманцы, что куренного их атамана Бородатого нет уже в живых, бросили поле битвы и прибежали прибрать его тело; и тут же стали совещаться, кого выбрать в куренные. Наконец сказали: | When the Oumantzi heard that the hetman of their kuren, Borodaty, was no longer among the living, they deserted the field of battle, rushed to secure his body, and consulted at once as to whom they should select as their leader. At length they said, |
| – Да на что совещаться? Лучше не можно поставить в куренные, как Бульбенка Остапа. Он, правда, младший всех нас, но разум у него, как у старого человека. | “But why consult? It is impossible to find a better leader than Bulba’s son, Ostap; he is younger than all the rest of us, it is true; but his judgment is equal to that of the eldest.” |
| Остап, сняв шапку, всех поблагодарил козаков-товарищей за честь, не стал отговариваться ни молодостью, ни молодым разумом, зная, что время военное и не до того теперь, а тут же повел их прямо на кучу и уж показал им всем, что недаром выбрали его в атаманы. Почувствовали ляхи, что уже становилось дело слишком жарко, отступили и перебежали поле, чтоб собраться на другом конце его. А низенький полковник махнул на стоявшие отдельно, у самых ворот, четыре свежих сотни, и грянули оттуда картечью в козацкие кучи. Но мало кого достали: пули хватили по быкам козацким, дико глядевшим на битву. Взревели испуганные быки, поворотили на козацкие таборы, переломали возы и многих перетоптали. Но Тарас в это время, вырвавшись из засады с своим полком, с криком бросился навпереймы. Поворотило назад все бешеное стадо, испуганное криком, и метнулось на ляшские полки, опрокинуло конницу, всех смяло и рассыпало. | Ostap, taking off his cap, thanked his comrades for the honour, and did not decline it on the ground of youth or inexperience, knowing that war time is no fitting season for that; but instantly ordered them straight to the fray, and soon showed them that not in vain had they chosen him as hetman. The Lyakhs felt that the matter was growing too hot for them, and retreated across the plain in order to form again at its other end. But the little colonel signalled to the reserve of four hundred, stationed at the gate, and these rained shot upon the Cossacks. To little purpose, however, their shot only taking effect on the Cossack oxen, which were gazing wildly upon the battle. The frightened oxen, bellowing with fear, dashed into the camp, breaking the line of waggons and trampling on many. But Taras, emerging from ambush at the moment with his troops, headed off the infuriated cattle, which, startled by his yell, swooped down upon the Polish troops, overthrew the cavalry, and crushed and dispersed them all. |
| – О, спасибо вам, волы! – кричали запорожцы, – служили всь походную службу, а теперь и военную сослужили! – И ударили с новыми силами на неприятеля. | “Thank you, oxen!” cried the Zaporozhtzi; “you served us on the march, and now you serve us in war.” And they attacked the foe with fresh vigour killing many of the enemy. |
| Много тогда перебили врагов. Многие показали себя: Метелыця, Шило, оба Пысаренки, Вовтузенко, и немало было всяких других. Увидели ляхи, что плохо наконец приходит, выкинули хоругвь и закричали отворять городские ворота. Со скрыпом отворились обитые железом ворота и приняли толпившихся, как овец в овчарню, изнуренных и покрытых пылью всадников. Многие из запорожцев погнались было за ними, но Остап своих уманцев остановил, сказавши: “Подальше, подальше, паны-братья, от стен! Не годится близко подходить к ним”. И правду сказал, потому что со стен грянули и посыпали всем чем ни попало, и многим досталось. В это время подъехал кошевой и похвалил Остапа, сказавши: “Вот и новый атаман, а ведет войско так, как бы и старый!” Оглянулся старый Бульба поглядеть, какой там новый атаман, и увидел, что впереди всех уманцев сидел на коне Остап, и шапка заломлена набекрень, и атаманская палица в руке. “Вишь ты какой!” – сказал он, глядя на него; и обрадовался старый, и стал благодарить всех уманцев за честь, оказанную сыну. | Several distinguished themselves—Metelitza and Schilo, both of the Pisarenki, Vovtuzenko, and many others. The Lyakhs seeing that matters were going badly for them flung away their banners and shouted for the city gates to be opened. With a screeching sound the iron-bound gates swung open and received the weary and dust-covered riders, flocking like sheep into a fold. Many of the Zaporozhtzi would have pursued them, but Ostap stopped his Oumantzi, saying, “Farther, farther from the walls, brother gentles! it is not well to approach them too closely.” He spoke truly; for from the ramparts the foe rained and poured down everything which came to hand, and many were struck. At that moment the Koschevoi came up and congratulated him, saying, “Here is the new hetman leading the army like an old one!” Old Bulba glanced round to see the new hetman, and beheld Ostap sitting on his horse at the head of the Oumantzi, his cap on one side and the hetman’s staff in his hand. “Who ever saw the like!” he exclaimed; and the old man rejoiced, and began to thank all the Oumantzi for the honour they had conferred upon his son. |
| Козаки вновь отступили, готовясь идти к таборам, а на городском валу вновь показались ляхи, уже с изорванными епанчами. Запеклася кровь на многих дорогих кафтанах, и пылью покрылись красивые медные шапки. | The Cossacks retired, preparing to go into camp; but the Lyakhs showed themselves again on the city ramparts with tattered mantles. Many rich caftans were spotted with blood, and dust covered the brazen helmets. |
| – Что, перевязали? – кричали им снизу запорожцы. | “Have you bound us?” cried the Zaporozhtzi to them from below. |
| – Вот я вас! – кричал все так же сверху толстый полковник, показывая веревку. | “We will do so!” shouted the big colonel from above, showing them a rope. |
| И все еще не переставали грозить запыленные, изнуренные воины, и все, бывшие позадорнее, перекинулись с обеих сторон бойкими словами. | . The weary, dust-covered warriors ceased not to threaten, nor the most zealous on both sides to exchange fierce remarks. |
| Наконец разошлись все. Кто расположился отдыхать, истомившись от боя; кто присыпал землей свои раны и драл на перевязки платки и дорогие одежды, снятые с убитого неприятеля. Другие же, которые были посвежее, стали прибирать тела и отдавать им последнюю почесть. Палашами и копьями копали могилы; шапками, полами выносили землю; сложили честно козацкие тела и засыпали их свежею землею, чтобы не досталось во’ронам и хищным орлам выплевывать им очи. А ляшские тела увязавши как попало десятками к хвостам диких коней, пустили их по всему полю и долго потом гнались за ними и хлестали их по бокам. Летели бешеные кони по бороздам, буграм, через рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахом ляшские трупы. | At length all dispersed. Some, weary with battle, stretched themselves out to rest; others sprinkled their wounds with earth, and bound them with kerchiefs and rich stuffs captured from the enemy. Others, who were fresher, began to inspect the corpses and to pay them the last honours. They dug graves with swords and spears, brought earth in their caps and the skirts of their garments, laid the Cossacks’ bodies out decently, and covered them up in order that the ravens and eagles might not claw out their eyes. But binding the bodies of the Lyakhs, as they came to hand, to the tails of horses, they let these loose on the plain, pursuing them and beating them for some time. The infuriated horses flew over hill and hollow, through ditch and brook, dragging the bodies of the Poles, all covered with blood and dust, along the ground. |
| Потом сели кругами все курени вечереть и долго говорили о делах и подвигах, доставшихся в удел каждому, на вечный рассказ пришельцам и потомству. Долго не ложились они. А долее всех не ложился старый Тарас, все размышляя, что бы значило, что Андрия не было между вражьих воев. Посовестился ли Иуда выйти противу своих или обманул жид и попался он просто в неволю? Но тут же вспомнил он, что не в меру было наклончиво сердце Андрия на женские речи, почувствовал скорбь и заклялся сильно в душе против полячки, причаровавшей его сына. И выполнил бы он свою клятву: не поглядел бы на ее красоту, вытащил бы ее за густую, пышную косу, поволок бы ее за собою по всему полю, между всех козаков. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ее чудные груди и плечи, блеском равные нетающим снегам, покрывающим горные вершины; разнес бы по частям он ее пышное, прекрасное тело. Но не ведал Бульба того, что готовит бог человеку завтра, и стал позабываться сном, и наконец заснул. | All the kurens sat down in circles in the evening, and talked for a long time of their deeds, and of the achievements which had fallen to the share of each, for repetition by strangers and posterity. It was long before they lay down to sleep; and longer still before old Taras, meditating what it might signify that Andrii was not among the foe, lay down. Had the Judas been ashamed to come forth against his own countrymen? or had the Jew been deceiving him, and had he simply gone into the city against his will? But then he recollected that there were no bounds to a woman’s influence upon Andrii’s heart; he felt ashamed, and swore a mighty oath to himself against the fair Pole who had bewitched his son. And he would have kept his oath. He would not have looked at her beauty; he would have dragged her forth by her thick and splendid hair; he would have trailed her after him over all the plain, among all the Cossacks. Her beautiful shoulders and bosom, white as fresh-fallen snow upon the mountain-tops, would have been crushed to earth and covered with blood and dust. Her lovely body would have been torn to pieces. But Taras, who did not foresee what God prepares for man on the morrow, began to grow drowsy, and finally fell asleep. |
| А козаки все еще говорили промеж собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во все концы, трезвая, не смыкавшая очей стража. | The Cossacks still talked among themselves; and the sober sentinel stood all night long beside the fire without blinking and keeping a good look out on all sides. |
| VIII | VIII |
| Еще солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в круги. Из Сечи пришла весть, что татары во время отлучки козаков ограбили в ней все, вырыли скарб, который втайне держали козаки под землею, избили и забрали в плен всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами и табунами направили путь прямо к Перекопу. Один только козак, Максим Голодуха, вырвался дорогою из татарских рук, заколол мирзу, отвязал у него мешок с цехинами и на татарском коне, в татарской одежде полтора дни и две ночи уходил от погони, загнал насмерть коня, пересел дорогою на другого, загнал и того, и уже на третьем приехал в запорожский табор, разведав на дороге, что запорожцы были под Дубном. Только и успел объявить он, что случилось такое зло; но отчего оно случилось, курнули ли оставшиеся запорожцы, по козацкому обычаю, и пьяными отдались в плен, и как узнали татары место, где был зарыт войсковой скарб, – того ничего не сказал он. Сильно истомился козак, распух весь, лицо пожгло и опалило ему ветром; упал он тут же и заснул крепким сном. | The sun had not ascended midway in the heavens when all the army assembled in a group. News had come from the Setch that during the Cossacks’ absence the Tatars had plundered it completely, unearthed the treasures which were kept concealed in the ground, killed or carried into captivity all who had remained behind, and straightway set out, with all the flocks and droves of horses they had collected, for Perekop. One Cossack only, Maksin Galodukha, had broken loose from the Tatars’ hands, stabbed the Mirza, seized his bag of sequins, and on a Tatar horse, in Tatar garments, had fled from his pursuers for two nights and a day and a half, ridden his horse to death, obtained another, killed that one too, and arrived at the Zaporozhian camp upon a third, having learned upon the road that the Zaporozhtzi were before Dubno. He could only manage to tell them that this misfortune had taken place; but as to how it happened—whether the remaining Zaporozhtzi had been carousing after Cossack fashion, and had been carried drunk into captivity, and how the Tatars were aware of the spot where the treasures of the army were concealed—he was too exhausted to say. Extremely fatigued, his body swollen, and his face scorched and weatherbeaten, he had fallen down, and a deep sleep had overpowered him. |
| В подобных случаях водилось у запорожцев гнаться в ту ж минуту за похитителями, стараясь настигнуть их на дороге, потому что пленные как раз могли очутиться на базарах Малой Азии, в Смирне, на Критском острове, и бог знает в какие местах не показались бы чубатые запорожские головы. Вот отчего собрались запорожцы. Все до единого стояли они в шапках, потому что пришли не с тем, чтобы слушать по начальству атаманский приказ, но совещаться, как ровные между собою. | In such cases it was customary for the Cossacks to pursue the robbers at once, endeavouring to overtake them on the road; for, let the prisoners once be got to the bazaars of Asia Minor, Smyrna, or the island of Crete, and God knows in what places the tufted heads of Zaporozhtzi might not be seen. This was the occasion of the Cossacks’ assembling. They all stood to a man with their caps on; for they had not met to listen to the commands of their hetman, but to take counsel together as equals among equals. |
| – Давай совет прежде старшие! – закричали в толпе. | “Let the old men first advise,” was shouted to the crowd. |
| – Давай совет кошевой! – говорили другие. | “Let the Koschevoi give his opinion,” cried others. |
| И кошевой снял шапку, уж не так, как начальник, а как товарищ, благодарил всех козаков за честь и сказал: | The Koschevoi, taking off his cap and speaking not as commander, but as a comrade among comrades, thanked all the Cossacks for the honour, and said, |
| – Много между нами есть старших и советом умнейших, но коли меня почтили, то мой совет: не терять, товарищи, времени и гнаться за татарином. Ибо вы сами знаете, что за человек татарин. Он не станет с награбленным добром ожидать нашего прихода, а мигом размытарит его, так что и следов не найдешь. Так мой совет: идти. Мы здесь уже погуляли. Ляхи знают, что такое козаки; за веру, сколько было по силам, отмстили; корысти же с голодного города не много. Итак, мой совет – идти. | “There are among us many experienced men and much wisdom; but since you have thought me worthy, my counsel is not to lose time in pursuing the Tatars, for you know yourselves what the Tatar is. He will not pause with his stolen booty to await our coming, but will vanish in a twinkling, so that you can find no trace of him. Therefore my advice is to go. We have had good sport here. The Lyakhs now know what Cossacks are. We have avenged our faith to the extent of our ability; there is not much to satisfy greed in the famished city, and so my advice is to go.” |
| – Идти! – раздалось голосно в запорожских куренях. | “To go,” rang heavily through the Zaporozhian kurens. |
| Но Тарасу Бульбе не пришлись по душе такие слова, и навесил он еще ниже на очи свои хмурые, исчерна-белые брови, подобные кустам, выросшим по высокому темени горы, которых верхушки вплоть занес иглистый северный иней. | But such words did not suit Taras Bulba at all; and he brought his frowning, iron-grey brows still lower down over his eyes, brows like bushes growing on dark mountain heights, whose crowns are suddenly covered with sharp northern frost. |
| – Нет, не прав совет твой, кошевой!- сказал он. – Ты не так говоришь. Ты позабыл, видно, что в плену остаются наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, видно, чтоб мы не уважили первого, святого закона товарищества: оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них с живых содрали кожу или, исчетвертовав на части козацкое их тело, развозили бы их по городам и селам, как сделали они уже с гетьманом и лучшими русскими витязями на Украйне. Разве мало они поругались и без того над святынею? Что ж мы такое? спрашиваю я всех вас. Что ж за козак тот, который кинул в беде товарища, кинул его, как собаку, пропасть на чужбине? Коли уж на то пошло, что всякий ни во что ставит козацкую честь, позволив себе плюнуть в седые усы свои и попрекнуть себя обидным словом, так не укорит же никто меня. Один остаюсь! | “No, Koschevoi, your counsel is not good,” said he. “You cannot say that. You have evidently forgotten that those of our men captured by the Lyakhs will remain prisoners. You evidently wish that we should not heed the first holy law of comradeship; that we should leave our brethren to be flayed alive, or carried about through the towns and villages after their Cossack bodies have been quartered, as was done with the hetman and the bravest Russian warriors in the Ukraine. Have the enemy not desecrated the holy things sufficiently without that? What are we? I ask you all what sort of a Cossack is he who would desert his comrade in misfortune, and let him perish like a dog in a foreign land? If it has come to such a pass that no one has any confidence in Cossack honour, permitting men to spit upon his grey moustache, and upbraid him with offensive words, then let no one blame me; I will remain here alone.” |
| Поколебались все стоявшие запорожцы. | All the Zaporozhtzi who were there wavered. |
| – А разве ты позабыл, бравый полковник, – сказал тогда кошевой, – что у татар в руках тоже наши товарищи, что если мы теперь их не выручим, то жизнь их будет продана на вечное невольничество язычникам, что хуже всякой лютой смерти? Позабыл разве, что у них теперь вся казна наша, добытая христианскою кровью? | “And have you forgotten, brave comrades,” said the Koschevoi, “that the Tatars also have comrades of ours in their hands; that if we do not rescue them now their lives will be sacrificed in eternal imprisonment among the infidels, which is worse than the most cruel death? Have you forgotten that they now hold all our treasure, won by Christian blood?” |
| Задумались все козаки и не знали, что сказать. Никому не хотелось из них заслужить обидную славу. Тогда вышел вперед всех старейший годами во всем запорожском войске Касьян Бовдюг. В чести был он от всех козаков; два раза уже был избираем кошевым и на войнах тоже был сильно добрый козак, но уже давно состарелся и не бывал ни в каких походах; не любил тоже и советов давать никому, а любил старый вояка лежать на боку у козацких кругов, слушая рассказы про всякие бывалые случаи и козацкие походы. Никогда не вмешивался он в их речи, а все только слушал да прижимал пальцем золу в своей коротенькой трубке, которой не выпускал изо рта, и долго сидел он потом, прижмурив слегка очи; и не знали козаки, спал ли он или все еще слушал. Все походы оставался он дома, но сей раз разобрало старого. Махнул рукою по-козацки и сказал: | The Cossacks reflected, not knowing what to say. None of them wished to deserve ill repute. Then there stepped out in front of them the oldest in years of all the Zaporozhian army, Kasyan Bovdug. He was respected by all the Cossacks. Twice had he been chosen Koschevoi, and had also been a stout warrior; but he had long been old, and had ceased to go upon raids. Neither did the old man like to give advice to any one; but loved to lie upon his side in the circle of Cossacks, listening to tales of every occurrence on the Cossack marches. He never joined in the conversation, but only listened, and pressed the ashes with his finger in his short pipe, which never left his mouth; and would sit so long with his eyes half open, that the Cossacks never knew whether he were asleep or still listening. He always stayed at home during their raids, but this time the old man had joined the army. He had waved his hand in Cossack fashion, and said, |
| – А, не куды пошло! Пойду и я; может, в чем-нибудь буду пригоден козачеству! | “Wherever you go, I am going too; perhaps I may be of some service to the Cossack nation.” |
| Все козаки притихли, когда выступил он теперь перед собранием, ибо давно не слышали от него никакого слова. Всякий хотел знать, что скажет Бовдюг. | All the Cossacks became silent when he now stepped forward before the assembly, for it was long since any speech from him had been heard. Every one wanted to know what Bovdug had to say. |
| – Пришла очередь и мне сказать слово, паны-братья! – так он начал. – Послушайте, дети, старого. Мудро сказал кошевой; и, как голова козацкого войска, обязанный приберегать его и пещись о войсковом скарбе, мудрее ничего он не мог сказать. Вот что! Это пусть будет первая моя речь! А теперь послушайте, что скажет моя другая речь. А вот что скажет моя другая речь: большую правду сказал и Тарас-полковник, – дай боже ему побольше веку и чтоб таких полковников было побольше на Украйне! Первый долг и первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на веку, не слышал я, паны-братья, чтобы козак покинул где или продал как-нибудь своего товарища. И те и другие нам товарищи; меньше их или больше – все равно, все товарищи, все нам дороги. Так вот какая моя речь: те, которым милы захваченные татарами, пусть отправляются за татарами, а которым милы полоненные ляхами и не хочется оставлять правого дела, пусть остаются. Кошевой по долгу пойдет с одной половиною за татарами, а другая половина выберет себе наказного атамана. А наказным атаманом, коли хотите послушать белой головы, не пригоне быть никому другому, как только одному Тарасу Бульбе. Нет из нас никого, равного ему в доблести. | “It is my turn to speak a word, brother gentles,” he began: “listen, my children, to an old man. The Koschevoi spoke well as the head of the Cossack army; being bound to protect it, and in respect to the treasures of the army he could say nothing wiser. That is so! Let that be my first remark; but now listen to my second. And this is my second remark: Taras spoke even more truly. God grant him many years, and that such leaders may be plentiful in the Ukraine! A Cossack’s first duty and honour is to guard comradeship. Never in all my life, brother gentles, have I heard of any Cossack deserting or betraying any of his comrades. Both those made captive at the Setch and these taken here are our comrades. Whether they be few or many, it makes no difference; all are our comrades, and all are dear to us. So this is my speech: Let those to whom the prisoners captured by the Tatars are dear set out after the Tatars; and let those to whom the captives of the Poles are dear, and who do not care to desert a righteous cause, stay behind. The Koschevoi, in accordance with his duty, will accompany one half in pursuit of the Tatars, and the other half can choose a hetman to lead them. But if you will heed the words of an old man, there is no man fitter to be the commanding hetman than Taras Bulba. Not one of us is his equal in heroism.” |
| Так сказал Бовдюг и затих; и обрадовались все козаки, что навел их таким образом на ум старый. Все вскинули вверх шапки и закричали: | Thus spoke Bovdug, and paused; and all the Cossacks rejoiced that the old man had in this manner brought them to an agreement. All flung up their caps and shouted, |
| – Спасибо тебе, батько! Молчал, молчал, долго молчал, да вот наконец и сказал. Недаром говорил, когда собирался в поход, что будешь пригоден козачеству: так и сделалось. | “Thanks, father! He kept silence for a long, long time, but he has spoken at last. Not in vain did he say, when we prepared for this expedition, that he might be useful to the Cossack nation: even so it has come to pass!” |
| – Что, согласны вы на то? – спросил кошевой. | “Well, are you agreed upon anything?” asked the Koschevoi. |
| – Все согласны! – закричали козами. | “We are all agreed!” cried the Cossacks. |
| – Стало быть, раде конец? | “Then the council is at an end?” |
| – Конец раде! – кричали козаки. | “At an end!” cried the Cossacks. |
| – Слушайте ж теперь войскового приказа, дети! – сказал кошевой, выступил вперед и надел шапку, а все запорожцы, сколько их ни было, сняли свои шапки и остались с непокрытыми головами, утупив очи в землю, как бывало всегда между козаками, когда собирался что говорить старший. | “Then listen to the military command, children,” said the Koschevoi, stepping forward, and putting on his cap; whilst all the Cossacks took off theirs, and stood with uncovered heads, and with eyes fixed upon the earth, as was always the custom among them when the leader prepared to speak. |
| – Теперь отделяйтесь, паны-братья! Кто хочет идти, ступай на правую сторону; кто остается, отходи на левую! Куды бо’льшая часть куреня переходит, туды и атаман; коли меньшая часть переходит, приставай к другим куреням. | “Now divide yourselves, brother gentles! Let those who wish to go stand on the right, and those who wish to stay, on the left. Where the majority of a kuren goes there its officers are to go: if the minority of a kuren goes over, it must be added to another kuren.” |
| И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. Которого куреня бо’льшая часть переходила, туда и куренной атаман переходил; которого малая часть, та приставала к другим куреням; и вышло без малого не поровну на всякой стороне. Захотели остаться: весь почти Незамайковский курень, бо’льшая половина Поповичевского куреня, весь Уманский курень, весь Каневский курень, бо’льшая половина Стебликивского куреня, бо’льшая половина Тымошевского куреня. Все остальные вызвались идти вдогон за татарами. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых козаков, Между теми, которые решились идти вслед за татарами, был Череватый, добрый старый козак, Покотыполе, Лемиш, Прокопович Хома; Демид Попович тоже перешел туда, потому что был сильно завзятого нрава козак – не мог долго высидеть на месте; с ляхами попробовал уже он дела, хотелось попробовать еще с татарами. Куренные были: Ностюган, Покрышка, Невылычкий; и много еще других славных и храбрых козаков захотело попробовать меча и могучего плеча в схватке с татарином. Немало было также сильно и сильно добрых козаков между теми, которые захотели остаться: куренные Демытрович, Кукубенко, Вертыхвист, Балабан, Бульбенко Остап. Потом много было еще других именитых и дюжих козаков: Вовтузенко, Черевыченко, Степан Гуска, Охрим Гуска, Мыкола Густый, Задорожний, Метелыця, Иван Закрутыгуба, Мосий Шило, Дьгтяренко, Сыдоренко, Пысаренко, потом другой Пысаренко, потом еще Пысаренко, и много было других добрых козаков. Все были хожалые, езжалые: ходили по анатольским берегам, по крымским солончакам и степям, по всем речкам большим и малым, которые впадали в Днепр, по всем заходам и днепровским островам; бывали в молдавской, волошской, в турецкой земле; изъездили всь Черное море двухрульными козацкими челнами; нападали в пятьдесят челнов в ряд на богатейшие и превысокие корабли, перетопили немало турецких галер и много-много выстреляли пороху на своем веку. Не раз драли на онучи дорогие паволоки и оксамиты. Не раз череши у штанных очкуров набивали все чистыми цехинами. А сколько всякий из них пропил и прогулял добра, ставшего бы другому на всю жизнь, того и счесть нельзя. Все спустили по-козацки, угощая весь мир и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть на свете. Еще и теперь у редкого из них не было закопано добра – кружек, серебряных ковшей и запястьев под камышами на днепровских островах, чтобы не довелось татарину найти его, если бы, в случае несчастья, удалось ему напасть врасплох на Сечь; но трудно было бы татарину найти его, потому что и сам хозяин уже стал забывать, в котором месте закопал его. Такие-то были козаки, захотевшие остаться и отмстить ляхам за верных товарищей и Христову веру! Старый козак Бовдюг захотел также остаться с ними, сказавши: “Теперь не такие мои лета, чтобы гоняться за татарами, а тут есть место, где опочить доброю козацкою смертью. Давно уже просил я у бога, чтобы если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войне за святое и христианское дело. Так оно и случилось. Славнейшей кончины уже не будет в другом месте для старого козака”. | Then they began to take up their positions, some to the right and some to the left. Whither the majority of a kuren went thither the hetman went also; and the minority attached itself to another kuren. It came out pretty even on both sides. Those who wished to remain were nearly the whole of the Nezamaikovsky kuren, the entire Oumansky kuren, the entire Kanevsky kuren, and the larger half of the Popovitchsky, the Timoschevsky and the Steblikivsky kurens. All the rest preferred to go in pursuit of the Tatars. On both sides there were many stout and brave Cossacks. Among those who decided to follow the Tatars were Tcherevaty, and those good old Cossacks Pokotipole, Lemisch, and Prokopovitch Koma. Demid Popovitch also went with that party, because he could not sit long in one place: he had tried his hand on the Lyakhs and wanted to try it on the Tatars also. The hetmans of kurens were Nostiugan, Pokruischka, Nevnimsky, and numerous brave and renowned Cossacks who wished to test their swords and muscles in an encounter with the Tatars. There were likewise many brave Cossacks among those who preferred to remain, including the kuren hetmans, Demitrovitch, Kukubenko, Vertikhvist, Balan, and Ostap Bulba. Besides these there were plenty of stout and distinguished warriors: Vovtuzenko, Tcherevitchenko, Stepan Guska, Okhrim Guska, Vikola Gonstiy, Zadorozhniy, Metelitza, Ivan Zakrutiguba, Mosiy Pisarenko, and still another Pisarenko, and many others. They were all great travellers; they had visited the shores of Anatolia, the salt marshes and steppes of the Crimea, all the rivers great and small which empty into the Dnieper, and all the fords and islands of the Dnieper; they had been in Moldavia, Wallachia, and Turkey; they had sailed all over the Black Sea, in their double-ruddered Cossack boats; they had attacked with fifty skiffs in line the tallest and richest ships; they had sunk many a Turkish galley, and had burnt much, very much powder in their day; more than once they had made foot-bandages from velvets and rich stuffs; more than once they had beaten buckles for their girdles out of sequins. Every one of them had drunk and revelled away what would have sufficed any other for a whole lifetime, and had nothing to show for it. They spent it all, like Cossacks, in treating all the world, and in hiring music that every one might be merry. Even now few of them had amassed any property: some caskets, cups, and bracelets were hidden beneath the reeds on the islands of the Dnieper in order that the Tatars might not find them if by mishap they should succeed in falling suddenly on the Setch; but it would have been difficult for the Tatars to find them, for the owners themselves had forgotten where they had buried them. Such were the Cossacks who wished to remain and take vengeance on the Lyakhs for their trusty comrades and the faith of Christ. The old Cossack Bovdug wished also to remain with them, saying, “I am not of an age to pursue the Tatars, but this is a place to meet a good Cossack death. I have long prayed God that when my life was to end I might end it in battle for a holy and Christian cause. And so it has come to pass. There can be no more glorious end in any other place for the aged Cossack.” |
| Когда отделились все и стали на две стороны в два ряда куренями, кошевой прошел промеж рядов и сказал: | When they had all separated, and were ranged in two lines on opposite sides, the Koschevoi passed through the ranks, and said, |
| – А что, панове-братове, довольны одна сторона другою? | “Well, brother gentles, are the two parties satisfied with each other?” |
| – Все довольны, батько! – отвечали козаки. | “All satisfied, father!” replied the Cossacks. |
| – Ну, так поцелуйтесь же и дайте друг другу прощанье, ибо, бог знает, приведется ли в жизни еще увидеться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что велит козацкая честь. | “Then kiss each other, and bid each other farewell; for God knows whether you will ever see each other alive again. Obey your hetman, but you know yourselves what you have to do: you know yourselves what Cossack honour requires.” |
| И все козаки, сколько их ни было, перецеловались между собою. Начали первые атаманы и, поведши рукою седые усы свои, поцеловались навкрест и потом взялись за руки и крепко держали руки. Хотел один другого спросить: “Что, пане-брате, увидимся или не увидимся?” – да и не спросили, замолчали, – и загадались обе седые головы. А козаки все до одного прощались, зная, что много будет работы тем и другим; но не повершили, однако ж, тотчас разлучиться, а повершили дождаться темной ночной поры, чтобы не дать неприятелю увидеть убыль в козацком войске. Потом все отправились по куреням обедать. | And all the Cossacks kissed each other. The hetmans first began it. Stroking down their grey moustaches, they kissed each other, making the sign of the cross, and then, grasping hands firmly, wanted to ask of each other, “Well, brother, shall we see one another again or not?” But they did not ask the question: they kept silence, and both grey-heads were lost in thought. Then the Cossacks took leave of each other to the last man, knowing that there was a great deal of work before them all. Yet they were not obliged to part at once: they would have to wait until night in order not to let the Lyakhs perceive the diminution in the Cossack army. Then all went off, by kurens, to dine. |
| После обеда все, которым предстояла дорога, легли отдыхать и спали крепко и долгим сном, как будто чуя, что, может, последний сон доведется им вкусить на такой свободе. Спали до самого заходу солнечного; а как зашло солнце и немного стемнело, стали мазать телеги. Снарядясь, пустили вперед возы, а сами, пошапковавшись еще раз с товарищами, тихо пошли вслед за возами. Конница чинно, без покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотела вслед за пешими, и скоро стало их не видно в темноте. Глухо отдавалась только конская топь да скрып иного колеса, которое еще не расходилось или не было хорошо подмазано за ночною темнотою. | After dinner, all who had the prospect of the journey before them lay down to rest, and fell into a deep and long sleep, as though foreseeing that it was the last sleep they should enjoy in such security. They slept even until sunset; and when the sun had gone down and it had grown somewhat dusky, began to tar the waggons. All being in readiness, they sent the waggons ahead, and having pulled off their caps once more to their comrades, quietly followed the baggage train. The cavalry, without shouts or whistles to the horses, tramped lightly after the foot-soldiers, and all soon vanished in the darkness. The only sound was the dull thud of horses’ hoofs, or the squeak of some wheel which had not got into working order, or had not been properly tarred amid the darkness. |
| Долго еще оставшиеся товарищи махали им издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своим местам, когда увидали при высветивших ясно звездах, что половины телег уже не было на на месте, что многих, многих нет, невесело стало у всякого на сердце, и все задумались против воли, утупивши в землю гульливые свои головы. | Their comrades stood for some time waving their hands, though nothing was visible. But when they returned to their camping places and saw by the light of the gleaming stars that half the waggons were gone, and many of their comrades, each man’s heart grew sad; all became involuntarily pensive, and drooped their heads towards the earth. |
| Тарас видел, как смутны стали козацкие ряды и как уныние, неприличное храброму, стало тихо обнимать козацкие головы, но молчал: он хотел дать время всему, чтобы пообыклись они и к унынью, наведенному прощаньем с товарищами, а между тем в тишине готовился разом и вдруг разбудить их всех, гикнувши по-казацки, чтобы вновь и с большею силой, чем прежде, воротилась бодрость каждому в душу, на что способна одна только славянская порода – широкая, могучая порода перед другими, что море перед мелководными реками. Коли время бурно, все превращается оно в рев и гром, бугря и подымая валы, как не поднять их бессильным рекам; коли же безветренно и тихо, яснее всех рек расстилает оно свою неоглядную склянную поверхность, вечную негу очей. | Taras saw how troubled were the Cossack ranks, and that sadness, unsuited to brave men, had begun to quietly master the Cossack hearts; but he remained silent. He wished to give them time to become accustomed to the melancholy caused by their parting from their comrades; but, meanwhile, he was preparing to rouse them at one blow, by a loud battle-cry in Cossack fashion, in order that good cheer might return to the soul of each with greater strength than before. Of this only the Slav nature, a broad, powerful nature, which is to others what the sea is to small rivulets, is capable. In stormy times it roars and thunders, raging, and raising such waves as weak rivers cannot throw up; but when it is windless and quiet, it spreads its boundless glassy surface, clearer than any river, a constant delight to the eye. |
| И повелел Тарас распаковать своим слугам один из возов, стоявший особняком. Больше и крепче всех других он был в козацком обозе; двойною крепкою шиною были обтянуты дебелые колеса его; грузно был он навьючен, укрыт попонами, крепкими воловьими кожами и увязан туго засмоленными веревками. В возу были всь баклаги и бочонки старого доброго вина, которое долго лежало у Тараса в погребах. Взял он его про запас, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута и будет всем предстоять дело, достойное на передачу потомкам, то чтобы всякому, до единого, козаку досталось выпить заповедного вина, чтобы в великую минуту великое бы и чувство овладело человеком. Услышав полковничий приказ, слуги бросились к возам, палашами перерезывали крепкие веревки, снимали толстые воловьи кожи и попоны и стаскивали с воза баклаги и бочонки. | Taras ordered his servants to unload one of the waggons which stood apart. It was larger and stronger than any other in the Cossack camp; two stout tires encircled its mighty wheels. It was heavily laden, covered with horsecloths and strong wolf-skins, and firmly bound with tightly drawn tarred ropes. In the waggon were flasks and casks of good old wine, which had long lain in Taras’s cellar. He had brought it along, in case a moment should arrive when some deed awaited them worthy of being handed down to posterity, so that each Cossack, to the very last man, might quaff it, and be inspired with sentiments fitting to the occasion. On receiving his command, the servants hastened to the waggon, hewed asunder the stout ropes with their swords, removed the thick wolf-skins and horsecloths, and drew forth the flasks and casks. |
| – А берите все, – сказал Бульба, – все, сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковш, или черпак, которым поит коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляй обе горсти. | “Take them all,” said Bulba, “all there are; take them, that every one may be supplied. Take jugs, or the pails for watering the horses; take sleeve or cap; but if you have nothing else, then hold your two hands under.” |
| И козаки все, сколько ни было их, брали, у кого был ковш, у кого черпак, которым поил коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлял и так обе горсти. Всем им слуги Тарасовы, расхаживая промеж рядами, наливали из баклаг и бочонков. Но не приказал Тарас пить, пока не даст знаку, чтобы выпить им всем разом. Видно было, что он хотел что-то сказать. Знал Тарас, что как ни сильно само по себе старое доброе вино и как ни способно оно укрепить дух человека, но если к нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крепче будет сила и вина и духа. | All the Cossacks seized something: one took a jug, another a pail, another a sleeve, another a cap, and another held both hands. Taras’s servants, making their way among the ranks, poured out for all from the casks and flasks. But Taras ordered them not to drink until he should give the signal for all to drink together. It was evident that he wished to say something. He knew that however good in itself the wine might be and however fitted to strengthen the spirit of man, yet, if a suitable speech were linked with it, then the strength of the wine and of the spirit would be doubled. |
| – Я угощаю вас, паны-братья, – так сказал Бульба, – не в честь того, что вы сделали меня своим атаманом, как ни велика подобная честь, не в честь также прощанья с нашими товарищами: нет, в другое время прилично то и другое; не такая теперь перед нами минута. Перед нами дела великого поту, великой козацкой доблести! Итак, выпьем, товарищи, разом выпьем поперед всего за святую православную веру: чтобы пришло наконец такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была бы одна святая вера, и все, сколько ни есть бусурменов, все бы сделались христианами! Да за одним уже разом выпьем и за Сечь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурменству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один одного лучше, один одного краше. Да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, которые не постыдили товарищества и не выдали своих. Так за веру, пане-братове, за веру! | “I treat you, brother gentles,” thus spoke Bulba, “not in honour of your having made me hetman, however great such an honour may be, nor in honour of our parting from our comrades. To do both would be fitting at a fitting time; but the moment before us is not such a time. The work before us is great both in labour and in glory for the Cossacks. Therefore let us drink all together, let us drink before all else to the holy orthodox faith, that the day may finally come when it may be spread over all the world, and that everywhere there may be but one faith, and that all Mussulmans may become Christians. And let us also drink together to the Setch, that it may stand long for the ruin of the Mussulmans, and that every year there may issue forth from it young men, each better, each handsomer than the other. And let us drink to our own glory, that our grandsons and their sons may say that there were once men who were not ashamed of comradeship, and who never betrayed each other. Now to the faith, brother gentles, to the faith!” |
| – За веру! – загомонели все, стоявшие в ближних рядах, густыми голосами. | To the faith!” cried those standing in the ranks hard by, with thick voices. “ |
| – За веру! – подхватили дальние; и все что ни было, и старое и молодое, выпило за веру. | “To the faith!” those more distant took up the cry; and all, both young and old, drank to the faith. |
| – За Сичь! – сказал Тарас и высоко поднял над головою руку. | “To the Setch!” said Taras, raising his hand high above his head. |
| < < < | > > > |
| Двуязычный текст, подготовленный Akirill.com , размещенные на сайте Akirill.com 17 июня 2022 года. 2022 года. Каждую из книг (на английском или русском языках) можно забрать отдельно и повторно использовать в личных и некоммерческих целях. Они свободны от авторского права. При любом совместном использовании двух книг должно быть указано их происхождение https://www.Akirill.com | Bilingual text prepared by Akirill.com , deposited on the site Akirill.com on June 17, 2022. Each of the books (English or French) can be taken back separately and reused for personal and non-commercial purposes. They are free of copyright. Any use of the two books side by side must mention their origin https://www.Akirill.com |
Taras Bulba , by Nikolai Vasilievich Gogol
| If you liked this page, don’t forget to like and share. Si vous avez aimé cette page, n’oublier pas d’aimer et de partager. |
| Subscribe to not miss anything Abonnez-vous pour ne rien manquer |
| Check out our latest posts |
| Découvrez nos derniers articles |