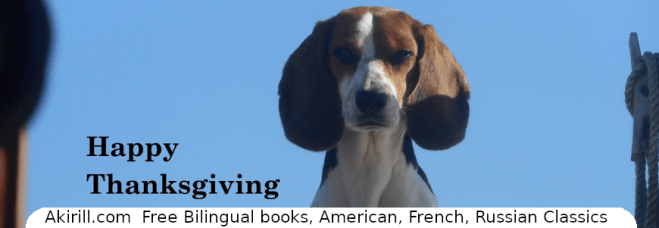Это не дословный перевод, а книга на двух языках, вышедшие бок о бок. Вы можете прочитать его на русском, английском или на обоих языках.
This is not a word-by-word translation but the books in the two languages put side by side. You can read it in Russian, in English or both.
Братья Карамазовы. Роман Федора Достоевского
| Братья Карамазовы. Роман Федора Достоевского | The Brothers Karamazov, by Fyodor Dostoyevsky |
| Том 1 | Book 1 |
| Часть 1 | Part 1 |
| < < < BILINGUAL BOOKS | > > > |
| Глава 1 | Chapter 1 |
| Посвящается Анне Григорьевне Достоевской | |
| Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. (Евангелие от Иоанна, Глава XII, 24.) | |
| ОТ АВТОРА. | |
| Начиная жизнеописание героя моего, Алексея Федоровича Карамазова, нахожусь в некотором недоумении. А именно: хотя я и называю Алексея Федоровича моим героем, но однако сам знаю, что человек он отнюдь не великий, а посему и предвижу неизбежные вопросы в роде таковых: чем же замечателен ваш Алексей Федорович, что вы выбрали его своим героем? Что сделал он такого? Кому и чем известен? Почему я, читатель, должен тратить время на изучение фактов его жизни? | |
| Последний вопрос самый роковой, ибо на него могу лишь ответить: “Может быть увидите сами из романа”. Ну а коль прочтут роман и не увидят, не согласятся с примечательностью моего Алексея Федоровича? Говорю так, потому что с прискорбием это предвижу. Для меня он примечателен, но решительно сомневаюсь, успею ли это доказать читателю. Дело в том, что это пожалуй и деятель, но деятель неопределенный, не выяснившийся. Впрочем странно бы требовать в такое время как наше от людей ясности. Одно, пожалуй, довольно несомненно: это человек странный, даже чудак. Но странность и чудачество скорее вредят, чем дают право на внимание, особенно когда все стремятся к тому, чтоб объединить частности и найти хоть какой-нибудь общий толк во всеобщей бестолочи. Чудак же в большинстве случаев частность и обособление. Не так ли? | |
| Вот если вы не согласитесь с этим последним тезисом, и ответите: “Не так” или “не всегда так”, то я пожалуй и ободрюсь духом на счет значения героя моего Алексея Федоровича. Ибо не только чудак “не всегда” частность и обособление, а напротив бывает так, что он-то пожалуй и носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи – все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались… | |
| Я бы впрочем не пускался в эти весьма нелюбопытные и смутные объяснения и начал бы просто-за-просто без предисловия: понравится, так и так прочтут; но беда в том, что жизнеописание-то у меня одно, а романов два. Главный роман второй, – это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще тринадцать лет назад, и есть почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным. Но таким образом еще усложняется первоначальное мое затруднение: если уж я, то-есть сам биограф, нахожу, что и одного-то романа может быть было бы для такого скромного и неопределенного героя излишне, то каково же являться с двумя и чем объяснить такую с моей стороны заносчивость? | |
| Теряясь в разрешении сих вопросов, решаюсь их обойти безо всякого разрешения. Разумеется, прозорливый читатель уже давно угадал, что я с самого начала к тому клонил, и только досадовал на меня, зачем я даром трачу бесплодные слова и драгоценное время. На это отвечу уже в точности: тратил я бесплодные слова и драгоценное время, во-первых, из вежливости, а во-вторых, из хитрости: “все-таки, дескать, заране в чем-то предупредил”. Впрочем я даже рад тому, что роман мой разбился сам собою на два рассказа “при существенном единстве целого”: познакомившись с первым рассказом, читатель уже сам определит: стоит ли ему приниматься за второй? Конечно никто ничем не связан, можно бросить книгу и с двух страниц первого рассказа, с тем чтоб и не раскрывать более. Но ведь есть такие деликатные читатели, которые непременно захотят дочитать до конца, чтоб не ошибиться в беспристрастном суждении, таковы например все русские критики. Так вот пред такими-то все-таки сердцу легче: несмотря на всю их аккуратность и добросовестность все-таки даю им самый законный предлог бросить рассказ на первом эпизоде романа. Ну вот и все предисловие. Я совершенно согласен, что оно лишнее, но так как оно уже написано, то пусть и останется. | |
| А теперь к делу. Akirill.com | |
| * ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. * | PART I |
| КНИГА ПЕРВАЯ. | Book I. |
| История одной семейки. | The History Of A Family |
| I. ФЕДОР ПАВЛОВИЧ КАРАМАЗОВ. | Chapter I. Fyodor Pavlovitch Karamazov |
| Алексей Федорович Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда Федора Павловича Карамазова, столь известного в свое время (да и теперь еще у нас припоминаемого) по трагической и темной кончине своей, приключившейся ровно тринадцать лет назад и о которой сообщу в своем месте. Теперь же скажу об этом “помещике” (как его у нас называли, хотя он всю жизнь совсем почти не жил в своем поместьи) лишь то, что это был странный тип, довольно часто однако встречающийся, именно тип человека не только дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолкового, – но из таких однако бестолковых, которые умеют отлично обделывать свои имущественные делишки, и только кажется одни эти. Федор Павлович, например, начал почти что ни с чем, помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики, а между тем в момент кончины его у него оказалось до ста тысяч рублей чистыми деньгами. И в то же время он все-таки всю жизнь свою продолжал быть одним из бестолковейших сумасбродов по всему нашему уезду. Повторю еще: тут не глупость; большинство этих сумасбродов довольно умно и хитро, – а именно бестолковость, да еще какая-то особенная, национальная. | Alexey Fyodorovitch Karamazov was the third son of Fyodor Pavlovitch Karamazov, a land owner well known in our district in his own day, and still remembered among us owing to his gloomy and tragic death, which happened thirteen years ago, and which I shall describe in its proper place. For the present I will only say that this “landowner”—for so we used to call him, although he hardly spent a day of his life on his own estate—was a strange type, yet one pretty frequently to be met with, a type abject and vicious and at the same time senseless. But he was one of those senseless persons who are very well capable of looking after their worldly affairs, and, apparently, after nothing else. Fyodor Pavlovitch, for instance, began with next to nothing; his estate was of the smallest; he ran to dine at other men’s tables, and fastened on them as a toady, yet at his death it appeared that he had a hundred thousand roubles in hard cash. At the same time, he was all his life one of the most senseless, fantastical fellows in the whole district. I repeat, it was not stupidity—the majority of these fantastical fellows are shrewd and intelligent enough—but just senselessness, and a peculiar national form of it. |
| Он был женат два раза и у него было три сына, – старший, Дмитрий Федорович, от первой супруги, а остальные два, Иван и Алексей, от второй. Первая супруга Федора Павловича была из довольно богатого и знатного рода дворян Миусовых, тоже помещиков нашего уезда. Как именно случилось, что девушка с приданым, да еще красивая и сверх того из бойких умниц, столь не редких у нас в теперешнее поколение, но появлявшихся уже и в прошлом, могла выйти замуж за такого ничтожного “мозгляка”, как все его тогда называли, объяснять слишком не стану. Ведь знал же я одну девицу, еще в запрошлом “романтическом” поколении, которая после нескольких лет загадочной любви к одному господину, за которого впрочем всегда могла выйти замуж самым спокойным образом, кончила однако же тем, что сама навыдумала себе непреодолимые препятствия и в бурную ночь бросилась с высокого берега похожего на утес в довольно глубокую и быструю реку и погибла в ней решительно от собственных капризов, единственно из-за того, чтобы походить на Шекспировскую Офелию, и даже так, что будь этот утес, столь давно ею намеченный и излюбленный, не столь живописен, а будь на его месте лишь прозаический плоский берег, то самоубийства может быть не произошло бы вовсе. Факт этот истинный, и надо думать, что в нашей русской жизни, в два или три последние поколения, таких или однородных с ним фактов происходило не мало. Подобно тому и поступок Аделаиды Ивановны Миусовой был без сомнения отголоском чужих веяний и тоже пленной мысли раздражением. Ей может быть захотелось заявить женскую самостоятельность, пойти против общественных условий, против деспотизма своего родства и семейства, а услужливая фантазия убедила ее, положим на один только миг, что Федор Павлович, несмотря на свой чин приживальщика, все-таки один из смелейших и насмешливейших людей той, переходной ко всему лучшему, эпохи, тогда как он был только злой шут и больше ничего. Пикантное состояло еще и в том, что дело обошлось увозом, а это очень прельстило Аделаиду Ивановну. Федор же Павлович на все подобные пассажи был даже и по социальному своему положению весьма тогда подготовлен, ибо страстно желал устроить свою карьеру, хотя чем бы то ни было; примазаться же к хорошей родне и взять приданое было очень заманчиво. Что же до обоюдной любви, то ее вовсе, кажется, не было – ни со стороны невесты, ни с его стороны, несмотря даже на красивость Аделаиды Ивановны. Так что случай этот был может быть единственным в своем роде в жизни Федора Павловича, сладострастнейшего человека во всю свою жизнь, в один миг готового прильнуть к какой угодно юпке, только бы та его поманила. А между тем одна только эта женщина не произвела в нем со страстной стороны никакого особенного впечатления. | He was married twice, and had three sons, the eldest, Dmitri, by his first wife, and two, Ivan and Alexey, by his second. Fyodor Pavlovitch’s first wife, Adelaïda Ivanovna, belonged to a fairly rich and distinguished noble family, also landowners in our district, the Miüsovs. How it came to pass that an heiress, who was also a beauty, and moreover one of those vigorous, intelligent girls, so common in this generation, but sometimes also to be found in the last, could have married such a worthless, puny weakling, as we all called him, I won’t attempt to explain. I knew a young lady of the last “romantic” generation who after some years of an enigmatic passion for a gentleman, whom she might quite easily have married at any moment, invented insuperable obstacles to their union, and ended by throwing herself one stormy night into a rather deep and rapid river from a high bank, almost a precipice, and so perished, entirely to satisfy her own caprice, and to be like Shakespeare’s Ophelia. Indeed, if this precipice, a chosen and favorite spot of hers, had been less picturesque, if there had been a prosaic flat bank in its place, most likely the suicide would never have taken place. This is a fact, and probably there have been not a few similar instances in the last two or three generations. Adelaïda Ivanovna Miüsov’s action was similarly, no doubt, an echo of other people’s ideas, and was due to the irritation caused by lack of mental freedom. She wanted, perhaps, to show her feminine independence, to override class distinctions and the despotism of her family. And a pliable imagination persuaded her, we must suppose, for a brief moment, that Fyodor Pavlovitch, in spite of his parasitic position, was one of the bold and ironical spirits of that progressive epoch, though he was, in fact, an ill‐natured buffoon and nothing more. What gave the marriage piquancy was that it was preceded by an elopement, and this greatly captivated Adelaïda Ivanovna’s fancy. Fyodor Pavlovitch’s position at the time made him specially eager for any such enterprise, for he was passionately anxious to make a career in one way or another. To attach himself to a good family and obtain a dowry was an alluring prospect. As for mutual love it did not exist apparently, either in the bride or in him, in spite of Adelaïda Ivanovna’s beauty. This was, perhaps, a unique case of the kind in the life of Fyodor Pavlovitch, who was always of a voluptuous temper, and ready to run after any petticoat on the slightest encouragement. She seems to have been the only woman who made no particular appeal to his senses. |
| Аделаида Ивановна, тотчас же после увоза, мигом разглядела, что мужа своего она только презирает и больше ничего. Таким образом следствия брака обозначились с чрезвычайною быстротой. Несмотря на то, что семейство даже довольно скоро примирилось с событием и выделило беглянке приданое, между супругами началась самая беспорядочная жизнь и вечные сцены. Рассказывали, что молодая супруга выказала при том несравненно более благородства и возвышенности, нежели Федор Павлович, который, как известно теперь, подтибрил у нее тогда же, разом, все ее денежки, до двадцати пяти тысяч, только что она их получила, так что тысячки эти с тех пор решительно как бы канули для нее в воду. Деревеньку же и довольно хороший городской дом, которые тоже пошли ей в приданое, он долгое время и изо всех сил старался перевести на свое имя чрез совершение какого-нибудь подходящего акта, и наверно бы добился того из одного так-сказать презрения и отвращения к себе, которое он возбуждал в своей супруге ежеминутно своими бесстыдными вымогательствами и вымаливаниями, из одной ее душевной усталости, только чтоб отвязался. Но к счастию вступилось семейство Аделаиды Ивановны и ограничило хапугу. Положительно известно, что между супругами происходили нередкие драки, но по преданию бил не Федор Павлович, а била Аделаида Ивановна, дама горячая, смелая, смуглая, нетерпеливая, одаренная замечательною физическою силой. Наконец она бросила дом и сбежала от Федора Павловича с одним погибавшим от нищеты семинаристом-учителем, оставив Федору Павловичу на руках трехлетнего Митю. Федор Павлович мигом завел в доме целый гарем и самое забубенное пьянство, а в антрактах ездил чуть не по всей губернии и слезно жаловался всем и каждому на покинувшую его Аделаиду Ивановну, при чем сообщал такие подробности, которые слишком бы стыдно было сообщать супругу о своей брачной жизни. Главное, ему как будто приятно было и даже льстило разыгрывать пред всеми свою смешную роль обиженного супруга и с прикрасами даже расписывать подробности о своей обиде. “Подумаешь, что вы, Федор Павлович, чин получили, так вы довольны несмотря на всю вашу горесть”, говорили ему насмешники. Многие даже прибавляли, что он рад явиться в подновленном виде шута и что нарочно, для усиления смеха, делает вид, что не замечает своего комического положения. Кто знает, впрочем, может быть было это в нем и наивно. Наконец ему удалось открыть следы своей беглянки. Бедняжка оказалась в Петербурге, куда перебралась с своим семинаристом и где беззаветно пустилась в самую полную эманципацию. Федор Павлович немедленно захлопотал и стал собираться в Петербург, – для чего? – он конечно и сам не знал. Право, может быть он бы тогда и поехал; но предприняв такое решение, тотчас же почел себя в особенном праве, для бодрости, пред дорогой, пуститься вновь в самое безбрежное пьянство. И вот в это-то время, семейством его супруги получилось известие о смерти ее в Петербурге. Она как-то вдруг умерла, где-то на чердаке, по одним сказаниям от тифа, а по другим, будто бы с голоду. Федор Павлович узнал о смерти своей супруги пьяный, говорят, побежал по улице и начал кричать, в радости воздевая руки к небу: “ныне отпущаеши”, а по другим плакал навзрыд как маленький ребенок и до того, что, говорят, жалко даже было смотреть на него, несмотря на все к нему отвращение. Очень может быть, что было и то и другое, то-есть, что и радовался он своему освобождению и плакал по освободительнице, все вместе. В большинстве случаев люди, даже злодеи, гораздо наивнее и простодушнее, чем мы вообще о них заключаем. Да и мы сами тоже. | Immediately after the elopement Adelaïda Ivanovna discerned in a flash that she had no feeling for her husband but contempt. The marriage accordingly showed itself in its true colors with extraordinary rapidity. Although the family accepted the event pretty quickly and apportioned the runaway bride her dowry, the husband and wife began to lead a most disorderly life, and there were everlasting scenes between them. It was said that the young wife showed incomparably more generosity and dignity than Fyodor Pavlovitch, who, as is now known, got hold of all her money up to twenty‐five thousand roubles as soon as she received it, so that those thousands were lost to her for ever. The little village and the rather fine town house which formed part of her dowry he did his utmost for a long time to transfer to his name, by means of some deed of conveyance. He would probably have succeeded, merely from her moral fatigue and desire to get rid of him, and from the contempt and loathing he aroused by his persistent and shameless importunity. But, fortunately, Adelaïda Ivanovna’s family intervened and circumvented his greediness. It is known for a fact that frequent fights took place between the husband and wife, but rumor had it that Fyodor Pavlovitch did not beat his wife but was beaten by her, for she was a hot‐tempered, bold, dark‐browed, impatient woman, possessed of remarkable physical strength. Finally, she left the house and ran away from Fyodor Pavlovitch with a destitute divinity student, leaving Mitya, a child of three years old, in her husband’s hands. Immediately Fyodor Pavlovitch introduced a regular harem into the house, and abandoned himself to orgies of drunkenness. In the intervals he used to drive all over the province, complaining tearfully to each and all of Adelaïda Ivanovna’s having left him, going into details too disgraceful for a husband to mention in regard to his own married life. What seemed to gratify him and flatter his self‐love most was to play the ridiculous part of the injured husband, and to parade his woes with embellishments. “One would think that you’d got a promotion, Fyodor Pavlovitch, you seem so pleased in spite of your sorrow,” scoffers said to him. Many even added that he was glad of a new comic part in which to play the buffoon, and that it was simply to make it funnier that he pretended to be unaware of his ludicrous position. But, who knows, it may have been simplicity. At last he succeeded in getting on the track of his runaway wife. The poor woman turned out to be in Petersburg, where she had gone with her divinity student, and where she had thrown herself into a life of complete emancipation. Fyodor Pavlovitch at once began bustling about, making preparations to go to Petersburg, with what object he could not himself have said. He would perhaps have really gone; but having determined to do so he felt at once entitled to fortify himself for the journey by another bout of reckless drinking. And just at that time his wife’s family received the news of her death in Petersburg. She had died quite suddenly in a garret, according to one story, of typhus, or as another version had it, of starvation. Fyodor Pavlovitch was drunk when he heard of his wife’s death, and the story is that he ran out into the street and began shouting with joy, raising his hands to Heaven: “Lord, now lettest Thou Thy servant depart in peace,” but others say he wept without restraint like a little child, so much so that people were sorry for him, in spite of the repulsion he inspired. It is quite possible that both versions were true, that he rejoiced at his release, and at the same time wept for her who released him. As a general rule, people, even the wicked, are much more naïve and simple‐hearted than we suppose. And we ourselves are, too. |
| II. ПЕРВОГО СЫНА СПРОВАДИЛ. | Chapter II. He Gets Rid Of His Eldest Son |
| Конечно можно представить себе, каким воспитателем и отцом мог быть такой человек. С ним как с отцом именно случилось то, что должно было случиться, то-есть он вовсе и совершенно бросил своего ребенка, прижитого с Аделаидой Ивановной, не по злобе к нему или не из каких-нибудь оскорбленно-супружеских чувств, а просто потому что забыл о нем совершенно. Пока он докучал всем своими слезами и жалобами, а дом свой обратил в развратный вертеп, трехлетнего мальчика Митю взял на свое попечение верный слуга этого дома Григорий, и не позаботься он тогда о нем, то может быть на ребенке некому было бы переменить рубашонку. К тому же так случилось, что родня ребенка по матери тоже как бы забыла о нем в первое время. Деда его, то-есть самого господина Миусова, отца Аделаиды Ивановны, тогда уже не было в живых; овдовевшая супруга его, бабушка Мити, переехавшая в Москву, слишком расхворалась, сестры же повышли замуж, так что почти целый год пришлось Мите пробыть у слуги Григория и проживать у него в дворовой избе. Впрочем если бы папаша о нем и вспомнил (не мог же он в самом деле не знать о его существовании), то и сам сослал бы его опять в избу, так как ребенок все же мешал бы ему в его дебоширстве. Но случилось так, что из Парижа вернулся двоюродный брат покойной Аделаиды Ивановны, Петр Александрович Миусов, многие годы сряду выживший потом за границей, тогда же еще очень молодой человек, но человек особенный между Миусовыми, просвещенный, столичный, заграничный и при том всю жизнь свою европеец, а под конец жизни либерал сороковых и пятидесятых годов. В продолжение своей карьеры он перебывал в связях со многими либеральнейшими людьми своей эпохи, и в России, и за границей, знавал лично и Прудона и Бакунина и особенно любил вспоминать и рассказывать, уже под концом своих странствий, о трех днях февральской парижской революции сорок восьмого года, намекая, что чуть ли и сам он не был в ней участником на баррикадах. Это было одно из самых отраднейших воспоминаний его молодости. Имел он состояние независимое, по прежней пропорции около тысячи душ. Превосходное имение его находилось сейчас же на выезде из нашего городка и граничило с землей нашего знаменитого монастыря, с которым Петр Александрович, еще в самых молодых летах, как только получил наследство, мигом начал нескончаемый процесс за право каких-то ловель в реке, или порубок в лесу, доподлинно не знаю, но начать процесс с “клерикалами” почел даже своею гражданскою и просвещенною обязанностью. Услышав все про Аделаиду Ивановну, которую, разумеется, помнил и когда-то даже заметил, и узнав, что остался Митя, он, несмотря на все молодое негодование свое и презрение к Федору Павловичу, в это дело ввязался. Тут-то он с Федором Павловичем в первый раз и познакомился. Он прямо ему объявил, что желал бы взять воспитание ребенка на себя. Он долго потом рассказывал, в виде характерной черты, что когда он заговорил с Федором Павловичем о Мите, то тот некоторое время имел вид совершенно не понимающего, о каком таком ребенке идет дело, и даже как бы удивился, что у него есть где-то в доме маленький сын. Если в рассказе Петра Александровича могло быть преувеличение, то все же должно было быть и нечто похожее на правду. Но действительно Федор Павлович всю жизнь свою любил представляться, вдруг проиграть пред вами какую-нибудь неожиданную роль, и, главное, безо всякой иногда надобности, даже в прямой ущерб себе, как в настоящем например случае. Черта эта впрочем свойственна чрезвычайно многим людям и даже весьма умным, не то что Федору Павловичу. Петр Александрович повел дело горячо и даже назначен был (купно с Федором Павловичем) в опекуны ребенку, потому что все же после матери оставалось именьице, дом и поместье. Митя действительно переехал к этому двоюродному дяде, но собственного семейства у того не было, а так как сам он, едва лишь уладив и обеспечив свои денежные получения с своих имений, немедленно поспешил опять надолго в Париж, то ребенка и поручил одной из своих двоюродных теток, одной московской барыне. Случилось так, что обжившись в Париже и он забыл о ребенке, особенно когда настала та самая февральская революция, столь поразившая его воображение, и о которой он уже не мог забыть всю свою жизнь. Московская же барыня умерла и Митя перешел к одной из замужних ее дочерей. Кажется, он и еще потом переменил в четвертый раз гнездо. Об этом я теперь распространяться не стану, тем более, что много еще придется рассказывать об этом первенце Федора Павловича, а теперь лишь ограничиваюсь самыми необходимыми о нем сведениями, без которых мне и романа начать невозможно. | You can easily imagine what a father such a man could be and how he would bring up his children. His behavior as a father was exactly what might be expected. He completely abandoned the child of his marriage with Adelaïda Ivanovna, not from malice, nor because of his matrimonial grievances, but simply because he forgot him. While he was wearying every one with his tears and complaints, and turning his house into a sink of debauchery, a faithful servant of the family, Grigory, took the three‐year‐old Mitya into his care. If he hadn’t looked after him there would have been no one even to change the baby’s little shirt. It happened moreover that the child’s relations on his mother’s side forgot him too at first. His grandfather was no longer living, his widow, Mitya’s grandmother, had moved to Moscow, and was seriously ill, while his daughters were married, so that Mitya remained for almost a whole year in old Grigory’s charge and lived with him in the servant’s cottage. But if his father had remembered him (he could not, indeed, have been altogether unaware of his existence) he would have sent him back to the cottage, as the child would only have been in the way of his debaucheries. But a cousin of Mitya’s mother, Pyotr Alexandrovitch Miüsov, happened to return from Paris. He lived for many years afterwards abroad, but was at that time quite a young man, and distinguished among the Miüsovs as a man of enlightened ideas and of European culture, who had been in the capitals and abroad. Towards the end of his life he became a Liberal of the type common in the forties and fifties. In the course of his career he had come into contact with many of the most Liberal men of his epoch, both in Russia and abroad. He had known Proudhon and Bakunin personally, and in his declining years was very fond of describing the three days of the Paris Revolution of February 1848, hinting that he himself had almost taken part in the fighting on the barricades. This was one of the most grateful recollections of his youth. He had an independent property of about a thousand souls, to reckon in the old style. His splendid estate lay on the outskirts of our little town and bordered on the lands of our famous monastery, with which Pyotr Alexandrovitch began an endless lawsuit, almost as soon as he came into the estate, concerning the rights of fishing in the river or wood‐cutting in the forest, I don’t know exactly which. He regarded it as his duty as a citizen and a man of culture to open an attack upon the “clericals.” Hearing all about Adelaïda Ivanovna, whom he, of course, remembered, and in whom he had at one time been interested, and learning of the existence of Mitya, he intervened, in spite of all his youthful indignation and contempt for Fyodor Pavlovitch. He made the latter’s acquaintance for the first time, and told him directly that he wished to undertake the child’s education. He used long afterwards to tell as a characteristic touch, that when he began to speak of Mitya, Fyodor Pavlovitch looked for some time as though he did not understand what child he was talking about, and even as though he was surprised to hear that he had a little son in the house. The story may have been exaggerated, yet it must have been something like the truth. Fyodor Pavlovitch was all his life fond of acting, of suddenly playing an unexpected part, sometimes without any motive for doing so, and even to his own direct disadvantage, as, for instance, in the present case. This habit, however, is characteristic of a very great number of people, some of them very clever ones, not like Fyodor Pavlovitch. Pyotr Alexandrovitch carried the business through vigorously, and was appointed, with Fyodor Pavlovitch, joint guardian of the child, who had a small property, a house and land, left him by his mother. Mitya did, in fact, pass into this cousin’s keeping, but as the latter had no family of his own, and after securing the revenues of his estates was in haste to return at once to Paris, he left the boy in charge of one of his cousins, a lady living in Moscow. It came to pass that, settling permanently in Paris he, too, forgot the child, especially when the Revolution of February broke out, making an impression on his mind that he remembered all the rest of his life. The Moscow lady died, and Mitya passed into the care of one of her married daughters. I believe he changed his home a fourth time later on. I won’t enlarge upon that now, as I shall have much to tell later of Fyodor Pavlovitch’s firstborn, and must confine myself now to the most essential facts about him, without which I could not begin my story. |
| Во-первых, этот Дмитрий Федорович был один только из трех сыновей Федора Павловича, который рос в убеждении, что он все же имеет некоторое состояние и когда достигнет совершенных лет, то будет независим. Юность и молодость его протекли беспорядочно: в гимназии он не доучился, попал потом в одну военную школу, потом очутился на Кавказе, выслужился, дрался на дуэли, был разжалован, опять выслужился, много кутил и, сравнительно, прожил довольно денег. Стал же получать их от Федора Павловича не раньше совершеннолетия, а до тех пор наделал долгов. Федора Павловича, отца своего, узнал и увидал в первый раз уже после совершеннолетия, когда нарочно прибыл в наши места объясниться с ним насчет своего имущества. Кажется, родитель ему и тогда не понравился; пробыл он у него не долго и уехал поскорей, успев лишь получить от него некоторую сумму, и войдя с ним в некоторую сделку насчет дальнейшего получения доходов с имения, которого (факт достопримечательный) ни доходности, ни стоимости он в тот раз от Федора Павловича так и не добился. Федор Павлович заметил тогда, с первого разу (и это надо запомнить), что Митя имеет о своем состоянии понятие преувеличенное и неверное. Федор Павлович был очень этим доволен, имея в виду свои особые расчеты. Он вывел лишь, что молодой человек легкомыслен, буен, со страстями, нетерпелив, кутила и которому только чтобы что-нибудь временно перехватить и он хоть на малое время разумеется, но тотчас успокоится. Вот это и начал эксплуатировать Федор Павлович, то-есть отделываться малыми подачками, временными высылками и в конце концов так случилось, что когда, уже года четыре спустя, Митя, потеряв терпение, явился в наш городок в другой раз, чтобы совсем уж покончить дела с родителем, то вдруг оказалось, к его величайшему изумлению, что у него уже ровно нет ничего, что и сосчитать даже трудно, что он перебрал уже деньгами всю стоимость своего имущества у Федора Павловича, может быть еще даже сам должен ему; что по таким-то и таким-то сделкам, в которые сам тогда-то и тогда пожелал вступить, он и права не имеет требовать ничего более и пр. и пр. Молодой человек был поражен, заподозрил неправду, обман, почти вышел из себя и как бы потерял ум. Вот это-то обстоятельство и привело к катастрофе, изложение которой и составит предмет моего первого вступительного романа или лучше сказать его внешнюю сторону. Но пока перейду к этому роману, нужно еще рассказать и об остальных двух сыновьях Федора Павловича, братьях Мити, и объяснить, откуда те-то взялись. | In the first place, this Mitya, or rather Dmitri Fyodorovitch, was the only one of Fyodor Pavlovitch’s three sons who grew up in the belief that he had property, and that he would be independent on coming of age. He spent an irregular boyhood and youth. He did not finish his studies at the gymnasium, he got into a military school, then went to the Caucasus, was promoted, fought a duel, and was degraded to the ranks, earned promotion again, led a wild life, and spent a good deal of money. He did not begin to receive any income from Fyodor Pavlovitch until he came of age, and until then got into debt. He saw and knew his father, Fyodor Pavlovitch, for the first time on coming of age, when he visited our neighborhood on purpose to settle with him about his property. He seems not to have liked his father. He did not stay long with him, and made haste to get away, having only succeeded in obtaining a sum of money, and entering into an agreement for future payments from the estate, of the revenues and value of which he was unable (a fact worthy of note), upon this occasion, to get a statement from his father. Fyodor Pavlovitch remarked for the first time then (this, too, should be noted) that Mitya had a vague and exaggerated idea of his property. Fyodor Pavlovitch was very well satisfied with this, as it fell in with his own designs. He gathered only that the young man was frivolous, unruly, of violent passions, impatient, and dissipated, and that if he could only obtain ready money he would be satisfied, although only, of course, for a short time. So Fyodor Pavlovitch began to take advantage of this fact, sending him from time to time small doles, installments. In the end, when four years later, Mitya, losing patience, came a second time to our little town to settle up once for all with his father, it turned out to his amazement that he had nothing, that it was difficult to get an account even, that he had received the whole value of his property in sums of money from Fyodor Pavlovitch, and was perhaps even in debt to him, that by various agreements into which he had, of his own desire, entered at various previous dates, he had no right to expect anything more, and so on, and so on. The young man was overwhelmed, suspected deceit and cheating, and was almost beside himself. And, indeed, this circumstance led to the catastrophe, the account of which forms the subject of my first introductory story, or rather the external side of it. But before I pass to that story I must say a little of Fyodor Pavlovitch’s other two sons, and of their origin. |
| III. ВТОРОЙ БРАК И ВТОРЫЕ ДЕТИ. | Chapter III. The Second Marriage And The Second Family |
| Федор Павлович, спровадив с рук четырехлетнего Митю, очень скоро после того женился во второй раз. Второй брак этот продолжался лет восемь. Взял он эту вторую супругу свою, тоже очень молоденькую особу, Софью Ивановну, из другой губернии, в которую заехал по одному мелкоподрядному делу, с каким-то жидком в компании. Федор Павлович хотя и кутил и пил и дебоширил, но никогда не переставал заниматься помещением своего капитала и устраивал делишки свои всегда удачно, хотя конечно почти всегда подловато. Софья Ивановна была из “сироток”, безродная с детства, дочь какого-то темного дьякона, взросшая в богатом доме своей благодетельницы, воспитательницы и мучительницы, знатной генеральши старухи, вдовы генерала Ворохова. Подробностей не знаю, но слышал лишь то, что будто воспитанницу, кроткую, незлобивую и безответную, раз сняли с петли, которую она привесила на гвозде в чулане, – до того тяжело было ей переносить своенравие и вечные попреки этой, повидимому не злой старухи, но бывшей лишь нестерпимейшею самодуркой от праздности. Федор Павлович предложил свою руку, о нем справились и его прогнали, и вот тут-то он опять, как и в первом браке, предложил сиротке увоз. Очень, очень может быть, что и она даже не пошла бы за него ни за что, если б узнала о нем своевременно побольше подробностей. Но дело было в другой губернии; да и что могла понимать шестнадцатилетняя девочка, кроме того, что лучше в реку, чем оставаться у благодетельницы. Так и променяла бедняжка благодетельницу на благодетеля. Федор Павлович не взял в этот раз ни гроша, потому что генеральша рассердилась, ничего не дала и сверх того прокляла их обоих; но он и не рассчитывал на этот раз взять, а прельстился лишь замечательною красотой невинной девочки и, главное, ее невинным видом, поразившим его, сладострастника и доселе порочного любителя лишь грубой женской красоты. “Меня эти невинные глазки как бритвой тогда по душе полоснули”, говаривал он потом, гадко по-своему хихикая. Впрочем у развратного человека и это могло быть лишь сладострастным влечением. Не взяв же никакого вознаграждения, Федор Павлович с супругой не церемонился и, пользуясь тем, что она так-сказать перед ним “виновата”, и что он ее почти “с петли снял”, пользуясь кроме того ее феноменальным смирением и безответностью, даже попрал ногами самые обыкновенные брачные приличия. В дом, тут же при жене, съезжались дурные женщины и устраивались оргии. Как характерную черту сообщу, что слуга Григорий, мрачный, глупый и упрямый резонер, ненавидевший прежнюю барыню Аделаиду Ивановну, на этот раз взял сторону новой барыни, защищал и бранился за нее с Федором Павловичем почти непозволительным для слуги образом, а однажды так даже разогнал оргию и всех наехавших безобразниц силой. Впоследствии с несчастною, с самого детства запуганною молодою женщиной произошло в роде какой-то нервной женской болезни, встречаемой чаще всего в простонародьи у деревенских баб, именуемых за эту болезнь кликушами. От этой болезни, со страшными истерическими припадками, больная временами даже теряла рассудок. Родила она однако же Федору Павловичу двух сыновей, Ивана и Алексея, первого в первый год брака, а второго три года спустя. Когда она померла, мальчик Алексей был по четвертому году, и хоть и странно это, но я знаю, что он мать запомнил потом на всю жизнь, как сквозь сон разумеется. По смерти ее с обоими мальчиками случилось почти точь-в-точь то же самое, что и с первым, Митей: они были совершенно забыты и заброшены отцом и попали все к тому же Григорию и также к нему в избу. В избе их и нашла старуха самодурка генеральша, благодетельница и воспитательница их матери. Она еще была в живых, и все время, все восемь лет, не могла забыть обиды ей нанесенной. О житье-бытье ее “Софьи” все восемь лет она имела из-под руки самые точные сведения, и слыша, как она больна и какие безобразия ее окружают, раза два или три произнесла вслух своим приживалкам: “Так ей и надо, это ей бог за неблагодарность послал”. | Very shortly after getting his four‐year‐old Mitya off his hands Fyodor Pavlovitch married a second time. His second marriage lasted eight years. He took this second wife, Sofya Ivanovna, also a very young girl, from another province, where he had gone upon some small piece of business in company with a Jew. Though Fyodor Pavlovitch was a drunkard and a vicious debauchee he never neglected investing his capital, and managed his business affairs very successfully, though, no doubt, not over‐ scrupulously. Sofya Ivanovna was the daughter of an obscure deacon, and was left from childhood an orphan without relations. She grew up in the house of a general’s widow, a wealthy old lady of good position, who was at once her benefactress and tormentor. I do not know the details, but I have only heard that the orphan girl, a meek and gentle creature, was once cut down from a halter in which she was hanging from a nail in the loft, so terrible were her sufferings from the caprice and everlasting nagging of this old woman, who was apparently not bad‐hearted but had become an insufferable tyrant through idleness. Fyodor Pavlovitch made her an offer; inquiries were made about him and he was refused. But again, as in his first marriage, he proposed an elopement to the orphan girl. There is very little doubt that she would not on any account have married him if she had known a little more about him in time. But she lived in another province; besides, what could a little girl of sixteen know about it, except that she would be better at the bottom of the river than remaining with her benefactress. So the poor child exchanged a benefactress for a benefactor. Fyodor Pavlovitch did not get a penny this time, for the general’s widow was furious. She gave them nothing and cursed them both. But he had not reckoned on a dowry; what allured him was the remarkable beauty of the innocent girl, above all her innocent appearance, which had a peculiar attraction for a vicious profligate, who had hitherto admired only the coarser types of feminine beauty. “Those innocent eyes slit my soul up like a razor,” he used to say afterwards, with his loathsome snigger. In a man so depraved this might, of course, mean no more than sensual attraction. As he had received no dowry with his wife, and had, so to speak, taken her “from the halter,” he did not stand on ceremony with her. Making her feel that she had “wronged” him, he took advantage of her phenomenal meekness and submissiveness to trample on the elementary decencies of marriage. He gathered loose women into his house, and carried on orgies of debauchery in his wife’s presence. To show what a pass things had come to, I may mention that Grigory, the gloomy, stupid, obstinate, argumentative servant, who had always hated his first mistress, Adelaïda Ivanovna, took the side of his new mistress. He championed her cause, abusing Fyodor Pavlovitch in a manner little befitting a servant, and on one occasion broke up the revels and drove all the disorderly women out of the house. In the end this unhappy young woman, kept in terror from her childhood, fell into that kind of nervous disease which is most frequently found in peasant women who are said to be “possessed by devils.” At times after terrible fits of hysterics she even lost her reason. Yet she bore Fyodor Pavlovitch two sons, Ivan and Alexey, the eldest in the first year of marriage and the second three years later. When she died, little Alexey was in his fourth year, and, strange as it seems, I know that he remembered his mother all his life, like a dream, of course. At her death almost exactly the same thing happened to the two little boys as to their elder brother, Mitya. They were completely forgotten and abandoned by their father. They were looked after by the same Grigory and lived in his cottage, where they were found by the tyrannical old lady who had brought up their mother. She was still alive, and had not, all those eight years, forgotten the insult done her. All that time she was obtaining exact information as to her Sofya’s manner of life, and hearing of her illness and hideous surroundings she declared aloud two or three times to her retainers: |
| Ровно три месяца по смерти Софьи Ивановны, генеральша вдруг явилась в наш город лично и прямо на квартиру Федора Павловича, и всего-то пробыла в городке с полчаса, но много сделала. Был тогда час вечерний. Федор Павлович, которого она все восемь лет не видала, вышел к ней пьяненький. Повествуют, что она мигом, безо всяких объяснений, только что увидала его, задала ему две знатные и звонкие пощечины и три раза рванула его за вихор сверху вниз, затем, не прибавив ни слова, направилась прямо в избу к двум мальчикам. С первого взгляда заметив, что они не вымыты и в грязном белье, она тотчас же дала еще пощечину самому Григорию и объявила ему, что увозит обоих детей к себе, затем вывела их в чем были, завернула в плед, посадила в карету и увезла в свой город. Григорий снес эту пощечину как преданный раб, не сгрубил ни слова, и когда провожал старую барыню до кареты, то, поклонившись ей в пояс, внушительно произнес, что ей “за сирот бог заплатит”. “А все-таки ты балбес!” крикнула ему генеральша отъезжая. Федор Павлович, сообразив все дело, нашел, что оно дело хорошее и в формальном согласии своем насчет воспитания детей у генеральши не отказал потом ни в одном пункте. О полученных же пощечинах сам ездил рассказывать по всему городу. | “It serves her right. God has punished her for her ingratitude.” Exactly three months after Sofya Ivanovna’s death the general’s widow suddenly appeared in our town, and went straight to Fyodor Pavlovitch’s house. She spent only half an hour in the town but she did a great deal. It was evening. Fyodor Pavlovitch, whom she had not seen for those eight years, came in to her drunk. The story is that instantly upon seeing him, without any sort of explanation, she gave him two good, resounding slaps on the face, seized him by a tuft of hair, and shook him three times up and down. Then, without a word, she went straight to the cottage to the two boys. Seeing, at the first glance, that they were unwashed and in dirty linen, she promptly gave Grigory, too, a box on the ear, and announcing that she would carry off both the children she wrapped them just as they were in a rug, put them in the carriage, and drove off to her own town. Grigory accepted the blow like a devoted slave, without a word, and when he escorted the old lady to her carriage he made her a low bow and pronounced impressively that, “God would repay her for the orphans.” “You are a blockhead all the same,” the old lady shouted to him as she drove away. |
| Случилось так, что и генеральша скоро после того умерла, но выговорив однако в завещании обоим малюткам по тысяче рублей каждому, “на их обучение, и чтобы все эти деньги были на них истрачены непременно, но с тем, чтобы хватило вплоть до совершеннолетия, потому что слишком довольно и такой подачки для этаких детей, а если кому угодно, то пусть сам раскошеливается, и проч., и проч.” Я завещания сам не читал, но слышал, что именно было что-то странное в этом роде и слишком своеобразно выраженное. Главным наследником старухи оказался однако же честный человек, губернский предводитель дворянства той губернии, Ефим Петрович Поленов. Списавшись с Федором Павловичем и мигом угадав, что от него денег на воспитание его же детей не вытащишь (хотя тот прямо никогда не отказывал, а только всегда в этаких случаях тянул, иногда даже изливаясь в чувствительностях), он принял в сиротах участие лично и особенно полюбил младшего из них, Алексея, так что тот долгое время даже и рос в его семействе. Это я прошу читателя заметить с самого начала. И если кому обязаны были молодые люди своим воспитанием и образованием на всю свою жизнь, то именно этому Ефиму Петровичу, благороднейшему и гуманнейшему человеку, из таких, какие редко встречаются. Он сохранил малюткам по их тысяче, оставленной генеральшей, неприкосновенно, так что они к совершеннолетию их возросли процентами, каждая до двух, воспитал же их на свои деньги, и уж конечно гораздо более, чем по тысяче, издержал на каждого. В подробный рассказ их детства и юности я опять пока не вступаю, а обозначу лишь самые главные обстоятельства. Впрочем о старшем, Иване, сообщу лишь то, что он рос каким-то угрюмым и закрывшимся сам в себе отроком, далеко не робким, но как бы еще с десяти лет проникнувшим в то, что растут они все-таки в чужой семье и на чужих милостях, и что отец у них какой-то такой, о котором даже и говорить стыдно, и проч. и проч. Этот мальчик очень скоро, чуть не в младенчестве (как передавали по крайней мере), стал обнаруживать какие-то необыкновенные и блестящие способности к учению. В точности не знаю, но как-то так случилось, что с семьей Ефима Петровича он расстался чуть ли не тринадцати лет, перейдя в одну из московских гимназий и на пансион к какому-то опытному и знаменитому тогда педагогу, другу с детства Ефима Петровича. Сам Иван рассказывал потом, что все произошло так-сказать “от пылкости к добрым делам” Ефима Петровича, увлекшегося идеей, что гениальных способностей мальчик должен и воспитываться у гениального воспитателя. Впрочем ни Ефима Петровича, ни гениального воспитателя уже не было в живых, когда молодой человек, кончив гимназию, поступил в университет. Так как Ефим Петрович плохо распорядился и получение завещанных самодуркой генеральшей собственных детских денег, возросших с тысячи уже на две процентами, замедлилось по разным совершенно неизбежимым у нас формальностям и проволочкам, то молодому человеку в первые его два года в университете пришлось очень солоно, так как он принужден был все это время кормить и содержать себя сам и в то же время учиться. Заметить надо, что он даже и попытки не захотел тогда сделать списаться с отцом, – может быть из гордости, из презрения к нему, а может быть вследствие холодного здравого рассуждения, подсказавшего ему, что от папеньки никакой чуть-чуть серьезной поддержки не получит. Как бы там ни было молодой человек не потерялся нисколько и добился-таки работы, сперва уроками в двугривенный, а потом бегая по редакциям газет и доставляя статейки в десять строчек об уличных происшествиях, за подписью “Очевидец”. Статейки эти, говорят, были так всегда любопытно и пикантно составлены, что быстро пошли в ход, и уж в этом одном молодой человек оказал все свое практическое и умственное превосходство над тою многочисленною, вечно нуждающеюся и несчастною частью нашей учащейся молодежи обоего пола, которая, в столицах, по обыкновению, с утра до ночи обивает пороги разных газет и журналов, не умея ничего лучше выдумать, кроме вечного повторения одной и той же просьбы о переводах с французского или о переписке. Познакомившись с редакциями, Иван Федорович все время потом не разрывал связей с ними и в последние свои годы в университете стал печатать весьма талантливые разборы книг на разные специальные темы, так что даже стал в литературных кружках известен. Впрочем лишь в самое только последнее время ему удалось случайно обратить на себя вдруг особенное внимание в гораздо большем круге читателей, так что его весьма многие разом тогда отметили и запомнили. Это был довольно любопытный случай. Уже выйдя из университета и приготовляясь на свои две тысячи съездить за границу, Иван Федорович вдруг напечатал в одной из больших газет одну странную статью, обратившую на себя внимание даже и не-специалистов, и главное по предмету повидимому вовсе ему незнакомому, потому что кончил он курс естественником. Статья была написана на поднявшийся повсеместно тогда вопрос о церковном суде. Разбирая некоторые уже поданные мнения об этом вопросе, он высказал и свой личный взгляд. Главное было в тоне и в замечательной неожиданности заключения. А между тем многие из церковников решительно сочли автора за своего. И вдруг рядом с ними не только гражданственники, но даже сами атеисты принялись и с своей стороны аплодировать. В конце концов некоторые догадливые люди решили, что вся статья есть лишь дерзкий фарс и насмешка. Упоминаю о сем случае особенно потому, что статья эта своевременно проникла и в подгородный знаменитый наш монастырь, где возникшим вопросом о церковном суде вообще интересовались, – проникла и произвела совершенное недоумение. Узнав же имя автора, заинтересовались и тем, что он уроженец нашего города и сын “вот этого самого Федора Павловича”. А тут вдруг к самому этому времени явился к нам и сам автор. | Fyodor Pavlovitch, thinking it over, decided that it was a good thing, and did not refuse the general’s widow his formal consent to any proposition in regard to his children’s education. As for the slaps she had given him, he drove all over the town telling the story. It happened that the old lady died soon after this, but she left the boys in her will a thousand roubles each “for their instruction, and so that all be spent on them exclusively, with the condition that it be so portioned out as to last till they are twenty‐one, for it is more than adequate provision for such children. If other people think fit to throw away their money, let them.” I have not read the will myself, but I heard there was something queer of the sort, very whimsically expressed. The principal heir, Yefim Petrovitch Polenov, the Marshal of Nobility of the province, turned out, however, to be an honest man. Writing to Fyodor Pavlovitch, and discerning at once that he could extract nothing from him for his children’s education (though the latter never directly refused but only procrastinated as he always did in such cases, and was, indeed, at times effusively sentimental), Yefim Petrovitch took a personal interest in the orphans. He became especially fond of the younger, Alexey, who lived for a long while as one of his family. I beg the reader to note this from the beginning. And to Yefim Petrovitch, a man of a generosity and humanity rarely to be met with, the young people were more indebted for their education and bringing up than to any one. He kept the two thousand roubles left to them by the general’s widow intact, so that by the time they came of age their portions had been doubled by the accumulation of interest. He educated them both at his own expense, and certainly spent far more than a thousand roubles upon each of them. I won’t enter into a detailed account of their boyhood and youth, but will only mention a few of the most important events. Of the elder, Ivan, I will only say that he grew into a somewhat morose and reserved, though far from timid boy. At ten years old he had realized that they were living not in their own home but on other people’s charity, and that their father was a man of whom it was disgraceful to speak. This boy began very early, almost in his infancy (so they say at least), to show a brilliant and unusual aptitude for learning. I don’t know precisely why, but he left the family of Yefim Petrovitch when he was hardly thirteen, entering a Moscow gymnasium, and boarding with an experienced and celebrated teacher, an old friend of Yefim Petrovitch. Ivan used to declare afterwards that this was all due to the “ardor for good works” of Yefim Petrovitch, who was captivated by the idea that the boy’s genius should be trained by a teacher of genius. But neither Yefim Petrovitch nor this teacher was living when the young man finished at the gymnasium and entered the university. As Yefim Petrovitch had made no provision for the payment of the tyrannical old lady’s legacy, which had grown from one thousand to two, it was delayed, owing to formalities inevitable in Russia, and the young man was in great straits for the first two years at the university, as he was forced to keep himself all the time he was studying. It must be noted that he did not even attempt to communicate with his father, perhaps from pride, from contempt for him, or perhaps from his cool common sense, which told him that from such a father he would get no real assistance. However that may have been, the young man was by no means despondent and succeeded in getting work, at first giving sixpenny lessons and afterwards getting paragraphs on street incidents into the newspapers under the signature of “Eye‐Witness.” These paragraphs, it was said, were so interesting and piquant that they were soon taken. This alone showed the young man’s practical and intellectual superiority over the masses of needy and unfortunate students of both sexes who hang about the offices of the newspapers and journals, unable to think of anything better than everlasting entreaties for copying and translations from the French. Having once got into touch with the editors Ivan Fyodorovitch always kept up his connection with them, and in his latter years at the university he published brilliant reviews of books upon various special subjects, so that he became well known in literary circles. But only in his last year he suddenly succeeded in attracting the attention of a far wider circle of readers, so that a great many people noticed and remembered him. It was rather a curious incident. When he had just left the university and was preparing to go abroad upon his two thousand roubles, Ivan Fyodorovitch published in one of the more important journals a strange article, which attracted general notice, on a subject of which he might have been supposed to know nothing, as he was a student of natural science. The article dealt with a subject which was being debated everywhere at the time—the position of the ecclesiastical courts. After discussing several opinions on the subject he went on to explain his own view. What was most striking about the article was its tone, and its unexpected conclusion. Many of the Church party regarded him unquestioningly as on their side. And yet not only the secularists but even atheists joined them in their applause. Finally some sagacious persons opined that the article was nothing but an impudent satirical burlesque. I mention this incident particularly because this article penetrated into the famous monastery in our neighborhood, where the inmates, being particularly interested in the question of the ecclesiastical courts, were completely bewildered by it. Learning the author’s name, they were interested in his being a native of the town and the son of “that Fyodor Pavlovitch.” And just then it was that the author himself made his appearance among us. Akirill.com |
| Зачем приехал тогда к нам Иван Федорович, – я помню даже и тогда еще задавал себе этот вопрос с каким-то почти беспокойством. Столь роковой приезд этот, послуживший началом ко стольким последствиям, – для меня долго потом, почти всегда оставался делом неясным. Вообще судя, странно было, что молодой человек столь ученый, столь гордый и осторожный на вид, вдруг явился в такой безобразный дом, к такому отцу, который всю жизнь его игнорировал, не знал его и не помнил, и хоть не дал бы конечно денег ни за что и ни в каком случае, если бы сын у него попросил, но все же всю жизнь боялся, что и сыновья, Иван и Алексей, тоже когда-нибудь придут да и попросят денег. И вот молодой человек поселяется в доме такого отца, живет с ним месяц и другой, и оба уживаются как не надо лучше. Последнее даже особенно удивило не только меня, но и многих других. Петр Александрович Миусов, о котором я говорил уже выше, дальний родственник Федора Павловича по его первой жене, случился тогда опять у нас, в своем подгородном имении, пожаловав из Парижа, в котором уже совсем поселился. Помню, он-то именно и дивился всех более, познакомившись с заинтересовавшим его чрезвычайно молодым человеком, с которым он не без внутренней боли пикировался иногда познаниями. “Он горд, – говорил он нам тогда про него, – всегда добудет себе копейку, у него и теперь есть деньги на заграницу – чего ж ему здесь надо? Всем ясно, что он приехал к отцу не за деньгами, потому что во всяком случае отец их не даст. Пить вино и развратничать он не любит, а между тем старик и обойтись без него не может, до того ужились!” Это была правда; молодой человек имел даже видимое влияние на старика; тот почти начал его иногда как будто слушаться, хотя был чрезвычайно и даже злобно подчас своенравен; даже вести себя начал иногда приличнее… | Why Ivan Fyodorovitch had come amongst us I remember asking myself at the time with a certain uneasiness. This fateful visit, which was the first step leading to so many consequences, I never fully explained to myself. It seemed strange on the face of it that a young man so learned, so proud, and apparently so cautious, should suddenly visit such an infamous house and a father who had ignored him all his life, hardly knew him, never thought of him, and would not under any circumstances have given him money, though he was always afraid that his sons Ivan and Alexey would also come to ask him for it. And here the young man was staying in the house of such a father, had been living with him for two months, and they were on the best possible terms. This last fact was a special cause of wonder to many others as well as to me. Pyotr Alexandrovitch Miüsov, of whom we have spoken already, the cousin of Fyodor Pavlovitch’s first wife, happened to be in the neighborhood again on a visit to his estate. He had come from Paris, which was his permanent home. I remember that he was more surprised than any one when he made the acquaintance of the young man, who interested him extremely, and with whom he sometimes argued and not without an inner pang compared himself in acquirements. “He is proud,” he used to say, “he will never be in want of pence; he has got money enough to go abroad now. What does he want here? Every one can see that he hasn’t come for money, for his father would never give him any. He has no taste for drink and dissipation, and yet his father can’t do without him. They get on so well together!” That was the truth; the young man had an unmistakable influence over his father, who positively appeared to be behaving more decently and even seemed at times ready to obey his son, though often extremely and even spitefully perverse. |
| Только впоследствии объяснилось, что Иван Федорович приезжал отчасти по просьбе и по делам своего старшего брата, Дмитрия Федоровича, которого в первый раз от роду узнал и увидал тоже почти в это же самое время, в этот самый приезд, но с которым однако же по одному важному случаю, касавшемуся более Дмитрия Федоровича, вступил еще до приезда своего из Москвы в переписку. Какое это было дело, читатель вполне узнает в свое время в подробности. Тем не менее даже тогда, когда я уже знал и про это особенное обстоятельство, мне Иван Федорович все казался загадочным, а приезд его к нам все-таки необъяснимым. | It was only later that we learned that Ivan had come partly at the request of, and in the interests of, his elder brother, Dmitri, whom he saw for the first time on this very visit, though he had before leaving Moscow been in correspondence with him about an important matter of more concern to Dmitri than himself. What that business was the reader will learn fully in due time. Yet even when I did know of this special circumstance I still felt Ivan Fyodorovitch to be an enigmatic figure, and thought his visit rather mysterious. Akirill.com |
| Прибавлю еще, что Иван Федорович имел тогда вид посредника и примирителя между отцом и затеявшим тогда большую ссору и даже формальный иск на отца старшим братом своим, Дмитрием Федоровичем. | I may add that Ivan appeared at the time in the light of a mediator between his father and his elder brother Dmitri, who was in open quarrel with his father and even planning to bring an action against him. |
| Семейка эта, повторяю, сошлась тогда вся вместе в первый раз в жизни, и некоторые члены ее в первый раз в жизни увидали друг друга. Лишь один только младший сын, Алексей Федорович, уже с год пред тем как проживал у нас и попал к нам таким образом раньше всех братьев. Вот про этого-то Алексея мне всего труднее говорить теперешним моим предисловным рассказом прежде чем вывести его на сцену в романе. Но придется и про него написать предисловие, по крайней мере чтобы разъяснить предварительно один очень странный пункт, именно: будущего героя моего я принужден представить читателям с первой сцены его романа в ряске послушника. Да, уже с год как проживал он тогда в нашем монастыре и, казалось, на всю жизнь готовился в нем затвориться. | The family, I repeat, was now united for the first time, and some of its members met for the first time in their lives. The younger brother, Alexey, had been a year already among us, having been the first of the three to arrive. It is of that brother Alexey I find it most difficult to speak in this introduction. Yet I must give some preliminary account of him, if only to explain one queer fact, which is that I have to introduce my hero to the reader wearing the cassock of a novice. Yes, he had been for the last year in our monastery, and seemed willing to be cloistered there for the rest of his life. |
| IV. ТРЕТИЙ СЫН АЛЕША. | Chapter IV. The Third Son, Alyosha |
| Было ему тогда всего двадцать лет (брату его Ивану шел тогда двадцать четвертый год, а старшему их брату Дмитрию двадцать восьмой). Прежде всего объявляю, что этот юноша, Алеша, был вовсе не фанатик, и, по-моему по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заране скажу мое полное мнение: был он просто ранний человеколюбец, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так-сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету любви души его. И поразила-то его эта дорога лишь потому, что на ней он встретил тогда необыкновенное по его мнению существо, – нашего знаменитого монастырского старца Зосиму, к которому привязался всею горячею первою любовью своего неутолимого сердца. Впрочем я не спорю, что был он и тогда уже очень странен, начав даже с колыбели. Кстати, я уже упоминал про него, что, оставшись после матери всего лишь по четвертому году, он запомнил ее потом на всю жизнь, ее лицо, ее ласки, “точно как будто она стоит предо мной живая”. Такие воспоминания могут запоминаться (и это всем известно) даже и из более раннего возраста, даже с двухлетнего, но лишь выступая всю жизнь как бы светлыми точками из мрака, как бы вырванным уголком из огромной картины, которая вся погасла и исчезла, кроме этого только уголочка. Так точно было и с ним: он запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились всего более), в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а пред образом на коленях, рыдающую как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко до боли и молящую за него богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров богородице… и вдруг вбегает нянька и вырывает его у нее в испуге. Вот картина! Алеша запомнил в тот миг и лицо своей матери: он говорил, что оно было исступленное, но прекрасное, судя по тому, сколько мог он припомнить. Но он редко кому любил поверять это воспоминание. В детстве и юности он был мало экспансивен и даже мало разговорчив, но не от недоверия, не от робости или угрюмой нелюдимости, вовсе даже напротив, а от чего-то другого, от какой-то как бы внутренней заботы, собственно личной, до других не касавшейся, но столь для него важной, что он из-за нее как бы забывал других. Но людей он любил: он, казалось, всю жизнь жил совершенно веря в людей, а между тем никто и никогда не считал его ни простячком, ни наивным человеком. Что-то было в нем, что говорило и внушало (да и всю жизнь потом), что он не хочет быть судьей людей, что он не захочет взять на себя осуждения и ни за что не осудит. Казалось даже, что он все допускал, ни мало не осуждая, хотя часто очень горько грустя. Мало того, в этом смысле он до того дошел, что его никто не мог ни удивить, ни испугать, и это даже в самой ранней своей молодости. Явясь по двадцатому году к отцу, положительно в вертеп грязного разврата, он, целомудренный и чистый, лишь молча удалялся, когда глядеть было нестерпимо, но без малейшего вида презрения или осуждения кому бы то ни было. Отец же, бывший когда-то приживальщик, а потому человек чуткий и тонкий на обиду, сначала недоверчиво и угрюмо его встретивший (“много дескать молчит и много про себя рассуждает”), скоро кончил однако же тем, что стал его ужасно часто обнимать и целовать, не далее как через две какие-нибудь недели, правда с пьяными слезами, в хмельной чувствительности, но видно, что полюбив его искренно и глубоко, и так, как никогда конечно не удавалось такому как он никого любить… | He was only twenty, his brother Ivan was in his twenty‐fourth year at the time, while their elder brother Dmitri was twenty‐seven. First of all, I must explain that this young man, Alyosha, was not a fanatic, and, in my opinion at least, was not even a mystic. I may as well give my full opinion from the beginning. He was simply an early lover of humanity, and that he adopted the monastic life was simply because at that time it struck him, so to say, as the ideal escape for his soul struggling from the darkness of worldly wickedness to the light of love. And the reason this life struck him in this way was that he found in it at that time, as he thought, an extraordinary being, our celebrated elder, Zossima, to whom he became attached with all the warm first love of his ardent heart. But I do not dispute that he was very strange even at that time, and had been so indeed from his cradle. I have mentioned already, by the way, that though he lost his mother in his fourth year he remembered her all his life—her face, her caresses, “as though she stood living before me.” Such memories may persist, as every one knows, from an even earlier age, even from two years old, but scarcely standing out through a whole lifetime like spots of light out of darkness, like a corner torn out of a huge picture, which has all faded and disappeared except that fragment. That is how it was with him. He remembered one still summer evening, an open window, the slanting rays of the setting sun (that he recalled most vividly of all); in a corner of the room the holy image, before it a lighted lamp, and on her knees before the image his mother, sobbing hysterically with cries and moans, snatching him up in both arms, squeezing him close till it hurt, and praying for him to the Mother of God, holding him out in both arms to the image as though to put him under the Mother’s protection … and suddenly a nurse runs in and snatches him from her in terror. That was the picture! And Alyosha remembered his mother’s face at that minute. He used to say that it was frenzied but beautiful as he remembered. But he rarely cared to speak of this memory to any one. In his childhood and youth he was by no means expansive, and talked little indeed, but not from shyness or a sullen unsociability; quite the contrary, from something different, from a sort of inner preoccupation entirely personal and unconcerned with other people, but so important to him that he seemed, as it were, to forget others on account of it. But he was fond of people: he seemed throughout his life to put implicit trust in people: yet no one ever looked on him as a simpleton or naïve person. There was something about him which made one feel at once (and it was so all his life afterwards) that he did not care to be a judge of others—that he would never take it upon himself to criticize and would never condemn any one for anything. He seemed, indeed, to accept everything without the least condemnation though often grieving bitterly: and this was so much so that no one could surprise or frighten him even in his earliest youth. Coming at twenty to his father’s house, which was a very sink of filthy debauchery, he, chaste and pure as he was, simply withdrew in silence when to look on was unbearable, but without the slightest sign of contempt or condemnation. His father, who had once been in a dependent position, and so was sensitive and ready to take offense, met him at first with distrust and sullenness. “He does not say much,” he used to say, “and thinks the more.” But soon, within a fortnight indeed, he took to embracing him and kissing him terribly often, with drunken tears, with sottish sentimentality, yet he evidently felt a real and deep affection for him, such as he had never been capable of feeling for any one before. |
| Да и все этого юношу любили, где бы он ни появился, и это с самых детских даже лет его. Очутившись в доме своего благодетеля и воспитателя, Ефима Петровича Поленова, он до того привязал к себе всех в этом семействе, что его решительно считали там как бы за родное дитя. А между тем он вступил в этот дом еще в таких младенческих летах, в каких никак нельзя ожидать в ребенке рассчетливой хитрости, пронырства или искусства заискать и понравиться, уменья заставить себя полюбить. Так что дар возбуждать к себе особенную любовь он заключал в себе так-сказать в самой природе, безыскусственно и непосредственно. То же самое было с ним и в школе, и однако же, казалось бы, он именно был из таких детей, которые возбуждают к себе недоверие товарищей, иногда насмешки, а пожалуй и ненависть. Он например задумывался и как бы отъединялся. Он с самого детства любил уходить в угол и книжки читать, и однако же и товарищи его до того полюбили, что решительно можно было назвать его всеобщим любимцем во все время пребывания его в школе. Он редко бывал резв, даже редко весел, но все, взглянув на него, тотчас видели, что это вовсе не от какой-нибудь в нем угрюмости, что напротив он ровен и ясен. Между сверстниками он никогда не хотел выставляться. Может по этому самому он никогда и никого не боялся, а между тем мальчики тотчас поняли, что он вовсе не гордится своим бесстрашием, а смотрит так, как будто и не понимает, что он смел и бесстрашен. Обиды никогда не помнил. Случалось, что через час после обиды он отвечал обидчику, или сам с ним заговаривал, с таким доверчивым и ясным видом, как будто ничего и не было между ними вовсе. И не то чтоб он при этом имел вид, что случайно забыл или намеренно простил обиду, а просто не считал ее за обиду, и это решительно пленяло и покоряло детей. Была в нем одна лишь черта, которая во всех классах гимназии, начиная с низшего и даже до высших, возбуждала в его товарищах постоянное желание подтрунить над ним, но не из злобной насмешки, а потому, что это было им весело. Черта эта в нем была дикая, исступленная стыдливость и целомудренность. Он не мог слышать известных слов и известных разговоров про женщин. Эти “известные” слова и разговоры, к несчастию, неискоренимы в школах. Чистые в душе и сердце мальчики, почти еще дети, очень часто любят говорить в классах между собою и даже вслух про такие вещи, картины и образы, о которых не всегда заговорят даже и солдаты, мало того, солдаты-то многого не знают и не понимают из того, что уже знакомо, в этом роде, столь юным еще детям нашего интеллигентного и высшего общества. Нравственного разврата тут пожалуй еще нет, цинизма тоже нет настоящего, развратного, внутреннего, но есть наружный, и он-то считается у них нередко чем-то даже деликатным, тонким, молодецким и достойным подражания. Видя, что “Алешка Карамазов”, когда заговорят “про это”, быстро затыкает уши пальцами, они становились иногда подле него нарочно толпой и, насильно отнимая руки от ушей его, кричали ему в оба уха скверности, а тот рвался, спускался на пол, ложился, закрывался и все это не говоря им ни слова, не бранясь, молча перенося обиду. Под конец однако оставили его в покое и уже не дразнили “девчонкой”, мало того, глядели на него в этом смысле с сожалением. Кстати, в классах он всегда стоял по учению из лучших, но никогда не был отмечен первым. | Every one, indeed, loved this young man wherever he went, and it was so from his earliest childhood. When he entered the household of his patron and benefactor, Yefim Petrovitch Polenov, he gained the hearts of all the family, so that they looked on him quite as their own child. Yet he entered the house at such a tender age that he could not have acted from design nor artfulness in winning affection. So that the gift of making himself loved directly and unconsciously was inherent in him, in his very nature, so to speak. It was the same at school, though he seemed to be just one of those children who are distrusted, sometimes ridiculed, and even disliked by their schoolfellows. He was dreamy, for instance, and rather solitary. From his earliest childhood he was fond of creeping into a corner to read, and yet he was a general favorite all the while he was at school. He was rarely playful or merry, but any one could see at the first glance that this was not from any sullenness. On the contrary he was bright and good‐tempered. He never tried to show off among his schoolfellows. Perhaps because of this, he was never afraid of any one, yet the boys immediately understood that he was not proud of his fearlessness and seemed to be unaware that he was bold and courageous. He never resented an insult. It would happen that an hour after the offense he would address the offender or answer some question with as trustful and candid an expression as though nothing had happened between them. And it was not that he seemed to have forgotten or intentionally forgiven the affront, but simply that he did not regard it as an affront, and this completely conquered and captivated the boys. He had one characteristic which made all his schoolfellows from the bottom class to the top want to mock at him, not from malice but because it amused them. This characteristic was a wild fanatical modesty and chastity. He could not bear to hear certain words and certain conversations about women. There are “certain” words and conversations unhappily impossible to eradicate in schools. Boys pure in mind and heart, almost children, are fond of talking in school among themselves, and even aloud, of things, pictures, and images of which even soldiers would sometimes hesitate to speak. More than that, much that soldiers have no knowledge or conception of is familiar to quite young children of our intellectual and higher classes. There is no moral depravity, no real corrupt inner cynicism in it, but there is the appearance of it, and it is often looked upon among them as something refined, subtle, daring, and worthy of imitation. Seeing that Alyosha Karamazov put his fingers in his ears when they talked of “that,” they used sometimes to crowd round him, pull his hands away, and shout nastiness into both ears, while he struggled, slipped to the floor, tried to hide himself without uttering one word of abuse, enduring their insults in silence. But at last they left him alone and gave up taunting him with being a “regular girl,” and what’s more they looked upon it with compassion as a weakness. He was always one of the best in the class but was never first. |
| Когда умер Ефим Петрович, Алеша два года еще пробыл в губернской гимназии. Неутешная супруга Ефима Петровича, почти тотчас же по смерти его, отправилась на долгий срок в Италию со всем семейством, состоявшим все из особ женского пола, а Алеша попал в дом к каким-то двум дамам, которых он прежде никогда и не видывал, каким-то дальним родственницам Ефима Петровича, но на каких условиях, он сам того не знал. Характерная тоже, и даже очень, черта его была в том, что он никогда не заботился, на чьи средства живет. В этом он был совершенная противоположность своему старшему брату, Ивану Федоровичу, пробедствовавшему два первые года в университете кормя себя своим трудом, и с самого детства горько прочувствовавшему, что живет он на чужих хлебах у благодетеля. Но эту странную черту в характере Алексея, кажется, нельзя было осудить очень строго, потому что всякий, чуть-чуть лишь узнавший его, тотчас, при возникшем на этот счет вопросе, становился уверен, что Алексей непременно из таких юношей в роде как бы юродивых, которому, попади вдруг хотя бы даже целый капитал, то он не затруднится отдать его по первому даже спросу или на доброе дело, или может быть даже просто ловкому пройдохе, если бы тот у него попросил. Да и вообще говоря, он как бы вовсе не знал цены деньгам, разумеется не в буквальном смысле говоря. Когда ему выдавали карманные деньги, которых он сам никогда не просил, то он или по целым неделям не знал, что с ними делать, или ужасно их не берег, мигом они у него исчезали. Петр Александрович Миусов, человек насчет денег и буржуазной честности весьма щекотливый, раз, впоследствии, приглядевшись к Алексею, произнес о нем следующий афоризм: “Вот может быть единственный человек в мире, которого оставьте вы вдруг одного и без денег на площади незнакомого в миллион жителей города, и он ни за что не погибнет и не умрет с голоду и холоду, потому что его мигом накормят, мигом пристроят, а если не пристроят, то он сам мигом пристроится, и это не будет стоить ему никаких усилий и никакого унижения, а пристроившему никакой тягости, а может быть напротив почтут за удовольствие”. | At the time of Yefim Petrovitch’s death Alyosha had two more years to complete at the provincial gymnasium. The inconsolable widow went almost immediately after his death for a long visit to Italy with her whole family, which consisted only of women and girls. Alyosha went to live in the house of two distant relations of Yefim Petrovitch, ladies whom he had never seen before. On what terms he lived with them he did not know himself. It was very characteristic of him, indeed, that he never cared at whose expense he was living. In that respect he was a striking contrast to his elder brother Ivan, who struggled with poverty for his first two years in the university, maintained himself by his own efforts, and had from childhood been bitterly conscious of living at the expense of his benefactor. But this strange trait in Alyosha’s character must not, I think, be criticized too severely, for at the slightest acquaintance with him any one would have perceived that Alyosha was one of those youths, almost of the type of religious enthusiast, who, if they were suddenly to come into possession of a large fortune, would not hesitate to give it away for the asking, either for good works or perhaps to a clever rogue. In general he seemed scarcely to know the value of money, not, of course, in a literal sense. When he was given pocket‐money, which he never asked for, he was either terribly careless of it so that it was gone in a moment, or he kept it for weeks together, not knowing what to do with it. In later years Pyotr Alexandrovitch Miüsov, a man very sensitive on the score of money and bourgeois honesty, pronounced the following judgment, after getting to know Alyosha: “Here is perhaps the one man in the world whom you might leave alone without a penny, in the center of an unknown town of a million inhabitants, and he would not come to harm, he would not die of cold and hunger, for he would be fed and sheltered at once; and if he were not, he would find a shelter for himself, and it would cost him no effort or humiliation. And to shelter him would be no burden, but, on the contrary, would probably be looked on as a pleasure.” |
| В гимназии своей он курса не кончил; ему оставался еще целый год, как он вдруг объявил своим дамам, что едет к отцу по одному делу, которое взбрело ему в голову. Те очень жалели его и не хотели было пускать. Проезд стоил очень недорого, и дамы не позволили ему заложить свои часы, – подарок семейства благодетеля пред отъездом за границу, а роскошно снабдили его средствами, даже новым платьем и бельем. Он однако отдал им половину денег назад, объявив, что непременно хочет сидеть в третьем классе. Приехав в наш городок, он на первые расспросы родителя: “Зачем именно пожаловал, не докончив курса?” прямо ничего не ответил, а был, как говорят, не по обыкновенному задумчив. Вскоре обнаружилось, что он разыскивает могилу своей матери. Он даже сам признался было тогда, что затем только и приехал. Но вряд ли этим исчерпывалась вся причина его приезда. Всего вероятнее, что он тогда и сам не знал и не смог бы ни за что объяснить: что именно такое как бы поднялось вдруг из его души и неотразимо повлекло его на какую-то новую, неведомую, но неизбежную уже дорогу. Федор Павлович не мог указать ему, где похоронил свою вторую супругу, потому что никогда и не бывал на ее могиле, после того как засыпали гроб, а за давностью лет и совсем запамятовал, где ее тогда хоронили… | He did not finish his studies at the gymnasium. A year before the end of the course he suddenly announced to the ladies that he was going to see his father about a plan which had occurred to him. They were sorry and unwilling to let him go. The journey was not an expensive one, and the ladies would not let him pawn his watch, a parting present from his benefactor’s family. They provided him liberally with money and even fitted him out with new clothes and linen. But he returned half the money they gave him, saying that he intended to go third class. On his arrival in the town he made no answer to his father’s first inquiry why he had come before completing his studies, and seemed, so they say, unusually thoughtful. It soon became apparent that he was looking for his mother’s tomb. He practically acknowledged at the time that that was the only object of his visit. But it can hardly have been the whole reason of it. It is more probable that he himself did not understand and could not explain what had suddenly arisen in his soul, and drawn him irresistibly into a new, unknown, but inevitable path. Fyodor Pavlovitch could not show him where his second wife was buried, for he had never visited her grave since he had thrown earth upon her coffin, and in the course of years had entirely forgotten where she was buried. |
| К слову о Федоре Павловиче. Он долгое время пред тем прожил не в нашем городе. Года три-четыре по смерти второй жены он отправился на юг России и под конец очутился в Одессе, где и прожил сряду несколько лет. Познакомился он сначала, по его собственным словам, “со многими жидами, жидками, жидишками и жиденятами”, а кончил тем, что под конец даже не только у жидов, но “и у евреев был принят”. Надо думать, что в этот-то период своей жизни он и развил в себе особенное уменье сколачивать и выколачивать деньгу. Воротился он снова в наш городок окончательно всего только года за три до приезда Алеши. Прежние знакомые его нашли его страшно состарившимся, хотя был он вовсе еще не такой старик. Держал же он себя не то что благороднее, а как-то нахальнее. Явилась, например, наглая потребность в прежнем шуте – других в шуты рядить. Безобразничать с женским полом любил не то что попрежнему, а даже как бы и отвратительнее. В скорости он стал основателем по уезду многих новых кабаков. Видно было, что у него есть может быть тысяч до ста или разве немногим только менее. Многие из городских и из уездных обитателей тотчас же ему задолжали, под вернейшие залоги, разумеется. В самое же последнее время он как-то обрюзг, как-то стал терять ровность, самоотчетность, впал даже в какое-то легкомыслие, начинал одно и кончал другим, как-то раскидывался и все чаще и чаще напивался пьян, и если бы не все тот же лакей Григорий, тоже порядочно к тому времени состарившийся и смотревший за ним иногда в роде почти гувернера, то может быть Федор Павлович и не прожил бы без особых хлопот. Приезд Алеши как бы подействовал на него даже с нравственной стороны, как бы что-то проснулось в этом безвременном старике из того, что давно уже заглохло в душе его: “Знаешь ли ты, – стал он часто говорить Алеше, приглядываясь к нему, – что ты на нее похож, на кликушу-то?” Так называл он свою покойную жену, мать Алеши. Могилку “кликуши” указал наконец Алеше лакей Григорий. Он свел его на наше городское кладбище и там, в дальнем уголке, указал ему чугунную недорогую, но опрятную плиту, на которой была даже надпись с именем, званием, летами и годом смерти покойницы, а внизу было даже начертано нечто в роде четырехстишия из старинных, общеупотребительных на могилах среднего люда кладбищенских стихов. К удивлению, эта плита оказалась делом Григория. Это он сам воздвиг ее над могилкой бедной “кликуши” и на собственное иждивение, после того когда Федор Павлович, которому он множество раз уже досаждал напоминаниями об этой могилке, уехал наконец в Одессу, махнув рукой не только на могилы. но и на все свои воспоминания. Алеша не выказал на могилке матери никакой особенной чувствительности; он только выслушал важный и резонный рассказ Григория о сооружении плиты, постоял понурившись и ушел, не вымолвив ни слова. С тех пор, может быть, даже во весь год и не бывал на кладбище. Но на Федора Павловича этот маленький эпизод тоже произвел свое действие и очень оригинальное. Он вдруг взял тысячу рублей и свез ее в наш монастырь на помин души своей супруги, но не второй, не матери Алеши, не “кликуши”, а первой, Аделаиды Ивановны, которая колотила его. К вечеру того дня он напился пьян и ругал Алеше монахов. Сам он был далеко не из религиозных людей; человек никогда может быть пятикопеечной свечки не поставил пред образом. Странные порывы внезапных чувств и внезапных мыслей бывают у этаких субъектов. | Fyodor Pavlovitch, by the way, had for some time previously not been living in our town. Three or four years after his wife’s death he had gone to the south of Russia and finally turned up in Odessa, where he spent several years. He made the acquaintance at first, in his own words, “of a lot of low Jews, Jewesses, and Jewkins,” and ended by being received by “Jews high and low alike.” It may be presumed that at this period he developed a peculiar faculty for making and hoarding money. He finally returned to our town only three years before Alyosha’s arrival. His former acquaintances found him looking terribly aged, although he was by no means an old man. He behaved not exactly with more dignity but with more effrontery. The former buffoon showed an insolent propensity for making buffoons of others. His depravity with women was not simply what it used to be, but even more revolting. In a short time he opened a great number of new taverns in the district. It was evident that he had perhaps a hundred thousand roubles or not much less. Many of the inhabitants of the town and district were soon in his debt, and, of course, had given good security. Of late, too, he looked somehow bloated and seemed more irresponsible, more uneven, had sunk into a sort of incoherence, used to begin one thing and go on with another, as though he were letting himself go altogether. He was more and more frequently drunk. And, if it had not been for the same servant Grigory, who by that time had aged considerably too, and used to look after him sometimes almost like a tutor, Fyodor Pavlovitch might have got into terrible scrapes. Alyosha’s arrival seemed to affect even his moral side, as though something had awakened in this prematurely old man which had long been dead in his soul. “Do you know,” he used often to say, looking at Alyosha, “that you are like her, ‘the crazy woman’ ”—that was what he used to call his dead wife, Alyosha’s mother. Grigory it was who pointed out the “crazy woman’s” grave to Alyosha. He took him to our town cemetery and showed him in a remote corner a cast‐iron tombstone, cheap but decently kept, on which were inscribed the name and age of the deceased and the date of her death, and below a four‐lined verse, such as are commonly used on old‐fashioned middle‐class tombs. To Alyosha’s amazement this tomb turned out to be Grigory’s doing. He had put it up on the poor “crazy woman’s” grave at his own expense, after Fyodor Pavlovitch, whom he had often pestered about the grave, had gone to Odessa, abandoning the grave and all his memories. Alyosha showed no particular emotion at the sight of his mother’s grave. He only listened to Grigory’s minute and solemn account of the erection of the tomb; he stood with bowed head and walked away without uttering a word. It was perhaps a year before he visited the cemetery again. But this little episode was not without an influence upon Fyodor Pavlovitch—and a very original one. He suddenly took a thousand roubles to our monastery to pay for requiems for the soul of his wife; but not for the second, Alyosha’s mother, the “crazy woman,” but for the first, Adelaïda Ivanovna, who used to thrash him. In the evening of the same day he got drunk and abused the monks to Alyosha. He himself was far from being religious; he had probably never put a penny candle before the image of a saint. Strange impulses of sudden feeling and sudden thought are common in such types. |
| Я уже говорил, что он очень обрюзг. Физиономия его представляла к тому времени что-то резко свидетельствовавшее о характеристике и сущности всей прожитой им жизни. Кроме длинных и мясистых мешечков под маленькими его глазами, вечно наглыми, подозрительными и насмешливыми, кроме множества глубоких морщинок на его маленьком, но жирненьком личике, к острому подбородку его подвешивался еще большой кадык, мясистый и продолговатый как кошелек, что придавало ему какой-то отвратительно-сладострастный вид. Прибавьте к тому плотоядный, длинный рот, с пухлыми губами, из-под которых виднелись маленькие обломки черных, почти истлевших зубов. Он брызгался слюной каждый раз, когда начинал говорить. Впрочем и сам он любил шутить над своим лицом, хотя, кажется, оставался им доволен. Особенно указывал он на свой нос, не очень большой, но очень тонкий, с сильно-выдающеюся горбиной: “настоящий римский”, говорил он, “вместе с кадыком настоящая физиономия древнего римского патриция времен упадка”. Этим он, кажется, гордился. | I have mentioned already that he looked bloated. His countenance at this time bore traces of something that testified unmistakably to the life he had led. Besides the long fleshy bags under his little, always insolent, suspicious, and ironical eyes; besides the multitude of deep wrinkles in his little fat face, the Adam’s apple hung below his sharp chin like a great, fleshy goiter, which gave him a peculiar, repulsive, sensual appearance; add to that a long rapacious mouth with full lips, between which could be seen little stumps of black decayed teeth. He slobbered every time he began to speak. He was fond indeed of making fun of his own face, though, I believe, he was well satisfied with it. He used particularly to point to his nose, which was not very large, but very delicate and conspicuously aquiline. “A regular Roman nose,” he used to say, “with my goiter I’ve quite the countenance of an ancient Roman patrician of the decadent period.” He seemed proud of it. |
| И вот довольно скоро после обретения могилы матери, Алеша вдруг объявил ему, что хочет поступить в монастырь и что монахи готовы допустить его послушником. Он объяснил при этом, что это чрезвычайное желание его и что испрашивает он у него торжественное позволение, как у отца. Старик уже знал, что старец Зосима, спасавшийся в монастырском ските, произвел на его “тихого мальчика” особенное впечатление. | Not long after visiting his mother’s grave Alyosha suddenly announced that he wanted to enter the monastery, and that the monks were willing to receive him as a novice. He explained that this was his strong desire, and that he was solemnly asking his consent as his father. The old man knew that the elder Zossima, who was living in the monastery hermitage, had made a special impression upon his “gentle boy.” |
| – Этот старец конечно у них самый честный монах, – промолвил он, молчаливо и вдумчиво выслушав Алешу, почти совсем однако не удивившись его просьбе. – Гм, так ты вот куда хочешь, мой тихий мальчик! – Он был вполпьяна и вдруг улыбнулся своею длинною, полупьяною, но не лишенною хитрости и пьяного лукавства улыбкой: – Гм, а ведь я так и предчувствовал, что ты чем-нибудь вот этаким кончишь, можешь это себе представить? Ты именно туда норовил. Ну что ж, пожалуй, у тебя же есть свои две тысченочки, вот тебе и приданое, а я тебя, мой ангел, никогда не оставлю, да и теперь внесу за тебя что там следует, если спросят. Ну, а если не спросят, к чему нам навязываться, не так ли? Ведь ты денег что канарейка тратишь, по два зернышка в недельку… Гм. Знаешь, в одном монастыре есть одна подгорная слободка, и уж всем там известно, что в ней одни только “монастырские жены живут”, так их там и называют, штук тридцать жен, я думаю… Я там был, и, знаешь, интересно, в своем роде разумеется, в смысле разнообразия. Скверно тем только, что руссизм ужасный, француженок совсем еще нет, а могли бы быть, средства знатные. Проведают – приедут. Ну, а здесь ничего, здесь нет монастырских жен, а монахов штук двести. Честно. Постники. Сознаюсь… Гм. Так ты к монахам хочешь? А ведь мне тебя жаль, Алеша, воистину, веришь ли, я тебя полюбил… Впрочем вот и удобный случай: помолишься за нас грешных, слишком мы уж, сидя здесь, нагрешили. Я все помышлял о том: кто это за меня когда-нибудь помолится? Есть ли в свете такой человек? Милый ты мальчик, я ведь на этот счет ужасно как глуп, ты может быть не веришь? Ужасно. Видишь ли: я об этом, как ни глуп, а все думаю, все думаю, изредка, разумеется, не все же ведь. Ведь невозможно же, думаю, чтобы черти меня крючьями позабыли стащить к себе, когда я помру. Ну вот и думаю: крючья? А откуда они у них? Из чего? Железные? Где же их куют? Фабрика что ли у них какая там есть? Ведь там в монастыре иноки наверно полагают, что в аде например есть потолок. А я вот готов поверить в ад только чтобы без потолка; выходит оно как будто деликатнее, просвещеннее, по-лютерански то-есть. А в сущности ведь не все ли равно: с потолком или без потолка? Ведь вот вопрос-то проклятый в чем заключается! Ну, а коли нет потолка, стало быть нет и крючьев. А коли нет крючьев, стало быть и все по боку, значит опять невероятно: кто же меня тогда крючьями-то потащит, потому что если уж меня не потащат, то что ж тогда будет, где же правда на свете? Il faudrait les inventer, эти крючья, для меня нарочно, для меня одного, потому что если бы ты знал, Алеша, какой я срамник!.. | “That is the most honest monk among them, of course,” he observed, after listening in thoughtful silence to Alyosha, and seeming scarcely surprised at his request. “H’m!… So that’s where you want to be, my gentle boy?” He was half drunk, and suddenly he grinned his slow half‐drunken grin, which was not without a certain cunning and tipsy slyness. “H’m!… I had a presentiment that you would end in something like this. Would you believe it? You were making straight for it. Well, to be sure you have your own two thousand. That’s a dowry for you. And I’ll never desert you, my angel. And I’ll pay what’s wanted for you there, if they ask for it. But, of course, if they don’t ask, why should we worry them? What do you say? You know, you spend money like a canary, two grains a week. H’m!… Do you know that near one monastery there’s a place outside the town where every baby knows there are none but ‘the monks’ wives’ living, as they are called. Thirty women, I believe. I have been there myself. You know, it’s interesting in its own way, of course, as a variety. The worst of it is it’s awfully Russian. There are no French women there. Of course they could get them fast enough, they have plenty of money. If they get to hear of it they’ll come along. Well, there’s nothing of that sort here, no ‘monks’ wives,’ and two hundred monks. They’re honest. They keep the fasts. I admit it…. H’m…. So you want to be a monk? And do you know I’m sorry to lose you, Alyosha; would you believe it, I’ve really grown fond of you? Well, it’s a good opportunity. You’ll pray for us sinners; we have sinned too much here. I’ve always been thinking who would pray for me, and whether there’s any one in the world to do it. My dear boy, I’m awfully stupid about that. You wouldn’t believe it. Awfully. You see, however stupid I am about it, I keep thinking, I keep thinking—from time to time, of course, not all the while. It’s impossible, I think, for the devils to forget to drag me down to hell with their hooks when I die. Then I wonder—hooks? Where would they get them? What of? Iron hooks? Where do they forge them? Have they a foundry there of some sort? The monks in the monastery probably believe that there’s a ceiling in hell, for instance. Now I’m ready to believe in hell, but without a ceiling. It makes it more refined, more enlightened, more Lutheran that is. And, after all, what does it matter whether it has a ceiling or hasn’t? But, do you know, there’s a damnable question involved in it? If there’s no ceiling there can be no hooks, and if there are no hooks it all breaks down, which is unlikely again, for then there would be none to drag me down to hell, and if they don’t drag me down what justice is there in the world? Il faudrait les inventer, those hooks, on purpose for me alone, for, if you only knew, Alyosha, what a blackguard I am.” |
| – Да там нет крючьев, – тихо и серьезно приглядываясь к отцу, выговорил Алеша. | “But there are no hooks there,” said Alyosha, looking gently and seriously at his father. |
| – Так, так, одни только тени крючьев. Знаю, знаю. Это как один француз описывал ад: J’ai vu l’ombre d’un cocher, qui avec l’ombre d’une brosse frottait l’ombre d’une carosse. Ты, голубчик, почему знаешь, что нет крючьев? Побудешь у монахов. не то запоешь. А впрочем ступай, доберись там до правды, да и приди рассказать: все же идти на тот свет будет легче, коли наверно знаешь, что там такое. Да и приличнее тебе будет у монахов, чем у меня, с пьяным старикашкой, да с девчонками… хоть до тебя как до ангела ничего не коснется. Ну авось и там до тебя ничего не коснется, вот ведь я почему и дозволяю тебе, что на последнее надеюсь. Ум-то у тебя не чорт съел. Погоришь и погаснешь, вылечишься и назад придешь. А я тебя буду ждать: ведь я чувствую же, что ты единственный человек на земле, который меня не осудил, мальчик ты мой милый, я ведь чувствую же это, не могу же я это не чувствовать!.. | “Yes, yes, only the shadows of hooks, I know, I know. That’s how a Frenchman described hell: ‘J’ai vu l’ombre d’un cocher qui avec l’ombre d’une brosse frottait l’ombre d’une carrosse.’ How do you know there are no hooks, darling? When you’ve lived with the monks you’ll sing a different tune. But go and get at the truth there, and then come and tell me. Anyway it’s easier going to the other world if one knows what there is there. Besides, it will be more seemly for you with the monks than here with me, with a drunken old man and young harlots … though you’re like an angel, nothing touches you. And I dare say nothing will touch you there. That’s why I let you go, because I hope for that. You’ve got all your wits about you. You will burn and you will burn out; you will be healed and come back again. And I will wait for you. I feel that you’re the only creature in the world who has not condemned me. My dear boy, I feel it, you know. I can’t help feeling it.” |
| И он даже расхныкался. Он был сентиментален. Он был зол и сентиментален. | And he even began blubbering. He was sentimental. He was wicked and sentimental. |
| V. СТАРЦЫ. | Chapter V. Elders |
| Может быть кто из читателей подумает, что мой молодой человек был болезненная, экстазная, бедно развитая натура, бледный мечтатель, чахлый и испитой человечек. Напротив, Алеша был в то время статный, краснощекий, со светлым взором, пышащий здоровьем девятнадцатилетний подросток. Он был в то время даже очень красив собою, строен, средне-высокого роста, темнорус, с правильным, хотя несколько удлиненным овалом лица, с блестящими темносерыми широко расставленными глазами, весьма задумчивый и повидимому весьма спокойный. Скажут, может быть, что красные щеки не мешают ни фанатизму, ни мистицизму; а мне так кажется, что Алеша был даже больше чем кто-нибудь реалистом. О, конечно в монастыре он совершенно веровал в чудеса, но, по-моему, чудеса реалиста никогда не смутят. Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он не верующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду, а если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал: “Господь мой и бог мой!” Чудо ли заставило его уверовать? Вероятнее всего, что нет, а уверовал он лишь единственно потому, что желал уверовать, и может быть уже веровал вполне, в тайнике существа своего, даже еще тогда, когда произносил: “Не поверю, пока не увижу”. | Some of my readers may imagine that my young man was a sickly, ecstatic, poorly developed creature, a pale, consumptive dreamer. On the contrary, Alyosha was at this time a well‐grown, red‐cheeked, clear‐eyed lad of nineteen, radiant with health. He was very handsome, too, graceful, moderately tall, with hair of a dark brown, with a regular, rather long, oval‐shaped face, and wide‐set dark gray, shining eyes; he was very thoughtful, and apparently very serene. I shall be told, perhaps, that red cheeks are not incompatible with fanaticism and mysticism; but I fancy that Alyosha was more of a realist than any one. Oh! no doubt, in the monastery he fully believed in miracles, but, to my thinking, miracles are never a stumbling‐block to the realist. It is not miracles that dispose realists to belief. The genuine realist, if he is an unbeliever, will always find strength and ability to disbelieve in the miraculous, and if he is confronted with a miracle as an irrefutable fact he would rather disbelieve his own senses than admit the fact. Even if he admits it, he admits it as a fact of nature till then unrecognized by him. Faith does not, in the realist, spring from the miracle but the miracle from faith. If the realist once believes, then he is bound by his very realism to admit the miraculous also. The Apostle Thomas said that he would not believe till he saw, but when he did see he said, “My Lord and my God!” Was it the miracle forced him to believe? Most likely not, but he believed solely because he desired to believe and possibly he fully believed in his secret heart even when he said, “I do not believe till I see.” |
| Скажут, может быть, что Алеша был туп, не развит, не кончил курса и проч. Что он не кончил курса, это была правда, но сказать, что он был туп или глуп, было бы большою несправедливостью. Просто повторю, что сказал уже выше: вступил он на эту дорогу потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода рвавшейся из мрака к свету души его. Прибавьте, что был он юноша отчасти уже нашего последнего времени, то-есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Хотя к несчастию не понимают эти юноши, что жертва жизнию есть может быть самая легчайшая изо всех жертв во множестве таких случаев, и что пожертвовать, например, из своей кипучей юностью жизни пять-шесть лет на трудное, тяжелое учение, на науку, хотя бы для того только, чтоб удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который излюбил и который предложил себе совершить – такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти совсем не по силам. Алеша избрал лишь противоположную всем дорогу, но с тою же жаждой скорого подвига. Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и бог существуют, то сейчас же естественно сказал себе: “Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю”. Точно так же, если б он порешил, что бессмертия и бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты (ибо социализм есть не только рабочий вопрос, или так-называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю). Алеше казалось даже странным и невозможным жить попрежнему. Сказано: “Раздай все и иди за мной, если хочешь быть совершен”. Алеша и сказал себе: “Не могу я отдать вместо “всего” два рубля, а вместо “иди за мной” ходить лишь к обедне”. Из воспоминаний его младенчества может быть сохранилось нечто о нашем подгородном монастыре, куда могла возить его мать к обедне. Может быть подействовали и косые лучи заходящего солнца пред образом, к которому протягивала его кликуша мать. Задумчивый он приехал к нам тогда может быть только лишь посмотреть: все ли тут или и тут только два рубля, и – в монастыре встретил этого старца… | I shall be told, perhaps, that Alyosha was stupid, undeveloped, had not finished his studies, and so on. That he did not finish his studies is true, but to say that he was stupid or dull would be a great injustice. I’ll simply repeat what I have said above. He entered upon this path only because, at that time, it alone struck his imagination and presented itself to him as offering an ideal means of escape for his soul from darkness to light. Add to that that he was to some extent a youth of our last epoch—that is, honest in nature, desiring the truth, seeking for it and believing in it, and seeking to serve it at once with all the strength of his soul, seeking for immediate action, and ready to sacrifice everything, life itself, for it. Though these young men unhappily fail to understand that the sacrifice of life is, in many cases, the easiest of all sacrifices, and that to sacrifice, for instance, five or six years of their seething youth to hard and tedious study, if only to multiply tenfold their powers of serving the truth and the cause they have set before them as their goal—such a sacrifice is utterly beyond the strength of many of them. The path Alyosha chose was a path going in the opposite direction, but he chose it with the same thirst for swift achievement. As soon as he reflected seriously he was convinced of the existence of God and immortality, and at once he instinctively said to himself: “I want to live for immortality, and I will accept no compromise.” In the same way, if he had decided that God and immortality did not exist, he would at once have become an atheist and a socialist. For socialism is not merely the labor question, it is before all things the atheistic question, the question of the form taken by atheism to‐day, the question of the tower of Babel built without God, not to mount to heaven from earth but to set up heaven on earth. Alyosha would have found it strange and impossible to go on living as before. It is written: “Give all that thou hast to the poor and follow Me, if thou wouldst be perfect.” Alyosha said to himself: “I can’t give two roubles instead of ‘all,’ and only go to mass instead of ‘following Him.’ ” Perhaps his memories of childhood brought back our monastery, to which his mother may have taken him to mass. Perhaps the slanting sunlight and the holy image to which his poor “crazy” mother had held him up still acted upon his imagination. Brooding on these things he may have come to us perhaps only to see whether here he could sacrifice all or only “two roubles,” and in the monastery he met this elder. I must digress to explain what an “elder” is in Russian monasteries, and I am sorry that I do not feel very competent to do so. I will try, however, to give a superficial account of it in a few words. Authorities on the subject assert that the institution of “elders” is of recent date, not more than a hundred years old in our monasteries, though in the orthodox East, especially in Sinai and Athos, it has existed over a thousand years. It is maintained that it existed in ancient times in Russia also, but through the calamities which overtook Russia—the Tartars, civil war, the interruption of relations with the East after the destruction of Constantinople—this institution fell into oblivion. It was revived among us towards the end of last century by one of the great “ascetics,” as they called him, Païssy Velitchkovsky, and his disciples. But to this day it exists in few monasteries only, and has sometimes been almost persecuted as an innovation in Russia. It flourished especially in the celebrated Kozelski Optin Monastery. When and how it was introduced into our monastery I cannot say. There had already been three such elders and Zossima was the last of them. But he was almost dying of weakness and disease, and they had no one to take his place. The question for our monastery was an important one, for it had not been distinguished by anything in particular till then: they had neither relics of saints, nor wonder‐working ikons, nor glorious traditions, nor historical exploits. It had flourished and been glorious all over Russia through its elders, to see and hear whom pilgrims had flocked for thousands of miles from all parts. What was such an elder? An elder was one who took your soul, your will, into his soul and his will. When you choose an elder, you renounce your own will and yield it to him in complete submission, complete self‐ abnegation. This novitiate, this terrible school of abnegation, is undertaken voluntarily, in the hope of self‐conquest, of self‐mastery, in order, after a life of obedience, to attain perfect freedom, that is, from self; to escape the lot of those who have lived their whole life without finding their true selves in themselves. This institution of elders is not founded on theory, but was established in the East from the practice of a thousand years. The obligations due to an elder are not the ordinary “obedience” which has always existed in our Russian monasteries. The obligation involves confession to the elder by all who have submitted themselves to him, and to the indissoluble bond between him and them. |
| Старец этот, как я уже объяснил выше, был старец Зосима; но надо бы здесь сказать несколько слов и о том, что такое вообще “старцы” в наших монастырях, и вот жаль, что чувствую себя на этой дороге не довольно компетентным и твердым. Попробую однако сообщить малыми словами и в поверхностном изложении. И во-первых, люди специальные и компетентные утверждают, что старцы и старчество появились у нас, по нашим русским монастырям, весьма лишь недавно, даже нет и ста лет, тогда как на всем православном Востоке, особенно на Синае и на Афоне, существуют далеко уже за тысячу лет. Утверждают, что существовало старчество и у нас на Руси во времена древнейшие, или непременно должно было существовать, но вследствие бедствий России, Татарщины, смут, перерыва прежних сношений с Востоком после покорения Константинополя, установление это забылось у нас и старцы пресеклись. Возрождено же оно у нас опять с конца прошлого столетия одним из великих подвижников (как называют его) Паисием Величковским и учениками его, но и доселе, даже через сто почти лет, существует весьма еще не во многих монастырях, и даже подвергалось иногда почти что гонениям, как неслыханное по России новшество. В особенности процвело оно у нас на Руси в одной знаменитой пустыне, Козельской Оптиной. Когда и кем насадилось оно и в нашем подгородном монастыре, не могу сказать, но в нем уже считалось третье преемничество старцев, и старец Зосима был из них последним, но и он уже почти помирал от слабости и болезней, а заменить его даже и не знали кем. Вопрос для нашего монастыря был важный, так как монастырь наш ничем особенно не был до тех пор знаменит: в нем не было ни мощей святых угодников, ни явленных чудотворных икон, не было даже славных преданий, связанных с нашею историей, не числилось за ним исторических подвигов и заслуг отечеству. Процвел он и прославился на всю Россию именно из-за старцев, чтобы видеть и послушать которых стекались к нам богомольцы толпами со всей России из-за тысяч верст. Итак, что же такое старец? Старец это – берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог наконец достичь, чрез послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то-есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли/ Изобретение это, то-есть старчество, – не теоретическое, а выведено на Востоке из практики, в наше время уже тысячелетней. Обязанности к старцу не то что обыкновенное “послушание”, всегда бывшее и в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвизающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным. Рассказывают, например, что однажды, в древнейшие времена христианства, один таковой послушник, не исполнив некоего послушания, возложенного на него его старцем, ушел от него из монастыря и пришел в другую страну, из Сирии в Египет. Там, после долгих и великих подвигов сподобился наконец претерпеть истязания и мученическую смерть за веру. Когда же церковь хоронила тело его, уже чтя как святого, то вдруг при возгласе диакона: “Оглашенные изыдите”, – гроб с лежащим в нем телом мученика сорвался с места и был извергнут из храма, и так до трех раз. И наконец лишь узнали, что этот святой страстотерпец нарушил послушание и ушел от своего старца, а потому без разрешения старца не мог быть и прощен, даже несмотря на свои великие подвиги. Но когда призванный старец разрешил его от послушания, тогда лишь могло совершиться и погребение его. Конечно все это лишь древняя легенда, но вот и недавняя быль: один из наших современных иноков спасался на Афоне и вдруг старец его повелел ему оставить Афон, который он излюбил как святыню, как тихое пристанище, до глубины души своей и идти сначала в Иерусалим на поклонение святым местам, а потом обратно в Россию, на Север, в Сибирь: “Там тебе место, а не здесь”. Пораженный и убитый горем монах явился в Константинополь ко вселенскому патриарху и молил разрешить его послушание, и вот вселенский владыко ответил ему, что не только он, патриарх вселенский, не может разрешить его, но и на всей земле нет да и не может быть такой власти, которая бы могла разрешить его от послушания, раз уже наложенного старцем, кроме лишь власти самого того старца, который наложил его. Таким образом старчество одарено властью в известных случаях беспредельною и непостижимою. Вот почему во многих монастырях старчество у нас сначала встречено было почти гонением. Между тем старцев тотчас же стали высоко уважать в народе. К старцам нашего монастыря стекались например и простолюдины и самые знатные люди с тем, чтобы, повергаясь пред ними, исповедывать им свои сомнения, свои грехи, свои страдания, и испросить совета и наставления. Видя это, противники старцев кричали, вместе с прочими обвинениями, что здесь самовластно и легкомысленно унижается таинство исповеди, хотя беспрерывное исповедывание своей души старцу послушником его или светским производится совсем не как таинство. Кончилось однако тем, что старчество удержалось и мало-по-малу по русским монастырям водворяется. Правда пожалуй и то, что это испытанное и уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию может обратиться в обоюдоострое орудие, так что иного пожалуй приведет, вместо смирения и окончательного самообладания, напротив, к самой сатанинской гордости, то-есть к цепям, а не к свободе. | The story is told, for instance, that in the early days of Christianity one such novice, failing to fulfill some command laid upon him by his elder, left his monastery in Syria and went to Egypt. There, after great exploits, he was found worthy at last to suffer torture and a martyr’s death for the faith. When the Church, regarding him as a saint, was burying him, suddenly, at the deacon’s exhortation, “Depart all ye unbaptized,” the coffin containing the martyr’s body left its place and was cast forth from the church, and this took place three times. And only at last they learnt that this holy man had broken his vow of obedience and left his elder, and, therefore, could not be forgiven without the elder’s absolution in spite of his great deeds. Only after this could the funeral take place. This, of course, is only an old legend. But here is a recent instance. A monk was suddenly commanded by his elder to quit Athos, which he loved as a sacred place and a haven of refuge, and to go first to Jerusalem to do homage to the Holy Places and then to go to the north to Siberia: “There is the place for thee and not here.” The monk, overwhelmed with sorrow, went to the Œcumenical Patriarch at Constantinople and besought him to release him from his obedience. But the Patriarch replied that not only was he unable to release him, but there was not and could not be on earth a power which could release him except the elder who had himself laid that duty upon him. In this way the elders are endowed in certain cases with unbounded and inexplicable authority. That is why in many of our monasteries the institution was at first resisted almost to persecution. Meantime the elders immediately began to be highly esteemed among the people. Masses of the ignorant people as well as men of distinction flocked, for instance, to the elders of our monastery to confess their doubts, their sins, and their sufferings, and ask for counsel and admonition. Seeing this, the opponents of the elders declared that the sacrament of confession was being arbitrarily and frivolously degraded, though the continual opening of the heart to the elder by the monk or the layman had nothing of the character of the sacrament. In the end, however, the institution of elders has been retained and is becoming established in Russian monasteries. It is true, perhaps, that this instrument which had stood the test of a thousand years for the moral regeneration of a man from slavery to freedom and to moral perfectibility may be a two‐edged weapon and it may lead some not to humility and complete self‐control but to the most Satanic pride, that is, to bondage and not to freedom. |
| Старец Зосима был лет шестидесяти пяти, происходил из помещиков, когда-то в самой ранней юности был военным и служил на Кавказе обер-офицером. Без сомнения он поразил Алешу каким-нибудь особенным свойством души своей. Алеша жил в самой келье старца, который очень полюбил его и допустил к себе. Надо заметить, что Алеша, живя тогда в монастыре, был еще ничем не связан, мог выходить куда угодно хоть на целые дни, и если носил свой подрясник, то добровольно, чтобы ни от кого в монастыре не отличаться. Но уж конечно это ему и самому нравилось. Может быть на юношеское воображение Алеши сильно подействовала эта сила и слава, которая окружала беспрерывно его старца. Про старца Зосиму говорили многие, что он, допуская к себе столь многие годы всех приходивших к нему исповедывать сердце свое и жаждавших от него совета и врачебного слова, – до того много принял в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрел прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать: с чем тот пришел, чего тому нужно, и даже какого рода мучение терзает его совесть, и удивлял, смущал и почти пугал иногда пришедшего таким знанием тайны его, прежде чем тот молвил слово. Но при этом Алеша почти всегда замечал, что многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от него почти всегда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое, Алешу необыкновенно поражало и то, что старец был вовсе не строг; напротив был всегда почти весел в обхождении. Монахи про него говорили, что он именно привязывается душой к тому, кто грешнее, и кто всех более грешен, того он всех более и возлюбит. Из монахов находились, даже и под самый конец жизни старца, ненавистники и завистники его, но их становилось уже мало, и они молчали, хотя было в их числе несколько весьма знаменитых и важных в монастыре лиц, как например один из древнейших иноков, великий молчальник и необычайный постник. Но все-таки огромное большинство держало уже несомненно сторону старца Зосимы, а из них очень многие даже любили его всем сердцем, горячо и искренно; некоторые же были привязаны к нему почти фанатически. Такие прямо говорили, не совсем впрочем вслух, что он святой, что в этом нет уже и сомнения, и, предвидя близкую кончину его, ожидали немедленных даже чудес и великой славы в самом ближайшем будущем от почившего монастырю. В чудесную силу старца верил беспрекословно и Алеша, точно так же как беспрекословно верил и рассказу о вылетавшем из церкви гробе. Он видел, как многие из приходивших с больными детьми или взрослыми родственниками и моливших, чтобы старец возложил на них руки и прочитал над ними молитву, возвращались в скорости, а иные так и на другой же день, обратно и, падая со слезами пред старцем, благодарили его за исцеление их больных. Исцеление ли было в самом деле, или только естественное улучшение в ходе болезни – для Алеши в этом вопроса не существовало, ибо он вполне уже верил в духовную силу своего учителя, и слава его была как бы собственным его торжеством. Особенно же дрожало у него сердце, и весь как бы сиял он, когда старец выходил к толпе ожидавших его выхода у врат скита богомольцев из простого народа, нарочно чтобы видеть старца и благословиться у него стекавшегося со всей России. Они повергались пред ним, плакали, целовали ноги его, целовали землю. на которой он стоит, вопили, бабы протягивали к нему детей своих, подводили больных кликуш. Старец говорил с ними, читал над ними краткую молитву, благословлял и отпускал их. В последнее время от припадков болезни он становился иногда так слаб, что едва бывал в силах выйти из кельи; и богомольцы ждали иногда в монастыре его выхода по нескольку дней. Для Алеши не составляло никакого вопроса, за что они его так любят, за что они повергаются пред ним и плачут от умиления, завидев лишь лицо его. О, он отлично понимал, что для смиренной души русского простолюдина, измученной трудом и горем, а главное всегдашнею несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения как обрести святыню или святого, пасть пред ним и поклониться ему: “Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то, где-то святой и высший; у того зато правда, тот зато знает правду; значит, не умирает она на земле, а стало быть когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле как обещано”. Знал Алеша, что так именно и чувствует и даже рассуждает народ, он понимал это, но то, что старец именно и есть этот самый святой, этот хранитель божьей правды в глазах народа – в этом он не сомневался нисколько, и сам, вместе с этими плачущими мужиками и больными их бабами, протягивающими старцу детей своих. Убеждение же в том, что старец почивши доставит необычайную славу монастырю, царило в душе Алеши может быть даже сильнее, чем у кого бы то ни было в монастыре. И вообще все это последнее время какой-то глубокий, пламенный внутренний восторг все сильнее и сильнее разгорался в его сердце. Не смущало его нисколько, что этот старец все-таки стоит пред ним единицей: “все равно, он свят, в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит наконец правду на земле и будут все святы, и будут любить друг друга и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети божии и наступит настоящее царство Христово”. Вот о чем грезилось сердцу Алеши. | The elder Zossima was sixty‐five. He came of a family of landowners, had been in the army in early youth, and served in the Caucasus as an officer. He had, no doubt, impressed Alyosha by some peculiar quality of his soul. Alyosha lived in the cell of the elder, who was very fond of him and let him wait upon him. It must be noted that Alyosha was bound by no obligation and could go where he pleased and be absent for whole days. Though he wore the monastic dress it was voluntarily, not to be different from others. No doubt he liked to do so. Possibly his youthful imagination was deeply stirred by the power and fame of his elder. It was said that so many people had for years past come to confess their sins to Father Zossima and to entreat him for words of advice and healing, that he had acquired the keenest intuition and could tell from an unknown face what a new‐comer wanted, and what was the suffering on his conscience. He sometimes astounded and almost alarmed his visitors by his knowledge of their secrets before they had spoken a word. Alyosha noticed that many, almost all, went in to the elder for the first time with apprehension and uneasiness, but came out with bright and happy faces. Alyosha was particularly struck by the fact that Father Zossima was not at all stern. On the contrary, he was always almost gay. The monks used to say that he was more drawn to those who were more sinful, and the greater the sinner the more he loved him. There were, no doubt, up to the end of his life, among the monks some who hated and envied him, but they were few in number and they were silent, though among them were some of great dignity in the monastery, one, for instance, of the older monks distinguished for his strict keeping of fasts and vows of silence. But the majority were on Father Zossima’s side and very many of them loved him with all their hearts, warmly and sincerely. Some were almost fanatically devoted to him, and declared, though not quite aloud, that he was a saint, that there could be no doubt of it, and, seeing that his end was near, they anticipated miracles and great glory to the monastery in the immediate future from his relics. Alyosha had unquestioning faith in the miraculous power of the elder, just as he had unquestioning faith in the story of the coffin that flew out of the church. He saw many who came with sick children or relatives and besought the elder to lay hands on them and to pray over them, return shortly after—some the next day—and, falling in tears at the elder’s feet, thank him for healing their sick. Whether they had really been healed or were simply better in the natural course of the disease was a question which did not exist for Alyosha, for he fully believed in the spiritual power of his teacher and rejoiced in his fame, in his glory, as though it were his own triumph. His heart throbbed, and he beamed, as it were, all over when the elder came out to the gates of the hermitage into the waiting crowd of pilgrims of the humbler class who had flocked from all parts of Russia on purpose to see the elder and obtain his blessing. They fell down before him, wept, kissed his feet, kissed the earth on which he stood, and wailed, while the women held up their children to him and brought him the sick “possessed with devils.” The elder spoke to them, read a brief prayer over them, blessed them, and dismissed them. Of late he had become so weak through attacks of illness that he was sometimes unable to leave his cell, and the pilgrims waited for him to come out for several days. Alyosha did not wonder why they loved him so, why they fell down before him and wept with emotion merely at seeing his face. Oh! he understood that for the humble soul of the Russian peasant, worn out by grief and toil, and still more by the everlasting injustice and everlasting sin, his own and the world’s, it was the greatest need and comfort to find some one or something holy to fall down before and worship. “Among us there is sin, injustice, and temptation, but yet, somewhere on earth there is some one holy and exalted. He has the truth; he knows the truth; so it is not dead upon the earth; so it will come one day to us, too, and rule over all the earth according to the promise.” Alyosha knew that this was just how the people felt and even reasoned. He understood it, but that the elder Zossima was this saint and custodian of God’s truth—of that he had no more doubt than the weeping peasants and the sick women who held out their children to the elder. The conviction that after his death the elder would bring extraordinary glory to the monastery was even stronger in Alyosha than in any one there, and, of late, a kind of deep flame of inner ecstasy burnt more and more strongly in his heart. He was not at all troubled at this elder’s standing as a solitary example before him. “No matter. He is holy. He carries in his heart the secret of renewal for all: that power which will, at last, establish truth on the earth, and all men will be holy and love one another, and there will be no more rich nor poor, no exalted nor humbled, but all will be as the children of God, and the true Kingdom of Christ will come.” That was the dream in Alyosha’s heart. |
| Кажется, что на Алешу произвел сильнейшее впечатление приезд его обоих братьев, которых он до того совершенно не знал. С братом Дмитрием Федоровичем он сошелся скорее и ближе, хотя тот приехал позже, чем с другим (единоутробным) братом своим, Иваном Федоровичем. Он ужасно интересовался узнать брата Ивана, но вот тот уже жил два месяца, а они хоть и виделись довольно часто, но все еще никак не сходились: Алеша был и сам молчалив, и как бы ждал чего-то, как бы стыдился чего-то, а брат Иван, хотя Алеша и подметил в начале на себе его длинные и любопытные взгляды, кажется, вскоре перестал даже и думать о нем. Алеша заметил это с некоторым смущением. Он приписал равнодушие брата разнице в их летах и в особенности в образовании. Но думал Алеша и другое: столь малое любопытство и участие к нему может быть происходило у Ивана и от чего-нибудь совершенно Алеше неизвестного. Ему все казалось почему-то, что Иван чем-то занят, чем-то внутренним и важным, что он стремится к какой-то цели, может быть очень трудной, так что ему не до него, и что вот это и есть та единственная причина, почему он смотрит на Алешу рассеянно. Задумывался Алеша и о том: не было ли тут какого-нибудь презрения к нему, к глупенькому послушнику, от ученого атеиста. Он совершенно знал, что брат его атеист. Презрением этим, если оно и было, он обидеться не мог, но все-таки с каким-то непонятным себе самому и тревожным смущением ждал, когда брат захочет подойти к нему ближе. Брат Дмитрий Федорович отзывался о брате Иване с глубочайшим уважением, с каким-то особым проникновением говорил о нем. От него же узнал Алеша все подробности того важного дела, которое связало, в последнее время, обоих старших братьев замечательною и тесною связью. Восторженные отзывы Дмитрия о брате Иване были тем характернее в глазах Алеши, что брат Дмитрий был человек в сравнении с Иваном почти вовсе необразованный, и оба, поставленные вместе один с другим, составляли, казалось, такую яркую противоположность, как личности и характеры, что может быть нельзя было бы и придумать двух человек несходнее между собой. | The arrival of his two brothers, whom he had not known till then, seemed to make a great impression on Alyosha. He more quickly made friends with his half‐brother Dmitri (though he arrived later) than with his own brother Ivan. He was extremely interested in his brother Ivan, but when the latter had been two months in the town, though they had met fairly often, they were still not intimate. Alyosha was naturally silent, and he seemed to be expecting something, ashamed about something, while his brother Ivan, though Alyosha noticed at first that he looked long and curiously at him, seemed soon to have left off thinking of him. Alyosha noticed it with some embarrassment. He ascribed his brother’s indifference at first to the disparity of their age and education. But he also wondered whether the absence of curiosity and sympathy in Ivan might be due to some other cause entirely unknown to him. He kept fancying that Ivan was absorbed in something—something inward and important—that he was striving towards some goal, perhaps very hard to attain, and that that was why he had no thought for him. Alyosha wondered, too, whether there was not some contempt on the part of the learned atheist for him—a foolish novice. He knew for certain that his brother was an atheist. He could not take offense at this contempt, if it existed; yet, with an uneasy embarrassment which he did not himself understand, he waited for his brother to come nearer to him. Dmitri used to speak of Ivan with the deepest respect and with a peculiar earnestness. From him Alyosha learnt all the details of the important affair which had of late formed such a close and remarkable bond between the two elder brothers. Dmitri’s enthusiastic references to Ivan were the more striking in Alyosha’s eyes since Dmitri was, compared with Ivan, almost uneducated, and the two brothers were such a contrast in personality and character that it would be difficult to find two men more unlike. |
| Вот в это-то время и состоялось свидание, или лучше сказать семейная сходка всех членов этого нестройного семейства в кельи старца, имевшая чрезвычайное влияние на Алешу. Предлог к этой сходке, по-настоящему, был фальшивый. Тогда именно несогласия по наследству и по имущественным расчетам Дмитрия Федоровича с отцом его, Федором Павловичем, дошли повидимому до невозможной точки. Отношения обострились и стали невыносимы. Федор Павлович, кажется, первый и, кажется, шутя подал мысль о том, чтобы сойтись всем в кельи старца Зосимы и, хоть и не прибегая к прямому его посредничеству, все-таки как-нибудь сговориться приличнее, при чем сан и лицо старца могли бы иметь нечто внушающее и примирительное. Дмитрий Федорович, никогда у старца не бывавший и даже не видавший его, конечно подумал, что старцем его хотят как бы испугать; но так как он и сам укорял себя втайне за многие особенно резкие выходки в споре с отцом за последнее время, то и принял вызов. Кстати заметить, что жил он не в доме отца, как Иван Федорович, а отдельно, в другом конце города. Тут случилось, что проживавший в это время у нас Петр Александрович Миусов особенно ухватился за эту идею Федора Павловича. Либерал сороковых и пятидесятых годов, вольнодумец и атеист, он, от скуки может быть, а, может быть для легкомысленной потехи, принял в этом деле чрезвычайное участие. Ему вдруг захотелось посмотреть на монастырь и на “святого”. Так как все еще продолжались его давние споры с монастырем и все еще тянулась тяжба о поземельной границе их владений, о каких-то правах рубки в лесу и рыбной ловле в речке и проч., то он и поспешил этим воспользоваться под предлогом того, что сам желал бы сговориться с отцом игуменом: нельзя ли как-нибудь покончить их споры полюбовно? Посетителя с такими благими намерениями конечно могли принять в монастыре внимательнее и предупредительнее, чем просто любопытствующего. Вследствие всех сих соображений и могло устроиться некоторое внутреннее влияние в монастыре на больного старца, в последнее время почти совсем уже не покидавшего келью и отказывавшего по болезни даже обыкновенным посетителям. Кончилось тем, что старец дал согласие, и день был назначен. “Кто меня поставил делить между ними?” заявил он только с улыбкой Алеше. | It was at this time that the meeting, or, rather gathering of the members of this inharmonious family took place in the cell of the elder who had such an extraordinary influence on Alyosha. The pretext for this gathering was a false one. It was at this time that the discord between Dmitri and his father seemed at its acutest stage and their relations had become insufferably strained. Fyodor Pavlovitch seems to have been the first to suggest, apparently in joke, that they should all meet in Father Zossima’s cell, and that, without appealing to his direct intervention, they might more decently come to an understanding under the conciliating influence of the elder’s presence. Dmitri, who had never seen the elder, naturally supposed that his father was trying to intimidate him, but, as he secretly blamed himself for his outbursts of temper with his father on several recent occasions, he accepted the challenge. It must be noted that he was not, like Ivan, staying with his father, but living apart at the other end of the town. It happened that Pyotr Alexandrovitch Miüsov, who was staying in the district at the time, caught eagerly at the idea. A Liberal of the forties and fifties, a freethinker and atheist, he may have been led on by boredom or the hope of frivolous diversion. He was suddenly seized with the desire to see the monastery and the holy man. As his lawsuit with the monastery still dragged on, he made it the pretext for seeing the Superior, in order to attempt to settle it amicably. A visitor coming with such laudable intentions might be received with more attention and consideration than if he came from simple curiosity. Influences from within the monastery were brought to bear on the elder, who of late had scarcely left his cell, and had been forced by illness to deny even his ordinary visitors. In the end he consented to see them, and the day was fixed. “Who has made me a judge over them?” was all he said, smilingly, to Alyosha. |
| Узнав о свидании, Алеша очень смутился. Если кто из этих тяжущихся и пререкающихся мог смотреть серьезно на этот съезд, то без сомнения один только брат Дмитрий; остальные же все придут из целей легкомысленных и для старца может быть оскорбительных, – вот что понимал Алеша. Брат Иван и Миусов приедут из любопытства, может быть самого грубого, а отец его может быть для какой-нибудь шутовской и актерской сцены. О, Алеша хоть и молчал, но довольно и глубоко знал уже своего отца. Повторяю, этот мальчик был вовсе не столь простодушным, каким все считали его. С тяжелым чувством дожидался он назначенного дня. Без сомнения он очень заботился про себя, в сердце своем, о том, чтобы как-нибудь все эти семейные несогласия кончились. Тем не менее самая главная забота его была о старце: он трепетал за него, за славу его, боялся оскорблений ему, особенно тонких, вежливых насмешек Миусова и недомолвок – свысока ученого Ивана, так это все представлялось ему. Он даже хотел рискнуть предупредить старца, сказать ему что-нибудь об этих могущих прибыть лицах, но подумал и промолчал. Передал только накануне назначенного дня чрез одного знакомого брату Дмитрию, что очень любит его и ждет от него исполнения обещанного. Дмитрий задумался, потому что ничего не мог припомнить, что бы такое ему обещал, ответил только письмом, что изо всех сил себя сдержит “пред низостью”, и хотя глубоко уважает старца и брата Ивана, но убежден, что тут или какая-нибудь ему ловушка или недостойная комедия. “Тем не менее скорее проглочу свой язык, чем манкирую уважением к святому мужу, тобою столь уважаемому”, закончил Дмитрий свое письмецо. Алешу оно не весьма ободрило. | Alyosha was much perturbed when he heard of the proposed visit. Of all the wrangling, quarrelsome party, Dmitri was the only one who could regard the interview seriously. All the others would come from frivolous motives, perhaps insulting to the elder. Alyosha was well aware of that. Ivan and Miüsov would come from curiosity, perhaps of the coarsest kind, while his father might be contemplating some piece of buffoonery. Though he said nothing, Alyosha thoroughly understood his father. The boy, I repeat, was far from being so simple as every one thought him. He awaited the day with a heavy heart. No doubt he was always pondering in his mind how the family discord could be ended. But his chief anxiety concerned the elder. He trembled for him, for his glory, and dreaded any affront to him, especially the refined, courteous irony of Miüsov and the supercilious half‐utterances of the highly educated Ivan. He even wanted to venture on warning the elder, telling him something about them, but, on second thoughts, said nothing. He only sent word the day before, through a friend, to his brother Dmitri, that he loved him and expected him to keep his promise. Dmitri wondered, for he could not remember what he had promised, but he answered by letter that he would do his utmost not to let himself be provoked “by vileness,” but that, although he had a deep respect for the elder and for his brother Ivan, he was convinced that the meeting was either a trap for him or an unworthy farce. “Nevertheless I would rather bite out my tongue than be lacking in respect to the sainted man whom you reverence so highly,” he wrote in conclusion. Alyosha was not greatly cheered by the letter. |
| КНИГА ВТОРАЯ. | Book II. |
| Неуместное собрание | An Unfortunate Gathering |
| I. ПРИЕХАЛИ В МОНАСТЫРЬ. | Chapter I. They Arrive At The Monastery |
| Выдался прекрасный, теплый и ясный день. Был конец августа. Свидание со старцем условлено было сейчас после поздней обедни, примерно к половине двенадцатого. Наши посетители монастыря к обедне однако не пожаловали, а приехали ровно к шапочному разбору. Приехали они в двух экипажах; в первом экипаже, в щегольской коляске, запряженной парой дорогих лошадей, прибыл Петр Александрович Миусов, со своим дальним родственником, очень молодым человеком, лет двадцати, Петром Фомичем Калгановым. Этот молодой человек готовился поступить в университет; Миусов же, у которого он почему-то пока жил, соблазнял его с собою за границу, в Цюрих или в Иену, чтобы там поступить в университет и окончить курс. Молодой человек еще не решился. Он был задумчив и как бы рассеян. Лицо его было приятное, сложение крепкое, рост довольно высокий. Во взгляде его случалась странная неподвижность: подобно всем очень рассеянным людям он глядел на вас иногда в упор и подолгу, а между тем совсем вас не видел. Был он молчалив и несколько неловок, но бывало, – впрочем не иначе, как с кем-нибудь один на один, – что он вдруг станет ужасно разговорчив, порывист, смешлив, смеясь бог знает иногда чему. Но одушевление его столь же быстро и вдруг погасало, как быстро и вдруг нарождалось. Был он одет всегда хорошо и даже изысканно; он уже имел некоторое независимое состояние и ожидал еще гораздо большего. С Алешей был приятелем. | It was a warm, bright day at the end of August. The interview with the elder had been fixed for half‐past eleven, immediately after late mass. Our visitors did not take part in the service, but arrived just as it was over. First an elegant open carriage, drawn by two valuable horses, drove up with Miüsov and a distant relative of his, a young man of twenty, called Pyotr Fomitch Kalganov. This young man was preparing to enter the university. Miüsov, with whom he was staying for the time, was trying to persuade him to go abroad to the university of Zurich or Jena. The young man was still undecided. He was thoughtful and absent‐minded. He was nice‐ looking, strongly built, and rather tall. There was a strange fixity in his gaze at times. Like all very absent‐minded people he would sometimes stare at a person without seeing him. He was silent and rather awkward, but sometimes, when he was alone with any one, he became talkative and effusive, and would laugh at anything or nothing. But his animation vanished as quickly as it appeared. He was always well and even elaborately dressed; he had already some independent fortune and expectations of much more. He was a friend of Alyosha’s. |
| В весьма ветхой, дребезжащей, но поместительной извозчичьей коляске, на паре старых сиворозовых лошадей, сильно отстававших от коляски Миусова, подъехали и Федор Павлович с сынком своим Иваном Федоровичем. Дмитрию Федоровичу еще накануне сообщен был и час и срок, но он запоздал. Посетители оставили экипажи у ограды, в гостинице, и вошли в монастырские ворота пешком. Кроме Федора Павловича, остальные трое кажется никогда не видали никакого монастыря, а Миусов так лет тридцать может быть и в церкви не был. Он озирался с некоторым любопытством, не лишенным некоторой напущенной на себя развязности. Но для наблюдательного его ума, кроме церковных и хозяйственных построек, весьма впрочем обыкновенных, во внутренности монастыря ничего не представлялось. Проходил последний народ из церкви, снимая шапки и крестясь. Между простонародьем встречались и приезжие более высшего общества, две-три дамы, один очень старый генерал; все они стояли в гостинице. Нищие обступили наших посетителей тотчас же, но им никто ничего не дал. Только Петруша Калганов вынул из портмоне гривенник и, заторопившись и сконфузившись бог знает отчего, поскорее сунул одной бабе, быстро проговорив: “разделить поровну”. Никто ему на это ничего из его сопутников не заметил, так что нечего ему было конфузиться; но, заметив это, он еще больше сконфузился. | In an ancient, jolting, but roomy, hired carriage, with a pair of old pinkish‐gray horses, a long way behind Miüsov’s carriage, came Fyodor Pavlovitch, with his son Ivan. Dmitri was late, though he had been informed of the time the evening before. The visitors left their carriage at the hotel, outside the precincts, and went to the gates of the monastery on foot. Except Fyodor Pavlovitch, none of the party had ever seen the monastery, and Miüsov had probably not even been to church for thirty years. He looked about him with curiosity, together with assumed ease. But, except the church and the domestic buildings, though these too were ordinary enough, he found nothing of interest in the interior of the monastery. The last of the worshippers were coming out of the church, bareheaded and crossing themselves. Among the humbler people were a few of higher rank—two or three ladies and a very old general. They were all staying at the hotel. Our visitors were at once surrounded by beggars, but none of them gave them anything, except young Kalganov, who took a ten‐ copeck piece out of his purse, and, nervous and embarrassed—God knows why!—hurriedly gave it to an old woman, saying: “Divide it equally.” None of his companions made any remark upon it, so that he had no reason to be embarrassed; but, perceiving this, he was even more overcome. |
| Было однако странно; их по-настоящему должны бы были ждать и может быть с некоторым даже почетом: один недавно еще тысячу рублей пожертвовал, а другой был богатейшим помещиком и образованнейшим так-сказать человеком, от которого все они тут отчасти зависели по поводу ловель рыбы в реке, вследствие оборота, какой мог принять процесс. И вот однако ж никто из официальных лиц их не встречает. Миусов рассеянно смотрел на могильные камни около церкви и хотел было заметить, что могилки эти должно быть обошлись дорогонько хоронившим за право хоронить в таком “святом” месте, но промолчал: простая либеральная ирония перерождалась в нем почти что уж в гнев. | It was strange that their arrival did not seem expected, and that they were not received with special honor, though one of them had recently made a donation of a thousand roubles, while another was a very wealthy and highly cultured landowner, upon whom all in the monastery were in a sense dependent, as a decision of the lawsuit might at any moment put their fishing rights in his hands. Yet no official personage met them. Miüsov looked absent‐mindedly at the tombstones round the church, and was on the point of saying that the dead buried here must have paid a pretty penny for the right of lying in this “holy place,” but refrained. His liberal irony was rapidly changing almost into anger. |
| – Чорт, у кого здесь однако спросить, в этой бестолковщине… Это нужно бы решить, потому что время уходит, – промолвил он вдруг, как бы говоря про себя. | “Who the devil is there to ask in this imbecile place? We must find out, for time is passing,” he observed suddenly, as though speaking to himself. |
| Вдруг подошел к ним один пожилой, лысоватый господин, в широком летнем пальто и с сладкими глазками. Приподняв шляпу, медово присюсюкивая, отрекомендовался он всем вообще тульским помещиком Максимовым. Он мигом вошел в заботу наших путников. | All at once there came up a bald‐headed, elderly man with ingratiating little eyes, wearing a full, summer overcoat. Lifting his hat, he introduced himself with a honeyed lisp as Maximov, a landowner of Tula. He at once entered into our visitors’ difficulty. |
| – Старец Зосима живет в скиту, в скиту наглухо, шагов четыреста от монастыря, через лесок, через лесок… | “Father Zossima lives in the hermitage, apart, four hundred paces from the monastery, the other side of the copse.” |
| – Это и я знаю-с, что чрез лесок, – ответил ему Федор Павлович, – да дорогу-то мы не совсем помним, давно не бывали. | “I know it’s the other side of the copse,” observed Fyodor Pavlovitch, “but we don’t remember the way. It is a long time since we’ve been here.” |
| – А вот в эти врата, и прямо леском… леском. Пойдемте. Не угодно ли… мне самому… я сам… Вот сюда, сюда… | “This way, by this gate, and straight across the copse … the copse. Come with me, won’t you? I’ll show you. I have to go…. I am going myself. This way, this way.” |
| Они вышли из врат и направились лесом. Помещик Максимов, человек лет шестидесяти, не то что шел, а лучше сказать почти бежал сбоку, рассматривая их всех с судорожным, невозможным почти любопытством. В глазах его было что-то лупоглазое. | They came out of the gate and turned towards the copse. Maximov, a man of sixty, ran rather than walked, turning sideways to stare at them all, with an incredible degree of nervous curiosity. His eyes looked starting out of his head. |
| – Видите ли, мы к этому старцу по своему делу, – заметил строго Миусов, – мы так-сказать получили аудиенцию “у сего лица”, а потому хоть и благодарны вам за дорогу, но вас уж не попросим входить вместе. | “You see, we have come to the elder upon business of our own,” observed Miüsov severely. “That personage has granted us an audience, so to speak, and so, though we thank you for showing us the way, we cannot ask you to accompany us.” |
| – Я был, был, я уже был… Un chevalier parfait! – и помещик пустил на воздух щелчок пальцем. | “I’ve been there. I’ve been already; un chevalier parfait,” and Maximov snapped his fingers in the air. |
| – Кто это chevalier? – спросил Миусов. | “Who is a chevalier?” asked Miüsov. |
| – Старец, великолепный старец, старец… Честь и слава монастырю. Зосима. Это такой старец… | “The elder, the splendid elder, the elder! The honor and glory of the monastery, Zossima. Such an elder!” |
| Но беспорядочную речь его перебил догнавший путников монашек, в клобуке, невысокого росту, очень бледный и испитой. Федор Павлович и Миусов остановились. Монах с чрезвычайно вежливым, почти поясным поклоном произнес: | But his incoherent talk was cut short by a very pale, wan‐looking monk of medium height, wearing a monk’s cap, who overtook them. Fyodor Pavlovitch and Miüsov stopped. |
| – Отец игумен, после посещения вашего в ските, покорнейше просит вас всех, господа, у него откушать. У него в час, не позже. И вас также, – обратился он к Максимову. | The monk, with an extremely courteous, profound bow, announced: “The Father Superior invites all of you gentlemen to dine with him after your visit to the hermitage. At one o’clock, not later. And you also,” he added, addressing Maximov. |
| – Это я непременно исполню! – вскричал Федор Павлович, ужасно обрадовавшись приглашению, – непременно. И знаете, мы все дали слово вести себя здесь порядочно… А вы, Петр Александрович, пожалуете? | “That I certainly will, without fail,” cried Fyodor Pavlovitch, hugely delighted at the invitation. “And, believe me, we’ve all given our word to behave properly here…. And you, Pyotr Alexandrovitch, will you go, too?” |
| – Да еще же бы нет? Да я зачем же сюда и приехал, как не видеть все их здешние обычаи. Я одним только затрудняюсь, именно тем, что я теперь с вами, Федор Павлович… | “Yes, of course. What have I come for but to study all the customs here? The only obstacle to me is your company….” |
| – Да, Дмитрия Федоровича еще не существует. | “Yes, Dmitri Fyodorovitch is non‐existent as yet.” |
| – Да и отлично бы было, если б он манкировал, мне приятно что ли вся эта ваша мазня, да еще с вами на придачу? Так к обеду будем, поблагодарите отца игумена, – обратился он к монашку. | “It would be a capital thing if he didn’t turn up. Do you suppose I like all this business, and in your company, too? So we will come to dinner. Thank the Father Superior,” he said to the monk. |
| – Нет, уж я вас обязан руководить к самому старцу, – ответил монах. | “No, it is my duty now to conduct you to the elder,” answered the monk. |
| – А я, коль так, к отцу игумену, я тем временем прямо к отцу игумену, – защебетал помещик Максимов. | “If so I’ll go straight to the Father Superior—to the Father Superior,” babbled Maximov. |
| – Отец игумен в настоящий час занят, но как вам будет угодно… – нерешительно произнес монах. | “The Father Superior is engaged just now. But as you please—” the monk hesitated. |
| – Преназойливый старичишка, – заметил вслух Миусов, когда помещик Максимов побежал обратно к монастырю. | “Impertinent old man!” Miüsov observed aloud, while Maximov ran back to the monastery. |
| – На фон-Зона похож, – проговорил вдруг Федор Павлович. | “He’s like von Sohn,” Fyodor Pavlovitch said suddenly. |
| – Вы только это и знаете… С чего он похож на фон-Зона? Вы сами-то видели фон-Зона? | “Is that all you can think of?… In what way is he like von Sohn? Have you ever seen von Sohn?” |
| – Его карточку видел. Хоть не чертами лица, так чем-то неизъяснимым. Чистейший второй экземпляр фон-Зона. Я это всегда по одной только физиономии узнаю. | “I’ve seen his portrait. It’s not the features, but something indefinable. He’s a second von Sohn. I can always tell from the physiognomy.” |
| – А пожалуй; вы в этом знаток. Только вот что, Федор Павлович, вы сами сейчас изволили упомянуть, что мы дали слово вести себя прилично, помните. Говорю вам, удержитесь. А начнете шута из себя строить, так я не намерен, чтобы меня с вами на одну доску здесь поставили… Видите, какой человек, – обратился он к монаху, – я вот с ним боюсь входить к порядочным людям. | “Ah, I dare say you are a connoisseur in that. But, look here, Fyodor Pavlovitch, you said just now that we had given our word to behave properly. Remember it. I advise you to control yourself. But, if you begin to play the fool I don’t intend to be associated with you here…. You see what a man he is”—he turned to the monk—“I’m afraid to go among decent people with him.” |
| На бледных, бескровных губах монашка показалась тонкая, молчальная улыбочка, не без хитрости в своем роде, но он ничего не ответил, и слишком ясно было, что промолчал из чувства собственного достоинства. Миусов еще больше наморщился. | A fine smile, not without a certain slyness, came on to the pale, bloodless lips of the monk, but he made no reply, and was evidently silent from a sense of his own dignity. Miüsov frowned more than ever. |
| “О, чорт их всех дери, веками лишь выработанная наружность, а в сущности шарлатанство и вздор!” пронеслось у него в голове. | “Oh, devil take them all! An outer show elaborated through centuries, and nothing but charlatanism and nonsense underneath,” flashed through Miüsov’s mind. |
| – Вот и скит, дошли! – крикнул Федор Павлович, – ограда и врата запертые. | “Here’s the hermitage. We’ve arrived,” cried Fyodor Pavlovitch. “The gates are shut.” |
| И он пустился класть большие кресты пред святыми, написанными над вратами и сбоку врат. | And he repeatedly made the sign of the cross to the saints painted above and on the sides of the gates. |
| – В чужой монастырь со своим уставом не ходят, – заметил он. – Всех здесь в скиту двадцать пять святых спасаются, друг на друга смотрят и капусту едят. И ни одной-то женщины в эти врата не войдет, вот что особенно замечательно. И это ведь действительно так. Только как же я слышал, что старец дам принимает? – обратился он вдруг к монашку. | “When you go to Rome you must do as the Romans do. Here in this hermitage there are twenty‐five saints being saved. They look at one another, and eat cabbages. And not one woman goes in at this gate. That’s what is remarkable. And that really is so. But I did hear that the elder receives ladies,” he remarked suddenly to the monk. |
| – Из простонародья женский пол и теперь тут, вон там, лежат у галлерейки, ждут. А для высших дамских лиц пристроены здесь же на галлерее, но вне ограды, две комнатки, вот эти самые окна, и старец выходит к ним внутренним ходом, когда здоров, то-есть все же за ограду. Вот и теперь одна барыня, помещица харьковская, г-жа Хохлакова, дожидается со своею расслабленною дочерью. Вероятно, обещал к ним выйти, хотя в последние времена столь расслабел, что и к народу едва появляется. | “Women of the people are here too now, lying in the portico there waiting. But for ladies of higher rank two rooms have been built adjoining the portico, but outside the precincts—you can see the windows—and the elder goes out to them by an inner passage when he is well enough. They are always outside the precincts. There is a Harkov lady, Madame Hohlakov, waiting there now with her sick daughter. Probably he has promised to come out to her, though of late he has been so weak that he has hardly shown himself even to the people.” |
| – Значит, все же лазеечка к барыням-то из скита проведена. Не подумайте, отец святой, что я что-нибудь, я только так. Знаете, на Афоне, это вы слышали ль, не только посещения женщин не полагается, но и совсем не полагается женщин и никаких даже существ женского рода, курочек, индюшечек, телушечек… | “So then there are loopholes, after all, to creep out of the hermitage to the ladies. Don’t suppose, holy father, that I mean any harm. But do you know that at Athos not only the visits of women are not allowed, but no creature of the female sex—no hens, nor turkey‐hens, nor cows.” |
| – Федор Павлович, я ворочусь и вас брошу здесь одного, и вас без меня отсюда выведут за руки, это я вам предрекаю. | “Fyodor Pavlovitch, I warn you I shall go back and leave you here. They’ll turn you out when I’m gone.” |
| – А чем я вам мешаю, Петр Александрович. Посмотрите-ка, – вскричал он вдруг, шагнув за ограду скита, – посмотрите в какой они долине роз проживают! | “But I’m not interfering with you, Pyotr Alexandrovitch. Look,” he cried suddenly, stepping within the precincts, “what a vale of roses they live in!” |
| Действительно, хоть роз теперь и не было, но было множество редких и прекрасных осенних цветов везде, где только можно было их насадить. Лелеяла их видимо опытная рука. Цветники устроены были в оградах церквей и между могил. Домик, в котором находилась келья старца, деревянный, одноэтажный, с галлереей пред входом, был тоже обсажен цветами. | Though there were no roses now, there were numbers of rare and beautiful autumn flowers growing wherever there was space for them, and evidently tended by a skillful hand; there were flower‐beds round the church, and between the tombs; and the one‐storied wooden house where the elder lived was also surrounded with flowers. |
| – А было ль это при предыдущем старце, Варсонофии? Тот изящности-то, говорят, не любил, вскакивал и бил палкой даже дамский пол, – заметил Федор Павлович, подымаясь на крылечко. | “And was it like this in the time of the last elder, Varsonofy? He didn’t care for such elegance. They say he used to jump up and thrash even ladies with a stick,” observed Fyodor Pavlovitch, as he went up the steps. |
| – Старец Варсонофий действительно казался иногда как бы юродивым, но много рассказывают и глупостей. Палкой же никогда и никого не бивал, – ответил монашек. – Теперь, господа, минутку повремените, я о вас повещу. | “The elder Varsonofy did sometimes seem rather strange, but a great deal that’s told is foolishness. He never thrashed any one,” answered the monk. “Now, gentlemen, if you will wait a minute I will announce you.” |
| – Федор Павлович, в последний раз условие, слышите. Ведите себя хорошо, не то я вам отплачу, – успел еще раз пробормотать Миусов. | “Fyodor Pavlovitch, for the last time, your compact, do you hear? Behave properly or I will pay you out!” Miüsov had time to mutter again. |
| – Совсем неизвестно, с чего вы в таком великом волнении, – насмешливо заметил Федор Павлович, – али грешков боитесь? Ведь он, говорят, по глазам узнает, кто с чем приходит. Да и как высоко цените вы их мнение, вы, такой парижанин и передовой господин, удивили вы меня даже, вот что! | “I can’t think why you are so agitated,” Fyodor Pavlovitch observed sarcastically. “Are you uneasy about your sins? They say he can tell by one’s eyes what one has come about. And what a lot you think of their opinion! you, a Parisian, and so advanced. I’m surprised at you.” |
| Но Миусов не успел ответить на этот сарказм, их попросили войти. Вошел он несколько раздраженный… | But Miüsov had no time to reply to this sarcasm. They were asked to come in. He walked in, somewhat irritated. |
| “Ну, теперь заране себя знаю, раздражен, заспорю… начну горячиться – и себя и идею унижу”, мелькнуло у него в голове. | “Now, I know myself, I am annoyed, I shall lose my temper and begin to quarrel—and lower myself and my ideas,” he reflected. |
| II. СТАРЫЙ ШУТ. | Chapter II. The Old Buffoon |
| Они вступили в комнату почти одновременно со старцем, который при появлении их тотчас показался из своей спаленки. В келье еще раньше их дожидались выхода старца два скитские иеромонаха, один отец-библиотекарь, а другой – отец Паисий, человек больной, хотя и не старый, но очень, как говорили про него, ученый. Кроме того ожидал, стоя в уголку (и все время потом оставался стоя), – молодой паренек, лет двадцати двух на вид, в статском сюртуке, семинарист и будущий богослов, покровительствуемый почему-то монастырем и братиею. Он был довольно высокого роста, со свежим лицом, с широкими скулами, с умными и внимательными узенькими карими глазами. В лице выражалась совершенная почтительность, но приличная, без видимого заискивания. Вошедших гостей он даже и не приветствовал поклоном, как лицо им не равное, а напротив подведомственное и зависимое. | They entered the room almost at the same moment that the elder came in from his bedroom. There were already in the cell, awaiting the elder, two monks of the hermitage, one the Father Librarian, and the other Father Païssy, a very learned man, so they said, in delicate health, though not old. There was also a tall young man, who looked about two and twenty, standing in the corner throughout the interview. He had a broad, fresh face, and clever, observant, narrow brown eyes, and was wearing ordinary dress. He was a divinity student, living under the protection of the monastery. His expression was one of unquestioning, but self‐respecting, reverence. Being in a subordinate and dependent position, and so not on an equality with the guests, he did not greet them with a bow. |
| Старец Зосима вышел в сопровождении послушника и Алеши. Иеромонахи поднялись и приветствовали его глубочайшим поклоном, пальцами касаясь земли, затем благословившись поцеловали руку его. Благословив их, старец ответил им каждому столь же глубоким поклоном, перстами касаясь земли, и у каждого из них попросил и для себя благословения. Вся церемония произошла весьма серьезно, вовсе не как вседневный обряд какой-нибудь, а почти с каким-то чувством. Миусову однако показалось, что все делается с намеренным внушением. Он стоял впереди всех вошедших с ним товарищей. Следовало бы. – и он даже обдумывал это еще вчера вечером, – несмотря ни на какие идеи, единственно из простой вежливости (так как уж здесь такие обычаи), подойти и благословиться у старца, по крайней мере хоть благословиться, если уж не целовать руку. Но увидя теперь все эти поклоны и лобызания иеромонахов, он в одну секунду переменил решение: важно и серьезно отдал он довольно глубокий, по-светскому, поклон и отошел к стулу. Точно так же поступил и Федор Павлович, на этот раз как обезьяна совершенно передразнив Миусова. Иван Федорович раскланялся очень важно и вежливо, но тоже держа руки по швам, а Калганов до того сконфузился, что и совсем не поклонился. Старец опустил поднявшуюся было для благословения руку и, поклонившись им в другой раз, попросил всех садиться. Кровь залила щеки Алеши; ему стало стыдно. Сбывались его дурные предчувствия. | Father Zossima was accompanied by a novice, and by Alyosha. The two monks rose and greeted him with a very deep bow, touching the ground with their fingers; then kissed his hand. Blessing them, the elder replied with as deep a reverence to them, and asked their blessing. The whole ceremony was performed very seriously and with an appearance of feeling, not like an everyday rite. But Miüsov fancied that it was all done with intentional impressiveness. He stood in front of the other visitors. He ought—he had reflected upon it the evening before—from simple politeness, since it was the custom here, to have gone up to receive the elder’s blessing, even if he did not kiss his hand. But when he saw all this bowing and kissing on the part of the monks he instantly changed his mind. With dignified gravity he made a rather deep, conventional bow, and moved away to a chair. Fyodor Pavlovitch did the same, mimicking Miüsov like an ape. Ivan bowed with great dignity and courtesy, but he too kept his hands at his sides, while Kalganov was so confused that he did not bow at all. The elder let fall the hand raised to bless them, and bowing to them again, asked them all to sit down. The blood rushed to Alyosha’s cheeks. He was ashamed. His forebodings were coming true. |
| Старец уселся на кожаный красного дерева диванчик, очень старинной постройки, а гостей, кроме обоих иеромонахов, поместил у противоположной стены, всех четверых рядышком, на четырех красного дерева обитых черною сильно протершеюся кожей стульях. Иеромонахи уселись по сторонам, один у дверей, другой у окна. Семинарист, Алеша и послушник оставались стоя. Вся келья была очень не обширна и какого-то вялого вида. Вещи и мебель были грубые, бедные и самые лишь необходимые. Два горшка цветов на окне, а в углу много икон – одна из них богородицы, огромного размера и писанная вероятно еще задолго до раскола. Пред ней теплилась лампадка. Около нее две другие иконы в сияющих ризах, затем около них деланные херувимчики, фарфоровые яички, католический крест из слоновой кости с обнимающею его Mater dolorosa, и несколько заграничных гравюр с великих италиянских художников прошлых столетий. Подле этих изящных и дорогих гравюрных изображений красовалось несколько листов самых простонароднейших русских литографий святых, мучеников, святителей и проч., продающихся за копейки на всех ярмарках. Было несколько литографических портретов русских современных и прежних архиереев, но уже по другим стенам. Миусов бегло окинул всю эту “казенщину” и пристальным взглядом уперся в старца. Он уважал свой взгляд, имел эту слабость, во всяком случае в нем простительную, приняв в соображение, что было ему уже пятьдесят лет, – возраст, в который умный светский и обеспеченный человек всегда становится к себе почтительнее, иногда даже поневоле. | Father Zossima sat down on a very old‐fashioned mahogany sofa, covered with leather, and made his visitors sit down in a row along the opposite wall on four mahogany chairs, covered with shabby black leather. The monks sat, one at the door and the other at the window. The divinity student, the novice, and Alyosha remained standing. The cell was not very large and had a faded look. It contained nothing but the most necessary furniture, of coarse and poor quality. There were two pots of flowers in the window, and a number of holy pictures in the corner. Before one huge ancient ikon of the Virgin a lamp was burning. Near it were two other holy pictures in shining settings, and, next them, carved cherubims, china eggs, a Catholic cross of ivory, with a Mater Dolorosa embracing it, and several foreign engravings from the great Italian artists of past centuries. Next to these costly and artistic engravings were several of the roughest Russian prints of saints and martyrs, such as are sold for a few farthings at all the fairs. On the other walls were portraits of Russian bishops, past and present. |
| С первого мгновения старец ему не понравился. В самом деле было что-то в лице старца, что многим бы и кроме Миусова не понравилось. Это был невысокий сгорбленный человечек с очень слабыми ногами, всего только шестидесяти пяти лет, но казавшийся от болезни гораздо старше, по крайней мере лет на десять. Все лицо его, впрочем, очень сухенькое, было усеяно мелкими морщинками, особенно было много их около глаз. Глаза же были небольшие, из светлых, быстрые и блестящие, в роде как бы две блестящие точки. Седенькие волосики сохранились лишь на висках, бородка была крошечная и реденькая, клином, а губы, часто усмехавшиеся – тоненькие, как две бечевочки. Нос не то чтобы длинный, а востренький, точно у птички. | Miüsov took a cursory glance at all these “conventional” surroundings and bent an intent look upon the elder. He had a high opinion of his own insight, a weakness excusable in him as he was fifty, an age at which a clever man of the world of established position can hardly help taking himself rather seriously. At the first moment he did not like Zossima. There was, indeed, something in the elder’s face which many people besides Miüsov might not have liked. He was a short, bent, little man, with very weak legs, and though he was only sixty‐five, he looked at least ten years older. His face was very thin and covered with a network of fine wrinkles, particularly numerous about his eyes, which were small, light‐colored, quick, and shining like two bright points. He had a sprinkling of gray hair about his temples. His pointed beard was small and scanty, and his lips, which smiled frequently, were as thin as two threads. His nose was not long, but sharp, like a bird’s beak. |
| “По всем признакам злобная и мелко-надменная душонка”. пролетело в голове Миусова. Вообще он был очень недоволен собой. | “To all appearances a malicious soul, full of petty pride,” thought Miüsov. He felt altogether dissatisfied with his position. |
| Пробившие часы помогли начать разговор. Ударило скорым боем на дешевых маленьких стенных часах с гирями ровно двенадцать. | A cheap little clock on the wall struck twelve hurriedly, and served to begin the conversation. |
| – Ровнешенько настоящий час, – вскричал Федор Павлович, – а сына моего Дмитрия Федоровича все еще нет. Извиняюсь за него, священный старец! (Алеша весь так и вздрогнул от “священного старца”.) Сам же я всегда аккуратен, минута в минуту, помня, что точность есть вежливость королей… | “Precisely to our time,” cried Fyodor Pavlovitch, “but no sign of my son, Dmitri. I apologize for him, sacred elder!” (Alyosha shuddered all over at “sacred elder.”) “I am always punctual myself, minute for minute, remembering that punctuality is the courtesy of kings….” |
| – Но ведь вы по крайней мере не король, – пробормотал, сразу не удержавшись, Миусов. | “But you are not a king, anyway,” Miüsov muttered, losing his self‐ restraint at once. |
| – Да, это так, не король. И представьте, Петр Александрович, ведь это я и сам знал, ей-богу! И вот всегда-то я так не кстати скажу! Ваше преподобие! – воскликнул он с каким-то мгновенным пафосом: – Вы видите пред собою шута, шута воистину! так и рекомендуюсь. Старая привычка, увы! А что не кстати иногда вру, так это даже с намерением, с намерением рассмешить и приятным быть. Надобно же быть приятным, не правда ли? Приезжаю лет семь назад в один городишко, были там делишки, а я кой с какими купчишками завязал было компаньишку. Идем к исправнику, потому что его надо было кой о чем попросить и откушать к нам позвать. Выходит исправник, высокий, толстый, белокурый и угрюмый человек.- самые опасные в таких случаях субъекты: печень у них, печень. Я к нему прямо, и знаете с развязностию светского человека: “г. исправник, будьте, говорю, нашим так-сказать Направником!” Каким это, говорит, Направником? – Я уж вижу с первой полсекунды, что дело не выгорело, стоит серьезный, уперся: “Я, говорю, пошутить желал, для общей веселости, так как г. Направник известный наш русский капельмейстер, а нам именно нужно для гармонии нашего предприятия в роде как бы тоже капельмейстера…” И резонно ведь разъяснил и сравнил, не правда ли? “Извините, говорит, я исправники каламбуров из звания моего строить не позволю”. Повернулся и уходит. Я за ним, кричу: “да, да, вы исправник, а не Направник!” – “Нет, говорит, уж коль сказано, так значит я Направник”. И представьте, ведь дело-то наше расстроилось! И все-то я так, всегда-то я так. Непременно-то я своею же любезностью себе наврежу! Раз, много лет уже тому назад, говорю одному влиятельному даже лицу: “Ваша супруга щекотливая женщина-с”, – в смысле то-есть чести, так сказать, нравственных качеств, а он мне вдруг на то: “А вы ее щекотали?” Не удержался, вдруг, дай, думаю, полюбезничаю: “да, говорю, щекотал-с”, ну тут он меня и пощекотал… Только давно уж это произошло, так что уж не стыдно и рассказать; вечно-то я так себе наврежу! | “Yes; that’s true. I’m not a king, and, would you believe it, Pyotr Alexandrovitch, I was aware of that myself. But, there! I always say the wrong thing. Your reverence,” he cried, with sudden pathos, “you behold before you a buffoon in earnest! I introduce myself as such. It’s an old habit, alas! And if I sometimes talk nonsense out of place it’s with an object, with the object of amusing people and making myself agreeable. One must be agreeable, mustn’t one? I was seven years ago in a little town where I had business, and I made friends with some merchants there. We went to the captain of police because we had to see him about something, and to ask him to dine with us. He was a tall, fat, fair, sulky man, the most dangerous type in such cases. It’s their liver. I went straight up to him, and with the ease of a man of the world, you know, ‘Mr. Ispravnik,’ said I, ‘be our Napravnik.’ ‘What do you mean by Napravnik?’ said he. I saw, at the first half‐second, that it had missed fire. He stood there so glum. ‘I wanted to make a joke,’ said I, ‘for the general diversion, as Mr. Napravnik is our well‐known Russian orchestra conductor and what we need for the harmony of our undertaking is some one of that sort.’ And I explained my comparison very reasonably, didn’t I? ‘Excuse me,’ said he, ‘I am an Ispravnik, and I do not allow puns to be made on my calling.’ He turned and walked away. I followed him, shouting, ‘Yes, yes, you are an Ispravnik, not a Napravnik.’ ‘No,’ he said, ‘since you called me a Napravnik I am one.’ And would you believe it, it ruined our business! And I’m always like that, always like that. Always injuring myself with my politeness. Once, many years ago, I said to an influential person: ‘Your wife is a ticklish lady,’ in an honorable sense, of the moral qualities, so to speak. But he asked me, ‘Why, have you tickled her?’ I thought I’d be polite, so I couldn’t help saying, ‘Yes,’ and he gave me a fine tickling on the spot. Only that happened long ago, so I’m not ashamed to tell the story. I’m always injuring myself like that.” |
| – Вы это и теперь делаете, – с отвращением пробормотал Миусов. | “You’re doing it now,” muttered Miüsov, with disgust. |
| Старец молча разглядывал того и другого. | Father Zossima scrutinized them both in silence. |
| – Будто! Представьте, ведь я и это знал, Петр Александрович, и даже знаете: предчувствовал, что делаю, только что стал говорить, и даже знаете, предчувствовал, что вы мне первый это и заметите. В эти секунды, когда вижу, что шутка у меня не выходит, у меня, ваше преподобие, обе щеки к нижним деснам присыхать начинают, почти как бы судорога делается; это у меня еще с юности, как я был у дворян приживальщиком и приживанием хлеб добывал. Я шут коренной, с рождения, все равно, ваше преподобие, что юродивый; не спорю, что и дух нечистый может во мне заключается, небольшого впрочем калибра, поважнее-то другую бы квартиру выбрал, только не вашу, Петр Александрович, и вы ведь квартира не важная. Но зато я верую, в бога верую. Я только в последнее время усумнился, но зато теперь сижу и жду великих словес. Я, ваше преподобие, как философ Дидерот. Известно ли вам, святейший отец, как Дидерот-философ явился к митрополиту Платону при императрице Екатерине. Входит и прямо сразу: “Нет бога”. На что великий святитель подымает перст и отвечает: “Рече безумец в сердце своем несть бог!” Тот как был, так и в ноги: “Верую, кричит, и крещенье принимаю”. Так его и окрестили тут же. Княгиня Дашкова была восприемницей, а Потемкин крестным отцом… | “Am I? Would you believe it, I was aware of that, too, Pyotr Alexandrovitch, and let me tell you, indeed, I foresaw I should as soon as I began to speak. And do you know I foresaw, too, that you’d be the first to remark on it. The minute I see my joke isn’t coming off, your reverence, both my cheeks feel as though they were drawn down to the lower jaw and there is almost a spasm in them. That’s been so since I was young, when I had to make jokes for my living in noblemen’s families. I am an inveterate buffoon, and have been from birth up, your reverence, it’s as though it were a craze in me. I dare say it’s a devil within me. But only a little one. A more serious one would have chosen another lodging. But not your soul, Pyotr Alexandrovitch; you’re not a lodging worth having either. But I do believe—I believe in God, though I have had doubts of late. But now I sit and await words of wisdom. I’m like the philosopher, Diderot, your reverence. Did you ever hear, most Holy Father, how Diderot went to see the Metropolitan Platon, in the time of the Empress Catherine? He went in and said straight out, ‘There is no God.’ To which the great bishop lifted up his finger and answered, ‘The fool hath said in his heart there is no God.’ And he fell down at his feet on the spot. ‘I believe,’ he cried, ‘and will be christened.’ And so he was. Princess Dashkov was his godmother, and Potyomkin his godfather.” |
| – Федор Павлович, это несносно! Ведь вы сами знаете, что вы врете и что этот глупый анекдот не правда, к чему вы ломаетесь? – дрожащим голосом проговорил, совершенно уже не сдерживая себя, Миусов. | “Fyodor Pavlovitch, this is unbearable! You know you’re telling lies and that that stupid anecdote isn’t true. Why are you playing the fool?” cried Miüsov in a shaking voice. |
| – Всю жизнь предчувствовал, что не правда! – с увлечением воскликнул Федор Павлович. – Я вам, господа, зато всю правду скажу: старец великий! простите, я последнее, о крещении-то Дидерота, сам сейчас присочинил, вот сию только минуточку, вот как рассказывал, а прежде никогда и в голову не приходило. Для пикантности присочинил. Для того и ломаюсь, Петр Александрович, чтобы милее быть. А впрочем и сам не знаю иногда для чего. А что до Дидерота, так я этого: “рече безумца” раз двадцать от здешних же помещиков еще в молодых летах моих слышал, как у них проживал; от вашей тетеньки, Петр Александрович, Мавры Фоминишны тоже между прочим слышал. Все-то они до сих пор уверены, что безбожник Дидерот к митрополиту Платону спорить о боге приходил… | “I suspected all my life that it wasn’t true,” Fyodor Pavlovitch cried with conviction. “But I’ll tell you the whole truth, gentlemen. Great elder! Forgive me, the last thing about Diderot’s christening I made up just now. I never thought of it before. I made it up to add piquancy. I play the fool, Pyotr Alexandrovitch, to make myself agreeable. Though I really don’t know myself, sometimes, what I do it for. And as for Diderot, I heard as far as ‘the fool hath said in his heart’ twenty times from the gentry about here when I was young. I heard your aunt, Pyotr Alexandrovitch, tell the story. They all believe to this day that the infidel Diderot came to dispute about God with the Metropolitan Platon….” |
| Миусов встал, не только потеряв терпение, но даже как бы забывшись. Он был в бешенстве и сознавал, что от этого сам смешон. Действительно, в кельи происходило нечто совсем невозможное. В этой самой келье, может быть уже сорок или пятьдесят лет, еще при прежних старцах, собирались посетители, но всегда с глубочайшим благоговением, не иначе. Все почти допускаемые, входя в келью, понимали, что им оказывают тем великую милость. Многие повергались на колени и не вставали с колен во все время посещения. Многие из “высших” даже лиц и даже из ученейших, мало того, некоторые из вольнодумных даже лиц, приходившие или по любопытству, или по иному поводу, входя в келью со всеми или получая свидание наедине, ставили себе в первейшую обязанность, все до единого, глубочайшую почтительность и деликатность во все время свидания, тем более, что здесь денег не полагалось, а была лишь любовь и милость с одной стороны, а с другой – покаяние и жажда разрешить какой-нибудь трудный вопрос души или трудный момент в жизни собственного сердца. Так что вдруг такое шутовство, которое обнаружил Федор Павлович, непочтительное к месту, в котором он находился, произвело в свидетелях, по крайней мере, в некоторых из них, недоумение и удивление. Иеромонахи, впрочем, нисколько не изменившие своих физиономий, с серьезным вниманием следили, что скажет старец, но, кажется, готовились уже встать как Миусов. Алеша готов был заплакать и стоял, понурив голову. Всего страннее казалось ему то, что брат его, Иван Федорович, единственно на которого он надеялся и который один имел такое влияние на отца, что мог бы его остановить, сидел теперь совсем неподвижно на своем стуле, опустив глаза и, повидимому с каким-то даже любознательным любопытством ожидал, чем это все кончится, точно сам он был совершенно тут посторонний человек. На Ракитина (семинариста), тоже Алеше очень знакомого и почти близкого, Алеша и взглянуть не мог: он знал его мысли (хотя знал их один Алеша во всем монастыре). | Miüsov got up, forgetting himself in his impatience. He was furious, and conscious of being ridiculous. What was taking place in the cell was really incredible. For forty or fifty years past, from the times of former elders, no visitors had entered that cell without feelings of the profoundest veneration. Almost every one admitted to the cell felt that a great favor was being shown him. Many remained kneeling during the whole visit. Of those visitors, many had been men of high rank and learning, some even freethinkers, attracted by curiosity, but all without exception had shown the profoundest reverence and delicacy, for here there was no question of money, but only, on the one side love and kindness, and on the other penitence and eager desire to decide some spiritual problem or crisis. So that such buffoonery amazed and bewildered the spectators, or at least some of them. The monks, with unchanged countenances, waited, with earnest attention,to hear what the elder would say, but seemed on the point of standing up, like Miüsov. Alyosha stood, with hanging head, on the verge of tears. What seemed to him strangest of all was that his brother Ivan, on whom alone he had rested his hopes, and who alone had such influence on his father that he could have stopped him, sat now quite unmoved, with downcast eyes, apparently waiting with interest to see how it would end, as though he had nothing to do with it. Alyosha did not dare to look at Rakitin, the divinity student, whom he knew almost intimately. He alone in the monastery knew Rakitin’s thoughts.and who alone had such influence on his father that he could have stopped him, sat now quite unmoved, with downcast eyes, apparently waiting with interest to see how it would end, as though he had nothing to do with it. Alyosha did not dare to look at Rakitin, the divinity student, whom he knew almost intimately. He alone in the monastery knew Rakitin’s thoughts.and who alone had such influence on his father that he could have stopped him, sat now quite unmoved, with downcast eyes, apparently waiting with interest to see how it would end, as though he had nothing to do with it. Alyosha did not dare to look at Rakitin, the divinity student, whom he knew almost intimately. He alone in the monastery knew Rakitin’s thoughts. |
| – Простите меня… – начал Миусов, обращаясь к старцу, – что я может быть тоже кажусь вам участником в этой недостойной шутке. Ошибка моя в том, что я поверил, что даже и такой, как Федор Павлович, при посещении столь почтенного лица захочет понять свои обязанности… Я не сообразил. что придется просить извинения именно за то, что с ним входишь… | “Forgive me,” began Miüsov, addressing Father Zossima, “for perhaps I seem to be taking part in this shameful foolery. I made a mistake in believing that even a man like Fyodor Pavlovitch would understand what was due on a visit to so honored a personage. I did not suppose I should have to apologize simply for having come with him….” |
| Петр Александрович не договорил и совсем сконфузившись хотел было уже выйти из комнаты. | Pyotr Alexandrovitch could say no more, and was about to leave the room, overwhelmed with confusion. |
| – Не беспокойтесь, прошу вас, – привстал вдруг с своего места на свои хилые ноги старец и, взяв за обе руки Петра Александровича, усадил его опять в кресла. – Будьте спокойны, прошу вас. Я особенно прошу вас быть моим гостем, – и с поклоном, повернувшись, сел опять на свой диванчик. | “Don’t distress yourself, I beg.” The elder got on to his feeble legs, and taking Pyotr Alexandrovitch by both hands, made him sit down again. “I beg you not to disturb yourself. I particularly beg you to be my guest.” And with a bow he went back and sat down again on his little sofa. |
| – Великий старец, изреките, оскорбляю я вас моею живостью или нет? – вскричал вдруг Федор Павлович, схватившись обеими руками за ручки кресел и как бы готовясь из них выпрыгнуть сообразно с ответом. | “Great elder, speak! Do I annoy you by my vivacity?” Fyodor Pavlovitch cried suddenly, clutching the arms of his chair in both hands, as though ready to leap up from it if the answer were unfavorable. |
| – Убедительно и вас прошу не беспокоиться и не стесняться, – внушительно проговорил ему старец… – Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома. А главное, не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь все и выходит. | “I earnestly beg you, too, not to disturb yourself, and not to be uneasy,” the elder said impressively. “Do not trouble. Make yourself quite at home. And, above all, do not be so ashamed of yourself, for that is at the root of it all.” |
| – Совершенно как дома? То-есть в натуральном-то виде? О, этого много, слишком много, но – с умилением принимаю! Знаете, благословенный отец, вы меня на натуральный-то вид не вызывайте, не рискуйте… до натурального вида я и сам не дойду. Это я, чтобы вас охранить, предупреждаю. Ну-с, а прочее все еще подвержено мраку неизвестности, хотя бы некоторые и желали расписать меня. Это я по вашему адресу, Петр Александрович, говорю, а вам, святейшее существо, вот что вам: восторг изливаю! – Он привстал и, подняв вверх руки, произнес: – “Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие, сосцы особенно!” Вы меня сейчас замечанием вашим: “Не стыдиться столь самого себя, потому что от сего лишь все и выходит”, – вы меня замечанием этим как бы насквозь прочкнули и внутри прочли. Именно мне все так и кажется, когда я к людям вхожу, что я подлее всех и что меня все за шута принимают, так вот “давай же я и в самом деле сыграю шута, не боюсь ваших мнений, потому что все вы до единого подлее меня!” Вот потому я и шут, от стыда шут, старец великий, от стыда. От мнительности одной и буяню. Ведь если б я только был уверен, когда вхожу, что все меня за милейшего и умнейшего человека сейчас же примут, – господи! какой бы я тогда был добрый человек! Учитель! – повергся он вдруг на колени. – что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? | “Quite at home? To be my natural self? Oh, that is much too much, but I accept it with grateful joy. Do you know, blessed Father, you’d better not invite me to be my natural self. Don’t risk it…. I will not go so far as that myself. I warn you for your own sake. Well, the rest is still plunged in the mists of uncertainty, though there are people who’d be pleased to describe me for you. I mean that for you, Pyotr Alexandrovitch. But as for you, holy being, let me tell you, I am brimming over with ecstasy.” He got up, and throwing up his hands, declaimed, “Blessed be the womb that bare thee, and the paps that gave thee suck—the paps especially. When you said just now, ‘Don’t be so ashamed of yourself, for that is at the root of it all,’ you pierced right through me by that remark, and read me to the core. Indeed, I always feel when I meet people that I am lower than all, and that they all take me for a buffoon. So I say, ‘Let me really play the buffoon. I am not afraid of your opinion, for you are every one of you worse than I am.’ That is why I am a buffoon. It is from shame, great elder, from shame; it’s simply over‐sensitiveness that makes me rowdy. If I had only been sure that every one would accept me as the kindest and wisest of men, oh, Lord, what a good man I should have been then! Teacher!” he fell suddenly on his knees,“what must I do to gain eternal life?” |
| Трудно было и теперь решить: шутит он, или в самом деле в таком умилении? | It was difficult even now to decide whether he was joking or really moved. |
| Старец поднял на него глаза и с улыбкой произнес: | Father Zossima, lifting his eyes, looked at him, and said with a smile: |
| – Сами давно знаете, что надо делать, ума в вас довольно: не предавайтесь пьянству и словесному невоздержанию, не предавайтесь сладострастию, а особенно обожанию денег, да закройте ваши питейные дома, если не можете всех, то хоть два или три. А главное, самое главное – не лгите. | “You have known for a long time what you must do. You have sense enough: don’t give way to drunkenness and incontinence of speech; don’t give way to sensual lust; and, above all, to the love of money. And close your taverns. If you can’t close all, at least two or three. And, above all—don’t lie.” |
| – То-есть это про Дидерота что ли? | “You mean about Diderot?” |
| – Нет, не то что про Дидерота. Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям, и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи и людям и себе самому. Лгущий себе самому прежде всех и обидеться может. Ведь обидеться иногда очень приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навыдумал и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору, – знает сам это, а все-таки самый первый обижается, обижается до приятности, до ощущения большего удовольствия, а тем самым доходит и до вражды истинной… Да встаньте же. сядьте, прошу вас очень, ведь все это тоже ложные жесты… | “No, not about Diderot. Above all, don’t lie to yourself. The man who lies to himself and listens to his own lie comes to such a pass that he cannot distinguish the truth within him, or around him, and so loses all respect for himself and for others. And having no respect he ceases to love, and in order to occupy and distract himself without love he gives way to passions and coarse pleasures, and sinks to bestiality in his vices, all from continual lying to other men and to himself. The man who lies to himself can be more easily offended than any one. You know it is sometimes very pleasant to take offense, isn’t it? A man may know that nobody has insulted him, but that he has invented the insult for himself, has lied and exaggerated to make it picturesque, has caught at a word and made a mountain out of a molehill—he knows that himself,yet he will be the first to take offense, and will revel in his resentment till he feels great pleasure in it, and so pass to genuine vindictiveness. But get up, sit down, I beg you. All this, too, is deceitful posturing….” |
| – Блаженный человек! Дайте ручку поцеловать, – подскочил Федор Павлович и быстро чмокнул старца в худенькую его руку. – Именно, именно приятно обидеться. Это вы так хорошо сказали, что я и не слыхал еще. Именно, именно я-то всю жизнь и обижался до приятности, для эстетики обижался, ибо не токмо приятно, но и красиво иной раз обиженным быть; – вот что вы забыли, великий старец: красиво! Это я в книжку запишу! А лгал я, лгал, решительно всю жизнь мою, на всяк день и час. Воистину ложь есмь и отец лжи! Впрочем кажется не отец лжи, это я все в текстах сбиваюсь, ну хоть сын лжи, и того будет довольно. Только… ангел вы мой… про Дидерота иногда можно! Дидерот не повредит, а вот иное словцо повредит. Старец великий, кстати, вот было забыл, а ведь так и положил, еще с третьего года, здесь справиться, именно заехать сюда и настоятельно разузнать и спросить: не прикажите только Петру Александровичу прерывать. Вот что спрошу: справедливо ли, отец великий, то, что в Четьи-Минеи повествуется где-то о каком-то святом чудотворце, которого мучили за веру и, когда отрубили ему под конец голову, то он встал, поднял свою голову, и “любезно ее лобызаше”, и долго шел, неся ее в руках и “любезно ее лобызаше”. Справедливо это или нет, отцы честные? | “Blessed man! Give me your hand to kiss.” Fyodor Pavlovitch skipped up, and imprinted a rapid kiss on the elder’s thin hand. “It is, it is pleasant to take offense. You said that so well, as I never heard it before. Yes, I have been all my life taking offense, to please myself, taking offense on esthetic grounds, for it is not so much pleasant as distinguished sometimes to be insulted—that you had forgotten, great elder, it is distinguished! I shall make a note of that. But I have been lying, lying positively my whole life long, every day and hour of it. Of a truth, I am a lie, and the father of lies. Though I believe I am not the father of lies. I am getting mixed in my texts. Say, the son of lies, and that will be enough. Only … my angel … I may sometimes talk about Diderot! Diderot will do no harm, though sometimes a word will do harm. Great elder, by the way, I was forgetting,though I had been meaning for the last two years to come here on purpose to ask and to find out something. Only do tell Pyotr Alexandrovitch not to interrupt me. Here is my question: Is it true, great Father, that the story is told somewhere in theLives of the Saints of a holy saint martyred for his faith who, when his head was cut off at last, stood up, picked up his head, and, ‘courteously kissing it,’ walked a long way, carrying it in his hands. Is that true or not, honored Father?” |
| – Нет несправедливо, – сказал старец. | “No, it is untrue,” said the elder. |
| – Ничего подобного во всех Четьих-Минеях не существует. Про какого это святого, вы говорите, так написано? – спросил иеромонах, отец-библиотекарь. | “There is nothing of the kind in all the lives of the saints. What saint do you say the story is told of?” asked the Father Librarian. |
| – Сам не знаю про какого. Не знаю и не ведаю. Введен в обман, говорили. Слышал и, знаете, кто рассказал? А вот Петр Александрович Миусов, вот что за Дидерота сейчас рассердился, вот он-то и рассказал. | “I do not know what saint. I do not know, and can’t tell. I was deceived. I was told the story. I had heard it, and do you know who told it? Pyotr Alexandrovitch Miüsov here, who was so angry just now about Diderot. He it was who told the story.” |
| – Никогда я вам этого не рассказывал, я с вами и не говорю никогда вовсе. | “I have never told it you, I never speak to you at all.” |
| – Правда, вы не мне рассказывали; но вы рассказывали в компании, где и я находился, четвертого года это дело было. Я потому и упомянул что рассказом сим смешливым вы потрясли мою веру, Петр Александрович. Вы не знали о сем, не ведали, а я воротился домой с потрясенною верой и с тех пор все более и более сотрясаюсь. Да, Петр Александрович, вы великого падения были причиной! Это уж не Дидерот-с! | “It is true you did not tell me, but you told it when I was present. It was three years ago. I mentioned it because by that ridiculous story you shook my faith, Pyotr Alexandrovitch. You knew nothing of it, but I went home with my faith shaken, and I have been getting more and more shaken ever since. Yes, Pyotr Alexandrovitch, you were the cause of a great fall. That was not a Diderot!” |
| Федор Павлович патетически разгорячился, хотя и совершенно ясно было уже всем, что он опять представляется. Но Миусов все-таки был больно уязвлен. | Fyodor Pavlovitch got excited and pathetic, though it was perfectly clear to every one by now that he was playing a part again. Yet Miüsov was stung by his words. |
| – Какой вздор, и все это вздор, – бормотал он. – Я действительно может быть говорил когда-то… только не вам. Мне самому говорили. Я это в Париже слышал, от одного француза, что будто бы у нас в Четъи-Минеи это за обедней читают… Это очень ученый человек, который специально изучал статистику России… долго жил в России… Я сам Четьи-Миней не читал… да и не стану читать… Мало ли что болтается за обедом?.. Мы тогда обедали… | “What nonsense, and it is all nonsense,” he muttered. “I may really have told it, some time or other … but not to you. I was told it myself. I heard it in Paris from a Frenchman. He told me it was read at our mass from the Lives of the Saints … he was a very learned man who had made a special study of Russian statistics and had lived a long time in Russia…. I have not read the Lives of the Saints myself, and I am not going to read them … all sorts of things are said at dinner—we were dining then.” |
| – Да, вот вы тогда обедали, а я вот веру-то и потерял!- поддразнивал Федор Павлович. | “Yes, you were dining then, and so I lost my faith!” said Fyodor Pavlovitch, mimicking him. |
| – Какое мне дело до вашей веры! – крикнул было Миусов, но вдруг сдержал себя, с презрением проговорив: – вы буквально мараете все, к чему ни прикоснетесь. | “What do I care for your faith?” Miüsov was on the point of shouting, but he suddenly checked himself, and said with contempt, “You defile everything you touch.” |
| Старец вдруг поднялся с места: | The elder suddenly rose from his seat. |
| – Простите, господа, что оставляю вас пока на несколько лишь минут, – проговорил он, обращаясь ко всем посетителям, – но меня ждут еще раньше вашего прибывшие. А вы все-таки не лгите, – прибавил он, обратившись к Федору Павловичу с веселым лицом. | “Excuse me, gentlemen, for leaving you a few minutes,” he said, addressing all his guests. “I have visitors awaiting me who arrived before you. But don’t you tell lies all the same,” he added, turning to Fyodor Pavlovitch with a good‐humored face. |
| Он пошел из кельи, Алеша и послушник бросились, чтобы свести его с лестницы. Алеша задыхался, он рад был уйти, но рад был и тому, что старец не обижен и весел. Старец направился к галлерее, чтобы благословить ожидавших его. Но Федор Павлович все-таки остановил его в дверях кельи: | He went out of the cell. Alyosha and the novice flew to escort him down the steps. Alyosha was breathless: he was glad to get away, but he was glad, too, that the elder was good‐humored and not offended. Father Zossima was going towards the portico to bless the people waiting for him there. But Fyodor Pavlovitch persisted in stopping him at the door of the cell. |
| – Блаженнейший человек! – вскричал он с чувством,- позвольте мне еще раз вашу ручку облобызать! Нет, с вами еще можно говорить, можно жить! Вы думаете, что я всегда так лгу и шутов изображаю? Знайте же, что это я все время нарочно, чтобы вас испробовать, так представлялся. Это я все время вас ощупывал, можно ли с вами жить? Моему-то смирению есть ли при вашей гордости место? Лист вам похвальный выдаю: можно с вами жить! А теперь молчу, на все время умолкаю. Сяду в кресло и замолчу. Теперь вам, Петр Александрович, говорить, вы теперь самый главный человек остались… на десять минут… | “Blessed man!” he cried, with feeling. “Allow me to kiss your hand once more. Yes, with you I could still talk, I could still get on. Do you think I always lie and play the fool like this? Believe me, I have been acting like this all the time on purpose to try you. I have been testing you all the time to see whether I could get on with you. Is there room for my humility beside your pride? I am ready to give you a testimonial that one can get on with you! But now, I’ll be quiet; I will keep quiet all the time. I’ll sit in a chair and hold my tongue. Now it is for you to speak, Pyotr Alexandrovitch. You are the principal person left now—for ten minutes.” |
| III. ВЕРУЮЩИЕ БАБЫ. | Chapter III. Peasant Women Who Have Faith |
| Внизу у деревянной галлерейки, приделанной к наружной стене ограды, толпились на этот раз все женщины, баб около двадцати. Их уведомили, что старец наконец выйдет, и они собрались в ожидании. Вышли на галлерейку и помещицы Хохлаковы, тоже ожидавшие старца, но в отведенном для благородных посетительниц помещении. Их было две: мать и дочь. Г-жа Хохлакова-мать, дама богатая и всегда со вкусом одетая, была еще довольно молодая и очень миловидная собою особа, немного бледная, с очень оживленными и почти совсем черными глазами. Ей было не более тридцати трех лет, и она уже лет пять как была вдовой. Четырнадцатилетняя дочь ее страдала параличом ног. Бедная девочка не могла ходить уже с полгода, и ее возили в длинном покойном кресле на колесах. Это было прелестное личико, немного худенькое от болезни, но веселое. – Что-то шаловливое светилось в ее темных больших глазах с длинными ресницами. Мать еще с весны собиралась ее везти за границу, но летом опоздали за устройством по имению. Они уже с неделю как жили в нашем городе, больше по делам, чем для богомолья, но уже раз, три дня тому назад, посещали старца. Теперь они приехали вдруг опять, хотя и знали, что старец почти уж не может вовсе никого принимать, и, настоятельно умоляя, просили еще раз “счастья узреть великого исцелителя”. В ожидании выхода старца мамаша сидела на стуле, подле кресел дочери, а в двух шагах от нее стоял старик монах, не из здешнего монастыря, а захожий из одной дальней северной малоизвестной обители. Он тоже желал благословиться у старца. Но показавшийся на галлерее старец прошел сначала прямо к народу. Толпа затеснилась к крылечку о трех ступеньках, соединявшему низенькую галлерейку с полем. Старец стал на верхней ступеньке, надел эпитрахиль и начал благословлять теснившихся к нему женщин. Притянули к нему одну кликушу за обе руки. Та, едва лишь завидела старца, вдруг начала, как-то нелепо взвизгивая, икать и вся затряслась как в родимце. Наложив ей на голову эпитрахиль, старец прочел над нею краткую молитву, и она тотчас затихла и успокоилась. Не знаю как теперь, но в детстве моем мне часто случалось в деревнях и по монастырям видеть и слышать этих кликуш. Их приводили к обедне, они визжали или лаяли по-собачьи на всю церковь, но когда выносили дары и их подводили к дарам, тотчас “беснование” прекращалось, и больные на несколько времени всегда успокоивались. Меня ребенка очень это поражало и удивляло. Но тогда же я услышал от иных помещиков и особенно от городских учителей моих, на мои расспросы, что это все притворство, чтобы не работать, и что это всегда можно искоренить надлежащею строгостью, при чем приводились для подтверждения разные анекдоты. Но впоследствии я с удивлением узнал от специалистов-медиков, что тут никакого нет притворства, что это страшная женская болезнь, и кажется по преимуществу у нас на Руси, свидетельствующая о тяжелой судьбе нашей сельской женщины, болезнь, происходящая от изнурительных работ слишком вскоре после тяжелых, неправильных, безо всякой медицинской помощи родов; кроме того от безвыходного горя, от побоев и пр., чего иные женские натуры выносить по общему примеру все-таки не могут. Странное же и мгновенное исцеление беснующейся и бьющейся женщины, только лишь бывало ее подведут к дарам, которое объясняли мне притворством и сверх того фокусом, устраиваемым чуть ли не самими “клерикалами”, происходило вероятно тоже самым натуральным образом, и подводившие ее к дарам бабы, а главное, и сама больная, вполне веровали, как установившейся истине, что нечистый дух, овладевший больною, никогда не может вынести, если ее, больную, подведя к дарам, наклонят пред ними. А потому и всегда происходило (и должно было происходить) в нервной и конечно тоже психически больной женщине непременное как бы сотрясение всего организма ее в момент преклонения пред дарами, сотрясение, вызванное ожиданием непременного чуда исцеления и самою полною верой в то, что оно совершится. И оно совершалось хотя бы только на одну минуту. Точно так же оно и теперь совершилось, едва лишь старец накрыл больную эпитрахилью. | Near the wooden portico below, built on to the outer wall of the precinct, there was a crowd of about twenty peasant women. They had been told that the elder was at last coming out, and they had gathered together in anticipation. Two ladies, Madame Hohlakov and her daughter, had also come out into the portico to wait for the elder, but in a separate part of it set aside for women of rank. Madame Hohlakov was a wealthy lady, still young and attractive, and always dressed with taste. She was rather pale, and had lively black eyes. She was not more than thirty‐three, and had been five years a widow. Her daughter, a girl of fourteen, was partially paralyzed. The poor child had not been able to walk for the last six months, and was wheeled about in a long reclining chair. She had a charming little face, rather thin from illness, but full of gayety. There was a gleam of mischief in her big dark eyes with their long lashes. Her mother had been intending to take her abroad ever since the spring, but they had been detained all the summer by business connected with their estate. They had been staying a week in our town, where they had come more for purposes of business than devotion, but had visited Father Zossima once already, three days before. Though they knew that the elder scarcely saw any one, they had now suddenly turned up again, and urgently entreated “the happiness of looking once again on the great healer.” The mother was sitting on a chair by the side of her daughter’s invalid carriage, and two paces from her stood an old monk, not one of our monastery, but a visitor from an obscure religious house in the far north. He too sought the elder’s blessing. But Father Zossima, on entering the portico, went first straight to the peasants who were crowded at the foot of the three steps that led up into the portico. Father Zossima stood on the top step, put on his stole, and began blessing the women who thronged about him. One crazy woman was led up to him. As soon as she caught sight of the elder she began shrieking and writhing as though in the pains of childbirth. Laying the stole on her forehead, he read a short prayer over her, and she was at once soothed and quieted. I do not know how it may be now, but in my childhood I often happened to see and hear these “possessed” women in the villages and monasteries. They used to be brought to mass; they would squeal and bark like a dog so that they were heard all over the church. But when the sacrament was carried in and they were led up to it, at once the “possession” ceased, and the sick women were always soothed for a time. I was greatly impressed and amazed at this as a child; but then I heard from country neighbors and from my town teachers that the whole illness was simulated to avoid work, and that it could always be cured by suitable severity; various anecdotes were told to confirm this. But later on I learnt with astonishment from medical specialists that there is no pretense about it, that it is a terrible illness to which women are subject, specially prevalent among us in Russia, and that it is due to the hard lot of the peasant women. It is a disease, I was told, arising from exhausting toil too soon after hard, abnormal and unassisted labor in childbirth, and from the hopeless misery, from beatings, and so on, which some women were not able to endure like others. The strange and instant healing of the frantic and struggling woman as soon as she was led up to the holy sacrament, which had been explained to me as due to malingering and the trickery of the “clericals,” arose probably in the most natural manner. Both the women who supported her and the invalid herself fully believed as a truth beyond question that the evil spirit in possession of her could not hold out if the sick woman were brought to the sacrament and made to bow down before it. And so, with a nervous and psychically deranged woman, a sort of convulsion of the whole organism always took place, and was bound to take place, at the moment of bowing down to the sacrament, aroused by the expectation of the miracle of healing and the implicit belief that it would come to pass; and it did come to pass, though only for a moment. It was exactly the same now as soon as the elder touched the sick woman with the stole. |
| Многие из теснившихся к нему женщин заливались слезами умиления и восторга, вызванного эффектом минуты; другие рвались облобызать хоть край одежды его, иные что-то причитали. Он благословлял всех, а с иными разговаривал. Кликушу он уже знал, ее привели не издалека, из деревни всего верст за шесть от монастыря, да и прежде ее водили к нему. | Many of the women in the crowd were moved to tears of ecstasy by the effect of the moment: some strove to kiss the hem of his garment, others cried out in sing‐song voices. He blessed them all and talked with some of them. The “possessed” woman he knew already. She came from a village only six versts from the monastery, and had been brought to him before. |
| – А вот далекая! – указал он на одну еще вовсе не старую женщину, но очень худую и испитую, не то что загоревшую, а как бы всю почерневшую лицом. Она стояла на коленях и неподвижным взглядом смотрела на старца. Во взгляде ее было что-то как бы исступленное. | “But here is one from afar.” He pointed to a woman by no means old but very thin and wasted, with a face not merely sunburnt but almost blackened by exposure. She was kneeling and gazing with a fixed stare at the elder; there was something almost frenzied in her eyes. |
| – Издалека, батюшка, издалека, отселева триста верст. Издалека, отец, издалека, – проговорила женщина нараспев, как-то покачивая плавно из стороны в сторону головой и подпирая щеку ладонью. Говорила она как бы причитывая. Есть в народе горе молчаливое и многотерпеливое; оно уходит в себя и молчит. Но есть горе и надорванное: оно пробьется раз слезами и с той минуты уходит в причитывания. Это особенно у женщин. Но не легче оно молчаливого горя. Причитания утоляют тут лишь тем, что еще более растравляют и надрывают сердце. Такое горе и утешения не желает, чувством своей неутолимости питается. Причитания лишь потребность раздражать беспрерывно рану. | “From afar off, Father, from afar off! From two hundred miles from here. From afar off, Father, from afar off!” the woman began in a sing‐song voice as though she were chanting a dirge, swaying her head from side to side with her cheek resting in her hand. There is silent and long‐suffering sorrow to be met with among the peasantry. It withdraws into itself and is still. But there is a grief that breaks out, and from that minute it bursts into tears and finds vent in wailing. This is particularly common with women. But it is no lighter a grief than the silent. Lamentations comfort only by lacerating the heart still more. Such grief does not desire consolation. It feeds on the sense of its hopelessness. Lamentations spring only from the constant craving to reopen the wound. |
| – По мещанству надо-ть быть?- продолжал, любопытно в нее вглядываясь, старец. | “You are of the tradesman class?” said Father Zossima, looking curiously at her. |
| – Городские мы, отец, городские, по крестьянству мы, а городские, в городу проживаем. Тебя повидать, отец, прибыла. Слышали о тебе, батюшка, слышали. Сыночка младенчика схоронила, пошла молить бога. В трех монастырях побывала, да указали мне: “Зайди, Настасьюшка, и сюда, к вам то-есть, голубчик, к вам”. Пришла, вчера у стояния была, а сегодня и к вам. | “Townfolk we are, Father, townfolk. Yet we are peasants though we live in the town. I have come to see you, O Father! We heard of you, Father, we heard of you. I have buried my little son, and I have come on a pilgrimage. I have been in three monasteries, but they told me, ‘Go, Nastasya, go to them’—that is to you. I have come; I was yesterday at the service, and to‐day I have come to you.” |
| – О чем плачешь-то? | “What are you weeping for?” |
| – Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без трех только месяцев и три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку. Последний сыночек оставался, четверо было у нас с Никитушкой, да не стоят у нас детушки, не стоят, желанный, не стоят. Трех первых схоронила я, не жалела я их очень-то, а этого последнего схоронила и забыть его не могу. Вот точно он тут предо мной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашоночку аль на сапожки и взвою. Разложу что после него осталось, всякую вещь его, смотрю и вою. Говорю Никитушке, мужу-то моему: отпусти ты меня, хозяин, на богомолье сходить. Извозчик он, не бедные мы, отец, не бедные, сами от себя извоз ведем, все свое содержим, и лошадок и экипаж. Да на что теперь нам добро? Зашибаться он стал без меня, Никитушка-то мой, это наверно что так, да и прежде того: чуть я отвернусь, а уж он и ослабеет. А теперь и о нем не думаю. Вот уж третий месяц из дому. Забыла я, обо всем забыла и помнить не хочу; а и что я с ним теперь буду? Кончила я с ним, кончила, со всеми покончила. И не глядела бы я теперь на свой дом и на свое добро, и не видала б я ничего вовсе! | “It’s my little son I’m grieving for, Father. He was three years old—three years all but three months. For my little boy, Father, I’m in anguish, for my little boy. He was the last one left. We had four, my Nikita and I, and now we’ve no children, our dear ones have all gone. I buried the first three without grieving overmuch, and now I have buried the last I can’t forget him. He seems always standing before me. He never leaves me. He has withered my heart. I look at his little clothes, his little shirt, his little boots, and I wail. I lay out all that is left of him, all his little things. I look at them and wail. I say to Nikita, my husband, ‘Let me go on a pilgrimage, master.’ He is a driver. We’re not poor people, Father, not poor; he drives our own horse. It’s all our own, the horse and the carriage. And what good is it all to us now? My Nikita has begun drinking while I am away. He’s sure to. It used to be so before. As soon as I turn my back he gives way to it. But now I don’t think about him. It’s three months since I left home. I’ve forgotten him. I’ve forgotten everything. I don’t want to remember. And what would our life be now together? I’ve done with him, I’ve done. I’ve done with them all. I don’t care to look upon my house and my goods. I don’t care to see anything at all!” |
| – Вот что, мать, – проговорил старец, – однажды древний великий святой увидел во храме такую же как ты плачущую мать и тоже по младенце своем, по единственном, которого тоже призвал господь. “Или не знаешь ты, сказал ей святой, сколь сии младенцы пред престолом божиим дерзновенны? Даже и нет никого дерзновеннее их в царствии небесном: Ты, господи, даровал нам жизнь, говорят они богу, и только лишь мы узрели ее, как ты ее у нас и взял назад. И столь дерзновенно просят и спрашивают, что господь дает им немедленно ангельский чин. А посему, молвил святой, и ты радуйся, жено, а не плачь, и твой младенец теперь у господа в сонме ангелов его пребывает”. Вот что сказал святой плачущей жене в древние времена. Был же он великий святой и неправды ей поведать не мог. Посему знай и ты, мать, что и твой младенец наверно теперь предстоит пред престолом господним, и радуется и веселится, и о тебе бога молит. А потому и ты плачь, но радуйся. | “Listen, mother,” said the elder. “Once in olden times a holy saint saw in the Temple a mother like you weeping for her little one, her only one, whom God had taken. ‘Knowest thou not,’ said the saint to her, ‘how bold these little ones are before the throne of God? Verily there are none bolder than they in the Kingdom of Heaven. “Thou didst give us life, O Lord,” they say, “and scarcely had we looked upon it when Thou didst take it back again.” And so boldly they ask and ask again that God gives them at once the rank of angels. Therefore,’ said the saint, ‘thou, too, O mother, rejoice and weep not, for thy little son is with the Lord in the fellowship of the angels.’ That’s what the saint said to the weeping mother of old. He was a great saint and he could not have spoken falsely. Therefore you too, mother, know that your little one is surely before the throne of God, is rejoicing and happy, and praying to God for you, and therefore weep not, but rejoice.” |
| Женщина слушала его, подпирая рукой щеку и потупившись. Она глубоко вздохнула. | The woman listened to him, looking down with her cheek in her hand. She sighed deeply. |
| < < < BILINGUAL BOOKS | > > > |
| Двуязычный текст, подготовленный Akirill.com , размещенные на сайте Akirill.com 19 июня 2022 года. 2022 года. Каждую из книг (на английском или русском языках) можно забрать отдельно и повторно использовать в личных и некоммерческих целях. Они свободны от авторского права. При любом совместном использовании двух книг должно быть указано их происхождение https://www.Akirill.com | Bilingual text prepared by Akirill.com , deposited on the site Akirill.com on June 19, 2022. Each of the books (English or French) can be taken back separately and reused for personal and non-commercial purposes. They are free of copyright. Any use of the two books side by side must mention their origin https://www.Akirill.com |
The Brothers Karamazov, by Fyodor Dostoyevsky
| If you liked this page, don’t forget to like and share. Si vous avez aimé cette page, n’oublier pas d’aimer et de partager. |
| Subscribe to not miss anything Abonnez-vous pour ne rien manquer |
| Check out our latest posts |
| Découvrez nos derniers articles |