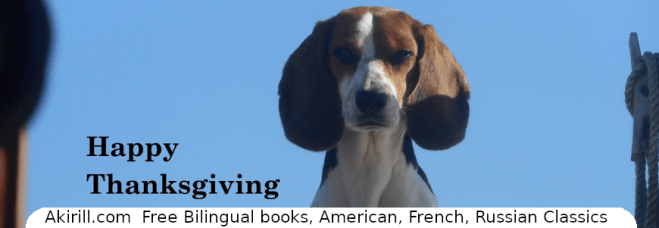Это не дословный перевод, а книга на двух языках, вышедшие бок о бок. Вы можете прочитать его на русском, английском или на обоих языках.
This is not a word-by-word translation but the books in the two languages put side by side. You can read it in Russian, in English or both.
Братья Карамазовы. Роман Федора Достоевского
| Братья Карамазовы. Роман Федора Достоевского | The Brothers Karamazov, by Fyodor Dostoyevsky |
| ЧАСТЬ ВТОРАЯ. | Part 2 |
| КНИГА ПЯТАЯ | Book V |
| < < < | > > > |
| Глава IV | Chapter IV |
| – Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию. | “I think if the devil doesn’t exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.” |
| – В таком случае, равно как и бога. | “Just as he did God, then?” observed Alyosha. |
| – А ты удивительно как умеешь оборачивать словечки, как говорит Полоний в Гамлете, – засмеялся Иван. – Ты поймал меня на слове, пусть, я рад. Хорош же твой бог, коль его создал человек по образу своему и подобию. Ты спросил сейчас, для чего я это все: я, видишь ли, любитель и собиратель некоторых фактиков и, веришь ли, записываю и собираю из газет и рассказов, откуда попало, некоторого рода анекдотики, и у меня уже хорошая коллекция. Турки конечно вошли в коллекцию, но это все иностранцы. У меня есть и родные штучки и даже получше турецких. Знаешь, у нас больше битье, больше розга и плеть, и это национально: у нас прибитые гвоздями уши немыслимы, мы все-таки европейцы, но розги, но плеть, это нечто уже наше и не может быть у нас отнято. За границей теперь как будто и не бьют совсем, нравы что ли очистились, али уж законы такие устроились, что человек человека как будто уж и не смеет посечь, но за то они вознаградили себя другим и тоже чисто национальным, как и у нас, и до того национальным, что у нас оно как будто и не возможно, хотя впрочем, кажется, и у нас прививается, особенно со времени религиозного движения в нашем высшем обществе. Есть у меня одна прелестная брошюрка, перевод с французского, о том, как в Женеве, очень недавно, всего лет пять тому, казнили одного злодея и убийцу, Ришара, двадцатитрехлетнего, кажется, малого, раскаявшегося и обратившегося к христианской вере пред самым эшафотом. Этот Ришар был чей-то незаконнорожденный, которого еще младенцем, лет шести, подарили родители каким-то горным швейцарским пастухам и те его взрастили, чтоб употреблять в работу. Рос он у них как дикий зверенок, не научили его пастухи ничему, напротив, семи лет уже посылали пасти стадо, в мокреть и в холод, почти без одежды и почти не кормя его. И уж конечно так делая, никто из них не задумывался и не раскаивался, напротив считал себя в полном праве, ибо Ришар подарен им был как вещь и они даже не находили необходимым кормить его. Сам Ришар свидетельствует, что в те годы он, как блудный сын в Евангелии, желал ужасно поесть хоть того месива, которое давали откармливаемым на продажу свиньям, но ему не давали даже и этого и били, когда он крал у свиней, и так провел он все детство свое и всю юность, до тех пор, пока возрос и, укрепившись в силах, пошел сам воровать. Дикарь стал добывать деньги поденною работой в Женеве, добытое пропивал, жил как изверг и кончил тем, что убил какого-то старика и ограбил. Его схватили, судили и присудили к смерти. Там ведь не сентиментальничают. И вот в тюрьме его немедленно окружают пасторы и члены разных Христовых братств, благотворительные дамы и проч. Научили они его в тюрьме читать и писать, стали толковать ему Евангелие, усовещевали, убеждали, напирали, пилили, давили, и вот он сам торжественно сознается наконец в своем преступлении. Он обратился, он написал сам суду, что он изверг и что наконец-таки он удостоился того, что и его озарил господь и послал ему благодать. Все взволновалось в Женеве, вся благотворительная и благочестивая Женева. Все, что было высшего и благовоспитанного, ринулось к нему в тюрьму; Ришара целуют, обнимают: “ты брат наш, на тебя сошла благодать!” А сам Ришар только плачет в умилении: “да, на меня сошла благодать! Прежде я все детство и юность мою рад был корму свиней, а теперь сошла и на меня благодать, умираю во господе!” – “Да, да, Ришар, умри во господе, ты пролил кровь и должен умереть во господе. Пусть ты невиновен, что не знал совсем господа, когда завидовал корму свиней и когда тебя били за то, что ты крал у них корм (что ты делал очень не хорошо, ибо красть не позволено), – но ты пролил кровь и должен умереть”. И вот наступает последний день. Расслабленный Ришар плачет и только и делает, что повторяет ежеминутно: “Это лучший из дней моих, я иду к господу!” – “Да”, кричат пасторы, судьи и благотворительные дамы, “это счастливейший день твой, ибо ты идешь к господу!” Все это двигается к эшафоту вслед за позорною колесницей, в которой везут Ришара, в экипажах, пешком. Вот достигли эшафота: “умри, брат наш”, кричат Ришару, “умри во господе, ибо и на тебя сошла благодать!” И вот покрытого поцелуями братьев, брата Ришара втащили на эшафот, положили на гильотину и оттяпали-таки ему по-братски голову за то, что и на него сошла благодать. Нет, это характерно. Брошюрка эта переведена по-русски какими-то русскими лютеранствующими благотворителями высшего общества и разослана для просвещения народа русского при газетах и других изданиях даром. Штука с Ришаром хороша тем, что национальна. У нас хоть нелепо рубить голову брату потому только, что он стал нам брат и что на него сошла благодать, но, повторяю, у нас есть свое, почти что не хуже. У нас историческое, непосредственное и ближайшее наслаждение истязанием битья. У Некрасова есть стихи о том, как мужик сечет лошадь кнутом по глазам, “по кротким глазам”. Этого кто ж не видал, это руссизм. Он описывает, как слабосильная лошаденка, на которую навалили слишком, завязла с возом и не может вытащить. Мужик бьет ее, бьет с остервенением, бьет наконец не понимая, что делает, в опьянении битья сечет больно, бесчисленно: “Хоть ты и не в силах, а вези, умри, да вези!” Кляченка рвется, и вот он начинает сечь ее, беззащитную, по плачущим, по “кротким глазам”. Вне себя она рванула и вывезла и пошла вся дрожа, не дыша, как-то боком, с какою-то припрыжкой, как-то неестественно и позорно, – у Некрасова это ужасно. Но ведь это всего только лошадь, лошадей и сам бог дал, чтоб их сечь. Так татары нам растолковали и кнут на память подарили. Но можно ведь сечь и людей. И вот интеллигентный образованный господин и его дама секут собственную дочку, младенца семи лет, розгами, – об этом у меня подробно записано. Папенька рад, что прутья с сучками, “садче будет”, говорит он, и вот начинает “сажать” родную дочь. Я знаю наверно, есть такие секущие, которые разгорячаются с каждым ударом до сладострастия, до буквального сладострастия, с каждым последующим ударом все больше и больше, все прогрессивней. Секут минуту, секут наконец пять минут, секут десять минут, дальше, больше, чаще, садче. Ребенок кричит, ребенок наконец не может кричать, задыхается “папа, папа, папочка, папочка!” Дело каким-то чортовым неприличным случаем доходит до суда. Нанимается адвокат. Русский народ давно уже назвал у нас адвоката – “аблакат – нанятая совесть”. Адвокат кричит в защиту своего клиента. “Дело дескать такое простое, семейное и обыкновенное, отец посек дочку и вот к стыду наших дней дошло до суда!” Убежденные присяжные удаляются и выносят оправдательный приговор. Публика ревет от счастья, что оправдали мучителя. – Э-эх, меня не было там, я бы рявкнул предложение учредить стипендию в честь имени истязателя!.. Картинки прелестные. Но о детках есть у меня и еще получше, у меня очень, очень много собрано о русских детках, Алеша. Девченочку маленькую, пятилетнюю, возненавидели отец и мать “почтеннейшие и чиновные люди, образованные и воспитанные”. Видишь, я еще раз положительно утверждаю, что есть особенное свойство у многих в человечестве – это любовь к истязанию детей, но одних детей. Ко всем другим субъектам человеческого рода эти же самые истязатели относятся даже благосклонно и кротко как образованные и гуманные европейские люди, но очень любят мучить детей, любят даже самих детей в этом смысле. Тут именно незащищенность-то этих созданий и соблазняет мучителей, ангельская доверчивость дитяти, которому некуда деться и не к кому идти, – вот это-то и распаляет гадкую кровь истязателя. Во всяком человеке конечно таится зверь, – зверь гневливости, зверь сладострастной распаляемости от криков истязуемой жертвы, зверь без удержу спущенного с цепи, зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных печенок и проч. Эту бедную пятилетнюю девочку эти образованные родители подвергали всевозможным истязаниям. Они били, секли, пинали ее ногами, не зная сами за что, обратили все тело ее в синяки; наконец дошли и до высшей утонченности: в холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место, и за то, что она не просилась ночью (как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься) – за это обмазывали ей все лицо ее же калом и заставляли ее есть этот кал, и это мать, мать заставляла! И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте! Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми незлобивыми, кроткими слезками к “боженьке”, чтобы тот защитил его, – понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чортово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слез ребеночка к “боженьке”. Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели и чорт с ними, и пусть бы их всех чорт взял, но эти, эти! Мучаю я тебя, Алешка, ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь. Akirill.com | “ ‘It’s wonderful how you can turn words,’ as Polonius says in Hamlet,” laughed Ivan. “You turn my words against me. Well, I am glad. Yours must be a fine God, if man created Him in his image and likeness. You asked just now what I was driving at. You see, I am fond of collecting certain facts, and, would you believe, I even copy anecdotes of a certain sort from newspapers and books, and I’ve already got a fine collection. The Turks, of course, have gone into it, but they are foreigners. I have specimens from home that are even better than the Turks. You know we prefer beating—rods and scourges—that’s our national institution. Nailing ears is unthinkable for us, for we are, after all, Europeans. But the rod and the scourge we have always with us and they cannot be taken from us. Abroad now they scarcely do any beating. Manners are more humane, or laws have been passed, so that they don’t dare to flog men now. But they make up for it in another way just as national as ours. And so national that it would be practically impossible among us, though I believe we are being inoculated with it, since the religious movement began in our aristocracy. I have a charming pamphlet, translated from the French, describing how, quite recently, five years ago, a murderer, Richard, was executed—a young man, I believe, of three and twenty, who repented and was converted to the Christian faith at the very scaffold. This Richard was an illegitimate child who was given as a child of six by his parents to some shepherds on the Swiss mountains. They brought him up to work for them. He grew up like a little wild beast among them. The shepherds taught him nothing, and scarcely fed or clothed him, but sent him out at seven to herd the flock in cold and wet, and no one hesitated or scrupled to treat him so. Quite the contrary, they thought they had every right, for Richard had been given to them as a chattel, and they did not even see the necessity of feeding him. Richard himself describes how in those years, like the Prodigal Son in the Gospel, he longed to eat of the mash given to the pigs, which were fattened for sale. But they wouldn’t even give him that, and beat him when he stole from the pigs. And that was how he spent all his childhood and his youth, till he grew up and was strong enough to go away and be a thief. The savage began to earn his living as a day laborer in Geneva. He drank what he earned, he lived like a brute, and finished by killing and robbing an old man. He was caught, tried, and condemned to death. They are not sentimentalists there. And in prison he was immediately surrounded by pastors, members of Christian brotherhoods, philanthropic ladies, and the like. They taught him to read and write in prison, and expounded the Gospel to him. They exhorted him, worked upon him, drummed at him incessantly, till at last he solemnly confessed his crime. He was converted. He wrote to the court himself that he was a monster, but that in the end God had vouchsafed him light and shown grace. All Geneva was in excitement about him—all philanthropic and religious Geneva. All the aristocratic and well‐bred society of the town rushed to the prison, kissed Richard and embraced him; ‘You are our brother, you have found grace.’ And Richard does nothing but weep with emotion, ‘Yes, I’ve found grace! All my youth and childhood I was glad of pigs’ food, but now even I have found grace. I am dying in the Lord.’ ‘Yes, Richard, die in the Lord; you have shed blood and must die. Though it’s not your fault that you knew not the Lord, when you coveted the pigs’ food and were beaten for stealing it (which was very wrong of you, for stealing is forbidden); but you’ve shed blood and you must die.’ And on the last day, Richard, perfectly limp, did nothing but cry and repeat every minute: ‘This is my happiest day. I am going to the Lord.’ ‘Yes,’ cry the pastors and the judges and philanthropic ladies. ‘This is the happiest day of your life, for you are going to the Lord!’ They all walk or drive to the scaffold in procession behind the prison van. At the scaffold they call to Richard: ‘Die, brother, die in the Lord, for even thou hast found grace!’ And so, covered with his brothers’ kisses, Richard is dragged on to the scaffold, and led to the guillotine. And they chopped off his head in brotherly fashion, because he had found grace. Yes, that’s characteristic. That pamphlet is translated into Russian by some Russian philanthropists of aristocratic rank and evangelical aspirations, and has been distributed gratis for the enlightenment of the people. The case of Richard is interesting because it’s national. Though to us it’s absurd to cut off a man’s head, because he has become our brother and has found grace, yet we have our own speciality, which is all but worse. Our historical pastime is the direct satisfaction of inflicting pain. There are lines in Nekrassov describing how a peasant lashes a horse on the eyes, ‘on its meek eyes,’ every one must have seen it. It’s peculiarly Russian. He describes how a feeble little nag has foundered under too heavy a load and cannot move. The peasant beats it, beats it savagely, beats it at last not knowing what he is doing in the intoxication of cruelty, thrashes it mercilessly over and over again. ‘However weak you are, you must pull, if you die for it.’ The nag strains, and then he begins lashing the poor defenseless creature on its weeping, on its ‘meek eyes.’ The frantic beast tugs and draws the load, trembling all over, gasping for breath, moving sideways, with a sort of unnatural spasmodic action—it’s awful in Nekrassov. But that’s only a horse, and God has given horses to be beaten. So the Tatars have taught us, and they left us the knout as a remembrance of it. But men, too, can be beaten. A well‐educated, cultured gentleman and his wife beat their own child with a birch‐rod, a girl of seven. I have an exact account of it. The papa was glad that the birch was covered with twigs. ‘It stings more,’ said he, and so he began stinging his daughter. I know for a fact there are people who at every blow are worked up to sensuality, to literal sensuality, which increases progressively at every blow they inflict. They beat for a minute, for five minutes, for ten minutes, more often and more savagely. The child screams. At last the child cannot scream, it gasps, ‘Daddy! daddy!’ By some diabolical unseemly chance the case was brought into court. A counsel is engaged. The Russian people have long called a barrister ‘a conscience for hire.’ The counsel protests in his client’s defense. ‘It’s such a simple thing,’ he says, ‘an everyday domestic event. A father corrects his child. To our shame be it said, it is brought into court.’ The jury, convinced by him, give a favorable verdict. The public roars with delight that the torturer is acquitted. Ah, pity I wasn’t there! I would have proposed to raise a subscription in his honor! Charming pictures. “But I’ve still better things about children. I’ve collected a great, great deal about Russian children, Alyosha. There was a little girl of five who was hated by her father and mother, ‘most worthy and respectable people, of good education and breeding.’ You see, I must repeat again, it is a peculiar characteristic of many people, this love of torturing children, and children only. To all other types of humanity these torturers behave mildly and benevolently, like cultivated and humane Europeans; but they are very fond of tormenting children, even fond of children themselves in that sense. It’s just their defenselessness that tempts the tormentor, just the angelic confidence of the child who has no refuge and no appeal, that sets his vile blood on fire. In every man, of course, a demon lies hidden—the demon of rage, the demon of lustful heat at the screams of the tortured victim, the demon of lawlessness let off the chain, the demon of diseases that follow on vice, gout, kidney disease, and so on. “This poor child of five was subjected to every possible torture by those cultivated parents. They beat her, thrashed her, kicked her for no reason till her body was one bruise. Then, they went to greater refinements of cruelty—shut her up all night in the cold and frost in a privy, and because she didn’t ask to be taken up at night (as though a child of five sleeping its angelic, sound sleep could be trained to wake and ask), they smeared her face and filled her mouth with excrement, and it was her mother, her mother did this. And that mother could sleep, hearing the poor child’s groans! Can you understand why a little creature, who can’t even understand what’s done to her, should beat her little aching heart with her tiny fist in the dark and the cold, and weep her meek unresentful tears to dear, kind God to protect her? Do you understand that, friend and brother, you pious and humble novice? Do you understand why this infamy must be and is permitted? Without it, I am told, man could not have existed on earth, for he could not have known good and evil. Why should he know that diabolical good and evil when it costs so much? Why, the whole world of knowledge is not worth that child’s prayer to ‘dear, kind God’! I say nothing of the sufferings of grown‐up people, they have eaten the apple, damn them, and the devil take them all! But these little ones! I am making you suffer, Alyosha, you are not yourself. I’ll leave off if you like.” |
| – Ничего, я тоже хочу мучиться, – пробормотал Алеша. | “Never mind. I want to suffer too,” muttered Alyosha. Akirill.com |
| – Одну, только одну еще картинку, и то из любопытства, очень уж характерная, и главное только что прочел в одном из сборников наших древностей, в Архиве, в Старине что ли, надо справиться, забыл даже где и прочел. Это было в самое мрачное время крепостного права, еще в начале столетия, и да здравствует освободитель народа! Был тогда в начале столетия один генерал, генерал со связями большими и богатейший помещик, но из таких (правда и тогда уже, кажется, очень немногих), которые, удаляясь на покой со службы, чуть-чуть не бывали уверены, что выслужили себе право на жизнь и смерть своих подданных. Такие тогда бывали. Ну вот живет генерал в своем поместьи в две тысячи душ, чванится, третирует мелких соседей как приживальщиков и шутов своих. Псарня с сотнями собак и чуть не сотня псарей, все в мундирах, все на конях. И вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего восьми лет, пустил как-то играя камнем и зашиб ногу любимой генеральской гончей. “Почему собака моя любимая охромела?” Докладывают ему, что вот дескать этот самый мальчик камнем в нее пустил и ногу ей зашиб. “А, это ты, – оглядел его генерал, – взять его!” Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидел в кутузке, на утро чем свет выезжает генерал во всем параде на охоту, сел на коня, кругом его приживальщики, собаки, псари, ловчие, все на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть, ребеночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть… “Гони его!” командует генерал, “беги, беги!” кричат ему псари, мальчик бежит… “Ату его!” вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки!.. Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну… что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка! | “One picture, only one more, because it’s so curious, so characteristic, and I have only just read it in some collection of Russian antiquities. I’ve forgotten the name. I must look it up. It was in the darkest days of serfdom at the beginning of the century, and long live the Liberator of the People! There was in those days a general of aristocratic connections, the owner of great estates, one of those men—somewhat exceptional, I believe, even then—who, retiring from the service into a life of leisure, are convinced that they’ve earned absolute power over the lives of their subjects. There were such men then. So our general, settled on his property of two thousand souls, lives in pomp, and domineers over his poor neighbors as though they were dependents and buffoons. He has kennels of hundreds of hounds and nearly a hundred dog‐boys—all mounted, and in uniform. One day a serf‐boy, a little child of eight, threw a stone in play and hurt the paw of the general’s favorite hound. ‘Why is my favorite dog lame?’ He is told that the boy threw a stone that hurt the dog’s paw. ‘So you did it.’ The general looked the child up and down. ‘Take him.’ He was taken—taken from his mother and kept shut up all night. Early that morning the general comes out on horseback, with the hounds, his dependents, dog‐boys, and huntsmen, all mounted around him in full hunting parade. The servants are summoned for their edification, and in front of them all stands the mother of the child. The child is brought from the lock‐up. It’s a gloomy, cold, foggy autumn day, a capital day for hunting. The general orders the child to be undressed; the child is stripped naked. He shivers, numb with terror, not daring to cry…. ‘Make him run,’ commands the general. ‘Run! run!’ shout the dog‐boys. The boy runs…. ‘At him!’ yells the general, and he sets the whole pack of hounds on the child. The hounds catch him, and tear him to pieces before his mother’s eyes!… I believe the general was afterwards declared incapable of administering his estates. Well—what did he deserve? To be shot? To be shot for the satisfaction of our moral feelings? Speak, Alyosha!” |
| – Расстрелять! – тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата. | “To be shot,” murmured Alyosha, lifting his eyes to Ivan with a pale, twisted smile. |
| – Браво! – завопил Иван в каком-то восторге, – уж коли ты сказал, значит… Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов! | “Bravo!” cried Ivan, delighted. “If even you say so…. You’re a pretty monk! So there is a little devil sitting in your heart, Alyosha Karamazov!” |
| – Я сказал нелепость, но… | “What I said was absurd, but—” |
| – То-то и есть, что но… – кричал Иван. – Знай, послушник. что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит и без них может быть в нем совсем ничего бы и не произошло. Мы знаем что знаем! | “That’s just the point, that ‘but’!” cried Ivan. “Let me tell you, novice, that the absurd is only too necessary on earth. The world stands on absurdities, and perhaps nothing would have come to pass in it without them. We know what we know!” |
| – Что ты знаешь? | “What do you know?” |
| – Я ничего не понимаю, – продолжал Иван как бы в бреду, – я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте… | “I understand nothing,” Ivan went on, as though in delirium. “I don’t want to understand anything now. I want to stick to the fact. I made up my mind long ago not to understand. If I try to understand anything, I shall be false to the fact, and I have determined to stick to the fact.” |
| – Для чего ты меня испытуешь? – с надрывом горестно воскликнул Алеша, – скажешь ли мне наконец? | “Why are you trying me?” Alyosha cried, with sudden distress. “Will you say what you mean at last?” |
| – Конечно скажу, к тому и вел, чтобы сказать. Ты мне дорог, я тебя упустить не хочу и не уступлю твоему Зосиме. | “Of course, I will; that’s what I’ve been leading up to. You are dear to me, I don’t want to let you go, and I won’t give you up to your Zossima.” |
| Иван помолчал с минуту, лицо его стало вдруг очень грустно. | Ivan for a minute was silent, his face became all at once very sad. |
| – Слушай меня: я взял одних деток, для того чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра – я уж ни слова не говорю, я тему мою нарочно сузил. Я клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. Люди сами, значит, виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит нечего их жалеть. О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается, – но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что все прямо и просто одно из другого выходит, и что я это знаю – мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь уже на земле, и чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам и видеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было. На этом желании зиждутся все религии на земле, а я верую. Но вот однако же детки, и что я с ними стану тогда делать? Это вопрос, который я не могу решить. В сотый раз повторяю – вопросов множество, но я взял одних деток, потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне пожалуста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, то уж конечно правда эта не от мира сего и мне непонятна. Иной шутник скажет пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос, его восьмилетнего затравили собаками. О, Алеша, я не богохульствую! Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и под землею сольется в один хвалебный глас и все живое и жившее воскликнет: “Прав ты, господи, ибо открылись пути твои!” Уж когда мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее, и все трое возгласят со слезами: “Прав ты, господи”, то уж конечно настанет венец познания и все объяснится. Но вот тут-то и запятая, этого-то я и не могу принять. И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алеша, ведь может быть и действительно так случится, что, когда я сам доживу до того момента, али воскресну, чтоб увидать его, то и сам я пожалуй воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: “Прав ты, господи!” но я не хочу тогда восклицать, Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулаченком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к “боженьке”! Не стоит потому что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены. И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. Не хочу я наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями не отомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю. | “Listen! I took the case of children only to make my case clearer. Of the other tears of humanity with which the earth is soaked from its crust to its center, I will say nothing. I have narrowed my subject on purpose. I am a bug, and I recognize in all humility that I cannot understand why the world is arranged as it is. Men are themselves to blame, I suppose; they were given paradise, they wanted freedom, and stole fire from heaven, though they knew they would become unhappy, so there is no need to pity them. With my pitiful, earthly, Euclidian understanding, all I know is that there is suffering and that there are none guilty; that cause follows effect, simply and directly; that everything flows and finds its level—but that’s only Euclidian nonsense, I know that, and I can’t consent to live by it! What comfort is it to me that there are none guilty and that cause follows effect simply and directly, and that I know it?—I must have justice, or I will destroy myself. And not justice in some remote infinite time and space, but here on earth, and that I could see myself. I have believed in it. I want to see it, and if I am dead by then, let me rise again, for if it all happens without me, it will be too unfair. Surely I haven’t suffered, simply that I, my crimes and my sufferings, may manure the soil of the future harmony for somebody else. I want to see with my own eyes the hind lie down with the lion and the victim rise up and embrace his murderer. I want to be there when every one suddenly understands what it has all been for. All the religions of the world are built on this longing, and I am a believer. But then there are the children, and what am I to do about them? That’s a question I can’t answer. For the hundredth time I repeat, there are numbers of questions, but I’ve only taken the children, because in their case what I mean is so unanswerably clear. Listen! If all must suffer to pay for the eternal harmony, what have children to do with it, tell me, please? It’s beyond all comprehension why they should suffer, and why they should pay for the harmony. Why should they, too, furnish material to enrich the soil for the harmony of the future? I understand solidarity in sin among men. I understand solidarity in retribution, too; but there can be no such solidarity with children. And if it is really true that they must share responsibility for all their fathers’ crimes, such a truth is not of this world and is beyond my comprehension. Some jester will say, perhaps, that the child would have grown up and have sinned, but you see he didn’t grow up, he was torn to pieces by the dogs, at eight years old. Oh, Alyosha, I am not blaspheming! I understand, of course, what an upheaval of the universe it will be, when everything in heaven and earth blends in one hymn of praise and everything that lives and has lived cries aloud: ‘Thou art just, O Lord, for Thy ways are revealed.’ When the mother embraces the fiend who threw her child to the dogs, and all three cry aloud with tears, ‘Thou art just, O Lord!’ then, of course, the crown of knowledge will be reached and all will be made clear. But what pulls me up here is that I can’t accept that harmony. And while I am on earth, I make haste to take my own measures. You see, Alyosha, perhaps it really may happen that if I live to that moment, or rise again to see it, I, too, perhaps, may cry aloud with the rest, looking at the mother embracing the child’s torturer, ‘Thou art just, O Lord!’ but I don’t want to cry aloud then. While there is still time, I hasten to protect myself, and so I renounce the higher harmony altogether. It’s not worth the tears of that one tortured child who beat itself on the breast with its little fist and prayed in its stinking outhouse, with its unexpiated tears to ‘dear, kind God’! It’s not worth it, because those tears are unatoned for. They must be atoned for, or there can be no harmony. But how? How are you going to atone for them? Is it possible? By their being avenged? But what do I care for avenging them? What do I care for a hell for oppressors? What good can hell do, since those children have already been tortured? And what becomes of harmony, if there is hell? I want to forgive. I want to embrace. I don’t want more suffering. And if the sufferings of children go to swell the sum of sufferings which was necessary to pay for truth, then I protest that the truth is not worth such a price. I don’t want the mother to embrace the oppressor who threw her son to the dogs! She dare not forgive him! Let her forgive him for herself, if she will, let her forgive the torturer for the immeasurable suffering of her mother’s heart. But the sufferings of her tortured child she has no right to forgive; she dare not forgive the torturer, even if the child were to forgive him! And if that is so, if they dare not forgive, what becomes of harmony? Is there in the whole world a being who would have the right to forgive and could forgive? I don’t want harmony. From love for humanity I don’t want it. I would rather be left with the unavenged suffering. I would rather remain with my unavenged suffering and unsatisfied indignation, even if I were wrong. Besides, too high a price is asked for harmony; it’s beyond our means to pay so much to enter on it. And so I hasten to give back my entrance ticket, and if I am an honest man I am bound to give it back as soon as possible. And that I am doing. It’s not God that I don’t accept, Alyosha, only I most respectfully return Him the ticket.” |
| – Это бунт, – тихо и потупившись проговорил Алеша. | “That’s rebellion,” murmured Alyosha, looking down. |
| – Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова, – проникновенно сказал Иван. – Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя, – отвечай: Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулаченком в грудь и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги! | “Rebellion? I am sorry you call it that,” said Ivan earnestly. “One can hardly live in rebellion, and I want to live. Tell me yourself, I challenge you—answer. Imagine that you are creating a fabric of human destiny with the object of making men happy in the end, giving them peace and rest at last, but that it was essential and inevitable to torture to death only one tiny creature—that baby beating its breast with its fist, for instance—and to found that edifice on its unavenged tears, would you consent to be the architect on those conditions? Tell me, and tell the truth. |
| – Нет, не согласился бы, – тихо проговорил Алеша. | “No, I wouldn’t consent,” said Alyosha softly. |
| – И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастие на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми? | “And can you admit the idea that men for whom you are building it would agree to accept their happiness on the foundation of the unexpiated blood of a little victim? And accepting it would remain happy for ever?” |
| – Нет, не могу допустить. Брат, – проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, – ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но Существо это есть, и оно может все простить, всех и вся и за все, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за все. Ты забыл о нем, а на нем-то и зиждется здание, и это ему воскликнут: “Прав ты, господи, ибо открылись пути твои”. | “No, I can’t admit it. Brother,” said Alyosha suddenly, with flashing eyes, “you said just now, is there a being in the whole world who would have the right to forgive and could forgive? But there is a Being and He can forgive everything, all and for all, because He gave His innocent blood for all and everything. You have forgotten Him, and on Him is built the edifice, and it is to Him they cry aloud, ‘Thou art just, O Lord, for Thy ways are revealed!’ ” |
| – А, это “единый безгрешный” и его кровь! Нет, не забыл о нем и удивлялся напротив все время, как ты его долго не выводишь, ибо обыкновенно, в спорах все ваши его выставляют прежде всего. Знаешь, Алеша, ты не смейся, я когда-то сочинил поэму, с год назад. Если можешь потерять со мной. еще минут десять, то я б ее тебе рассказал? | “Ah! the One without sin and His blood! No, I have not forgotten Him; on the contrary I’ve been wondering all the time how it was you did not bring Him in before, for usually all arguments on your side put Him in the foreground. Do you know, Alyosha—don’t laugh! I made a poem about a year ago. If you can waste another ten minutes on me, I’ll tell it to you.” |
| – Ты написал поэму? | “You wrote a poem?” |
| – О нет, не написал, – засмеялся Иван, – и никогда в жизни я не сочинил даже двух стихов. Но я поэму эту выдумал и запомнил. С жаром выдумал. Ты будешь первый мой читатель, то-есть слушатель. Зачем в самом деле автору терять хоть единого слушателя, – усмехнулся Иван. – Рассказывать или нет? | “Oh, no, I didn’t write it,” laughed Ivan, “and I’ve never written two lines of poetry in my life. But I made up this poem in prose and I remembered it. I was carried away when I made it up. You will be my first reader—that is listener. Why should an author forego even one listener?” smiled Ivan. “Shall I tell it to you?” |
| – Я очень слушаю, – произнес Алеша. | “I am all attention,” said Alyosha. |
| – Поэма моя называется “Великий Инквизитор”, вещь нелепая, но мне хочется ее тебе сообщить. | “My poem is called ‘The Grand Inquisitor’; it’s a ridiculous thing, but I want to tell it to you.” |
| V. ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР. | Chapter V. The Grand Inquisitor |
| Ведь вот и тут без предисловия невозможно, – то-есть без литературного предисловия, тфу! – засмеялся Иван, – а какой уж я сочинитель! Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии, а тогда, – тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, – тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данта не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления. в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых. Христа и самого бога. Тогда все это было очень простодушно. В Notre Dame de Paris у Виктора Гюго в честь рождения французского дофина, в Париже, при Лудовике XI, в зале ратуши дается назидательное и даровое представление народу под названием: Le bon jugement de la tres sainte et gracieuse Vierge Marie, где и является она сама лично и произносит свой bon jugement. У нас в Москве, в до-Петровскую старину, такие же почти драматические представления, из Ветхого Завета особенно, тоже совершались по временам; но кроме драматических представлений по всему миру ходило тогда много повестей и “стихов”, в которых действовали по надобности святые ангелы, и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм, да еще когда – в татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно с греческого): Хождение Богородицы по мукам, с картинами и со смелостью не ниже Дантовских. Богоматерь посещает ад, и руководит ее “по мукам” архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть между прочим один презанимательный разряд грешников в горящем озере: которые из них погружаются в это озеро так что уж и выплыть более не могут, то “тех уже забывает бог” – выражение чрезвычайной глубины и силы. И вот, пораженная и плачущая богоматерь падает пред престолом божиим и просит всем во аде помилования, всем, которых она видела там, без различия. Разговор ее с богом колоссально интересен. Она умоляет, она не отходит, и когда бог указывает ей на прогвожденные руки и ноги ее сына и спрашивает: как я прощу его мучителей, – то она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с нею и молить о помиловании всех без разбора. Кончается тем, что она вымаливает у бога остановку мук на всякий год, от великой пятницы до Троицына дня, а грешники из ада тут же благодарят господа и вопиют к нему: “Прав ты, господи, что так судил”. Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является он; правда, он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло тому, как он дал обетование придти во царствии своем, пятнадцать веков, как пророк его написал: “Се гряду скоро”. “О дне же сем и часе не знает даже и сын. токмо лишь отец мой небесный”, как изрек он и сам еще на земле. Но человечество ждет его с прежнею верой и с прежним умилением. О, с большею даже верой, ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залоги с небес человеку: | “Even this must have a preface—that is, a literary preface,” laughed Ivan, “and I am a poor hand at making one. You see, my action takes place in the sixteenth century, and at that time, as you probably learnt at school, it was customary in poetry to bring down heavenly powers on earth. Not to speak of Dante, in France, clerks, as well as the monks in the monasteries, used to give regular performances in which the Madonna, the saints, the angels, Christ, and God himself were brought on the stage. In those days it was done in all simplicity. In Victor Hugo’s Notre Dame de Paris an edifying and gratuitous spectacle was provided for the people in the Hôtel de Ville of Paris in the reign of Louis XI. in honor of the birth of the dauphin. It was called Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie, and she appears herself on the stage and pronounces her bon jugement. Similar plays, chiefly from the Old Testament, were occasionally performed in Moscow too, up to the times of Peter the Great. But besides plays there were all sorts of legends and ballads scattered about the world, in which the saints and angels and all the powers of Heaven took part when required. In our monasteries the monks busied themselves in translating, copying, and even composing such poems—and even under the Tatars. There is, for instance, one such poem (of course, from the Greek), The Wanderings of Our Lady through Hell, with descriptions as bold as Dante’s. Our Lady visits hell, and the Archangel Michael leads her through the torments. She sees the sinners and their punishment. There she sees among others one noteworthy set of sinners in a burning lake; some of them sink to the bottom of the lake so that they can’t swim out, and ‘these God forgets’—an expression of extraordinary depth and force. And so Our Lady, shocked and weeping, falls before the throne of God and begs for mercy for all in hell—for all she has seen there, indiscriminately. Her conversation with God is immensely interesting. She beseeches Him, she will not desist, and when God points to the hands and feet of her Son, nailed to the Cross, and asks, ‘How can I forgive His tormentors?’ she bids all the saints, all the martyrs, all the angels and archangels to fall down with her and pray for mercy on all without distinction. It ends by her winning from God a respite of suffering every year from Good Friday till Trinity Day, and the sinners at once raise a cry of thankfulness from hell, chanting, ‘Thou art just, O Lord, in this judgment.’ Well, my poem would have been of that kind if it had appeared at that time. He comes on the scene in my poem, but He says nothing, only appears and passes on. Fifteen centuries have passed since He promised to come in His glory, fifteen centuries since His prophet wrote, ‘Behold, I come quickly’; ‘Of that day and that hour knoweth no man, neither the Son, but the Father,’ as He Himself predicted on earth. But humanity awaits him with the same faith and with the same love. Oh, with greater faith, for it is fifteen centuries since man has ceased to see signs from heaven. No signs from heaven come to‐day |
| Верь тому, что сердце скажет, | To add to what the heart doth say. |
| Нет залогов от небес. И только лишь одна вера в сказанное сердцем! Правда, было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления; к иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила сама царица небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огромная звезда, “подобная светильнику” (то-есть церкви) “пала на источники вод, и стали они горьки”. Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к нему попрежнему, ждут его, любят его, надеются на него, жаждут пострадать и умереть за него, как и прежде… И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: “Бо господи явися нам”, столько веков взывало к нему, что он, в неизмеримом сострадании своем, возжелал снизойти к молящим. Снисходил. посещал он и до этого иных праведников, мучеников и святых отшельников еще на земле, как и записано в их “житиях”. У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что | There was nothing left but faith in what the heart doth say. It is true there were many miracles in those days. There were saints who performed miraculous cures; some holy people, according to their biographies, were visited by the Queen of Heaven herself. But the devil did not slumber, and doubts were already arising among men of the truth of these miracles. And just then there appeared in the north of Germany a terrible new heresy. “A huge star like to a torch” (that is, to a church) “fell on the sources of the waters and they became bitter.” These heretics began blasphemously denying miracles. But those who remained faithful were all the more ardent in their faith. The tears of humanity rose up to Him as before, awaited His coming, loved Him, hoped for Him, yearned to suffer and die for Him as before. And so many ages mankind had prayed with faith and fervor, “O Lord our God, hasten Thy coming,” so many ages called upon Him, that in His infinite mercy He deigned to come down to His servants. Before that day He had come down, He had visited some holy men, martyrs and hermits, as is written in their lives. Among us, Tyutchev, with absolute faith in the truth of his words, bore witness that |
| Bearing the Cross, in slavish dress, | |
| Удрученный ношей крестной | Weary and worn, the Heavenly King |
| Всю тебя, земля родная, | Our mother, Russia, came to bless, |
| В рабском виде царь небесный | |
| Исходил благословляя. | And through our land went wandering. |
| Что непременно и было так, это я тебе скажу. И вот он возжелал появиться хоть на мгновенье к народу, – к мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но младенчески любящему его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу божию в стране ежедневно горели костры и | And that certainly was so, I assure you. “And behold, He deigned to appear for a moment to the people, to the tortured, suffering people, sunk in iniquity, but loving Him like children. My story is laid in Spain, in Seville, in the most terrible time of the Inquisition, when fires were lighted every day to the glory of God, |
| В великолепных автодафе | and ‘in the splendid auto da fé |
| Сжигали злых еретиков. | the wicked heretics were burnt.’ |
| О, это конечно было не то сошествие, в котором явится он, по обещанию своему, в конце времен во всей славе небесной и которое будет внезапно, “как молния, блистающая от востока до запада”. Нет, он возжелал хоть на мгновенье посетить детей своих и именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию своему, он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков назад. Он снисходит на “стогны жаркие” южного города, как раз в котором всего лишь накануне в “великолепном автодафе”, в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, была сожжена кардиналом великим инквизитором разом чуть не целая сотня еретиков ad majorem gloriam Dei. Он появился тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, – то-есть почему именно узнают его. Народ непобедимою силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихою улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: “Господи, исцели меня, да и я тебя узрю”, и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет он. Дети бросают пред ним цветы, поют и вопиют ему: “Осанна!” “Это он, это сам он, повторяют все, это должен быть он, это никто как он”. Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. “Он воскресит твое дитя”, кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его: ,,Если это ты, то воскреси дитя мое!” восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам его. Он глядит с состраданьем, и уста его тихо и еще раз произносят: “Талифа куми” – “и восста девица”. Девочка подымается в гробе, садится и смотрит улыбаясь удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала во гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится как огненная искорка блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов Римской веры, – нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и “священная” стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел, он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально вся как один человек склоняется головами до земли пред старцем-инквизитором, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и “бездыханная” севильская ночь. Воздух “лавром и лимоном пахнет”. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему: | Oh, of course, this was not the coming in which He will appear according to His promise at the end of time in all His heavenly glory, and which will be sudden ‘as lightning flashing from east to west.’ No, He visited His children only for a moment, and there where the flames were crackling round the heretics. In His infinite mercy He came once more among men in that human shape in which He walked among men for three years fifteen centuries ago. He came down to the ‘hot pavements’ of the southern town in which on the day before almost a hundred heretics had, ad majorem gloriam Dei, been burnt by the cardinal, the Grand Inquisitor, in a magnificent auto da fé, in the presence of the king, the court, the knights, the cardinals, the most charming ladies of the court, and the whole population of Seville. “He came softly, unobserved, and yet, strange to say, every one recognized Him. That might be one of the best passages in the poem. I mean, why they recognized Him. The people are irresistibly drawn to Him, they surround Him, they flock about Him, follow Him. He moves silently in their midst with a gentle smile of infinite compassion. The sun of love burns in His heart, light and power shine from His eyes, and their radiance, shed on the people, stirs their hearts with responsive love. He holds out His hands to them, blesses them, and a healing virtue comes from contact with Him, even with His garments. An old man in the crowd, blind from childhood, cries out, ‘O Lord, heal me and I shall see Thee!’ and, as it were, scales fall from his eyes and the blind man sees Him. The crowd weeps and kisses the earth under His feet. Children throw flowers before Him, sing, and cry hosannah. ‘It is He—it is He!’ all repeat. ‘It must be He, it can be no one but Him!’ He stops at the steps of the Seville cathedral at the moment when the weeping mourners are bringing in a little open white coffin. In it lies a child of seven, the only daughter of a prominent citizen. The dead child lies hidden in flowers. ‘He will raise your child,’ the crowd shouts to the weeping mother. The priest, coming to meet the coffin, looks perplexed, and frowns, but the mother of the dead child throws herself at His feet with a wail. ‘If it is Thou, raise my child!’ she cries, holding out her hands to Him. The procession halts, the coffin is laid on the steps at His feet. He looks with compassion, and His lips once more softly pronounce, ‘Maiden, arise!’ and the maiden arises. The little girl sits up in the coffin and looks round, smiling with wide‐ open wondering eyes, holding a bunch of white roses they had put in her hand. “There are cries, sobs, confusion among the people, and at that moment the cardinal himself, the Grand Inquisitor, passes by the cathedral. He is an old man, almost ninety, tall and erect, with a withered face and sunken eyes, in which there is still a gleam of light. He is not dressed in his gorgeous cardinal’s robes, as he was the day before, when he was burning the enemies of the Roman Church—at this moment he is wearing his coarse, old, monk’s cassock. At a distance behind him come his gloomy assistants and slaves and the ‘holy guard.’ He stops at the sight of the crowd and watches it from a distance. He sees everything; he sees them set the coffin down at His feet, sees the child rise up, and his face darkens. He knits his thick gray brows and his eyes gleam with a sinister fire. He holds out his finger and bids the guards take Him. And such is his power, so completely are the people cowed into submission and trembling obedience to him, that the crowd immediately makes way for the guards, and in the midst of deathlike silence they lay hands on Him and lead Him away. The crowd instantly bows down to the earth, like one man, before the old Inquisitor. He blesses the people in silence and passes on. The guards lead their prisoner to the close, gloomy vaulted prison in the ancient palace of the Holy Inquisition and shut Him in it. The day passes and is followed by the dark, burning, ‘breathless’ night of Seville. The air is ‘fragrant with laurel and lemon.’ In the pitch darkness the iron door of the prison is suddenly opened and the Grand Inquisitor himself comes in with a light in his hand. He is alone; the door is closed at once behind him. He stands in the doorway and for a minute or two gazes into His face. At last he goes up slowly, sets the light on the table and speaks. |
| – Это ты? ты? – Но не получая ответа быстро прибавляет: – Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же, по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь ты это? Да, ты может быть это знаешь, – прибавил он в проникновенном раздумьи, ни на мгновение не отрывался взглядом от своего пленника. | “ ‘Is it Thou? Thou?’ but receiving no answer, he adds at once, ‘Don’t answer, be silent. What canst Thou say, indeed? I know too well what Thou wouldst say. And Thou hast no right to add anything to what Thou hadst said of old. Why, then, art Thou come to hinder us? For Thou hast come to hinder us, and Thou knowest that. But dost Thou know what will be to‐ morrow? I know not who Thou art and care not to know whether it is Thou or only a semblance of Him, but to‐morrow I shall condemn Thee and burn Thee at the stake as the worst of heretics. And the very people who have to‐day kissed Thy feet, to‐morrow at the faintest sign from me will rush to heap up the embers of Thy fire. Knowest Thou that? Yes, maybe Thou knowest it,’ he added with thoughtful penetration, never for a moment taking his eyes off the Prisoner.” |
| – Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? – улыбнулся все время молча слушавший Алеша, – прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика, какое-нибудь невозможное qui pro quo? | “I don’t quite understand, Ivan. What does it mean?” Alyosha, who had been listening in silence, said with a smile. “Is it simply a wild fantasy, or a mistake on the part of the old man—some impossible quiproquo?” |
| – Прими хоть последнее, – рассмеялся Иван, – если уж тебя так разбаловал современный реализм, и ты не можешь вынести ничего фантастического – хочешь qui pro quo, то пусть так и будет. Оно правда, – рассмеялся он опять, – старику девяносто лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее, Пленник же мог поразить его своею наружностью. Это мог быть наконец просто бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во сто сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что qui pro quo, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что наконец за все девяносто лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все девяносто лет молчал. | “Take it as the last,” said Ivan, laughing, “if you are so corrupted by modern realism and can’t stand anything fantastic. If you like it to be a case of mistaken identity, let it be so. It is true,” he went on, laughing, “the old man was ninety, and he might well be crazy over his set idea. He might have been struck by the appearance of the Prisoner. It might, in fact, be simply his ravings, the delusion of an old man of ninety, over‐excited by the auto da fé of a hundred heretics the day before. But does it matter to us after all whether it was a mistake of identity or a wild fantasy? All that matters is that the old man should speak out, should speak openly of what he has thought in silence for ninety years.” |
| – А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова? | “And the Prisoner too is silent? Does He look at him and not say a word?” |
| – Да так и должно быть во всех даже случаях, – опять засмеялся Иван. – Сам старик замечает ему, что он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению по крайней мере: “все дескать передано тобою папе и все стало быть теперь у папы, а ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени по крайней мере”. В этом смысле они не только говорят, но и пишут, иезуиты по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. “Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел?” – спрашивает его мой старик и сам отвечает ему за него, – “нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле. Все, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил: “Хочу сделать вас свободными”. Но вот ты теперь увидел этих “свободных” людей, – прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой. – “Да, это дело нам дорого стоило” – продолжал он строго смотря на него, – “но мы докончили наконец это дело, во имя твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостоиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль ты желал, такой ли свободы?” | “That’s inevitable in any case,” Ivan laughed again. “The old man has told Him He hasn’t the right to add anything to what He has said of old. One may say it is the most fundamental feature of Roman Catholicism, in my opinion at least. ‘All has been given by Thee to the Pope,’ they say, ‘and all, therefore, is still in the Pope’s hands, and there is no need for Thee to come now at all. Thou must not meddle for the time, at least.’ That’s how they speak and write too—the Jesuits, at any rate. I have read it myself in the works of their theologians. ‘Hast Thou the right to reveal to us one of the mysteries of that world from which Thou hast come?’ my old man asks Him, and answers the question for Him. ‘No, Thou hast not; that Thou mayest not add to what has been said of old, and mayest not take from men the freedom which Thou didst exalt when Thou wast on earth. Whatsoever Thou revealest anew will encroach on men’s freedom of faith; for it will be manifest as a miracle, and the freedom of their faith was dearer to Thee than anything in those days fifteen hundred years ago. Didst Thou not often say then, “I will make you free”? But now Thou hast seen these “free” men,’ the old man adds suddenly, with a pensive smile. ‘Yes, we’ve paid dearly for it,’ he goes on, looking sternly at Him, ‘but at last we have completed that work in Thy name. For fifteen centuries we have been wrestling with Thy freedom, but now it is ended and over for good. Dost Thou not believe that it’s over for good? Thou lookest meekly at me and deignest not even to be wroth with me. But let me tell Thee that now, to‐day, people are more persuaded than ever that they have perfect freedom, yet they have brought their freedom to us and laid it humbly at our feet. But that has been our doing. Was this what Thou didst? Was this Thy freedom?’ ” |
| – Я опять не понимаю, – прервал Алеша, – он иронизирует, смеется? | “I don’t understand again,” Alyosha broke in. “Is he ironical, is he jesting?” |
| – Ни мало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу, и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. “Ибо теперь только (то-есть он конечно говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастии людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали”, – говорит он ему, – “ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но к счастью уходя ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать, и уж конечно не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать?” | “Not a bit of it! He claims it as a merit for himself and his Church that at last they have vanquished freedom and have done so to make men happy. ‘For now’ (he is speaking of the Inquisition, of course) ‘for the first time it has become possible to think of the happiness of men. Man was created a rebel; and how can rebels be happy? Thou wast warned,’ he says to Him. ‘Thou hast had no lack of admonitions and warnings, but Thou didst not listen to those warnings; Thou didst reject the only way by which men might be made happy. But, fortunately, departing Thou didst hand on the work to us. Thou hast promised, Thou hast established by Thy word, Thou hast given to us the right to bind and to unbind, and now, of course, Thou canst not think of taking it away. Why, then, hast Thou come to hinder us?’ ” |
| – А что значит: не имел недостатка в предупреждении и указании? – спросил Алеша. | “And what’s the meaning of ‘no lack of admonitions and warnings’?” asked Alyosha. |
| – А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать. | “Why, that’s the chief part of what the old man must say. |
| – “Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, – продолжает старик, – великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы “искушал” тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо “искушениями”? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершено настоящее, громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтоб внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных – правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов, и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, – то думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо, но теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более. | “ ‘The wise and dread spirit, the spirit of self‐destruction and non‐ existence,’ the old man goes on, ‘the great spirit talked with Thee in the wilderness, and we are told in the books that he “tempted” Thee. Is that so? And could anything truer be said than what he revealed to Thee in three questions and what Thou didst reject, and what in the books is called “the temptation”? And yet if there has ever been on earth a real stupendous miracle, it took place on that day, on the day of the three temptations. The statement of those three questions was itself the miracle. If it were possible to imagine simply for the sake of argument that those three questions of the dread spirit had perished utterly from the books, and that we had to restore them and to invent them anew, and to do so had gathered together all the wise men of the earth—rulers, chief priests, learned men, philosophers, poets—and had set them the task to invent three questions, such as would not only fit the occasion, but express in three words, three human phrases, the whole future history of the world and of humanity—dost Thou believe that all the wisdom of the earth united could have invented anything in depth and force equal to the three questions which were actually put to Thee then by the wise and mighty spirit in the wilderness? From those questions alone, from the miracle of their statement, we can see that we have here to do not with the fleeting human intelligence, but with the absolute and eternal. For in those three questions the whole subsequent history of mankind is, as it were, brought together into one whole, and foretold, and in them are united all the unsolved historical contradictions of human nature. At the time it could not be so clear, since the future was unknown; but now that fifteen hundred years have passed, we see that everything in those three questions was so justly divined and foretold, and has been so truly fulfilled, that nothing can be added to them or taken from them. |
| Реши же сам, кто был прав: ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его тот: “Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, – ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои”. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли и сразится с тобою и победит тебя и все пойдут за ним, восклицая: “Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!” Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть нет и греха, а есть лишь только голодные. “Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!” вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, – ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своею башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: “Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали”. И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя твое, и солжем, что во имя твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя. Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажу нам: “лучше поработите нас, но накормите нас”. Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным? И если за тобою, во имя хлеба небесного, пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные как песок морской слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать, – так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять, ибо тебя мы уж не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв “хлебы”, ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе – это: “пред кем преклониться?” Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и взывали друг к другу: “бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим! И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут пред идолами. Ты знал, ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, – знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал ты далее. И все опять во имя свободы! Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя, – о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы. Это так, но что же вышло: вместо того, чтоб овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше! Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда – ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, – и это кто же: тот, который пришел отдать за них жизнь свою! Вместо того, чтоб овладеть людскою свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона, – свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою, – но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам ты и положил основание к разрушению своего же царства и не вини никого в этом более. А между тем, то ли предлагалось тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастия, – эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то и другое и третье и сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе: “Если хочешь узнать, сын ли ты божий, то верзись вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет и не расшибется и узнаешь тогда, сын ли ты божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в отца твоего”, но ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросился вниз. О, конечно ты поступил тут гордо и великолепно как бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это – они-то боги ли? О, ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз, ты тотчас бы и искусил господа, и веру в него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но, повторяю, много ли таких, как ты? И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтоб отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца? О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя тебе, и человек останется с богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и бога, ибо человек ищет не столько бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: “Сойди со креста и уверуем, что это ты”. Ты не сошел потому, что, опять-таки, не захотел поработить человека чудом, и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо конечно они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал, – и это кто же, тот, который возлюбил его более самого себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтовщиками без сомнения хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства, и в конце концов сама же себе всегда и отметит за него. Итак, неспокойство, смятение и несчастие – вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их! Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, – и уж конечно ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна и нам не понять ее. А если тайна, то и мы в праве были проповедывать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовию облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его, хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь пришел нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно, я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: Мы не с тобой, а с ним, вот наша тайна! Мы давно уже не с тобою, а с ним, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные; мы взяли от него Рим и меч Кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастии людей. А между тем ты бы мог еще и тогда взять меч Кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то-есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингис-ханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру Кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их. Мы и взяли меч Кесаря, а взяв его конечно отвергли тебя и пошли за ним. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь и будет лизать ноги наши и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу и на ней будет написано: “Тайна!” Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастия. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли еще: сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали наконец ожидая тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на тебя же и воздвигнут свободное знамя свое. Но ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными. когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: “Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих”. Получая от нас хлебы конечно они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастие слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе как птенцы к наседке. Они будут дивиться, и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи пред богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, – все судя по их послушанию, – и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести, – все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостию, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастия будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то, уж конечно не для таких как они. Говорят и пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих тайну, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее “гадкое” тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред тобой и скажем: “Суди нас, если можешь и смеешь”. Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников твоих, в число могучих и сильных с жаждой “восполнить число”. Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Dixi”. | “ ‘Judge Thyself who was right—Thou or he who questioned Thee then? Remember the first question; its meaning, in other words, was this: “Thou wouldst go into the world, and art going with empty hands, with some promise of freedom which men in their simplicity and their natural unruliness cannot even understand, which they fear and dread—for nothing has ever been more insupportable for a man and a human society than freedom. But seest Thou these stones in this parched and barren wilderness? Turn them into bread, and mankind will run after Thee like a flock of sheep, grateful and obedient, though for ever trembling, lest Thou withdraw Thy hand and deny them Thy bread.” But Thou wouldst not deprive man of freedom and didst reject the offer, thinking, what is that freedom worth, if obedience is bought with bread? Thou didst reply that man lives not by bread alone. But dost Thou know that for the sake of that earthly bread the spirit of the earth will rise up against Thee and will strive with Thee and overcome Thee, and all will follow him, crying, “Who can compare with this beast? He has given us fire from heaven!” Dost Thou know that the ages will pass, and humanity will proclaim by the lips of their sages that there is no crime, and therefore no sin; there is only hunger? “Feed men, and then ask of them virtue!” that’s what they’ll write on the banner, which they will raise against Thee, and with which they will destroy Thy temple. Where Thy temple stood will rise a new building; the terrible tower of Babel will be built again, and though, like the one of old, it will not be finished, yet Thou mightest have prevented that new tower and have cut short the sufferings of men for a thousand years; for they will come back to us after a thousand years of agony with their tower. They will seek us again, hidden underground in the catacombs, for we shall be again persecuted and tortured. They will find us and cry to us, “Feed us, for those who have promised us fire from heaven haven’t given it!” And then we shall finish building their tower, for he finishes the building who feeds them. And we alone shall feed them in Thy name, declaring falsely that it is in Thy name. Oh, never, never can they feed themselves without us! No science will give them bread so long as they remain free. In the end they will lay their freedom at our feet, and say to us, “Make us your slaves, but feed us.” They will understand themselves, at last, that freedom and bread enough for all are inconceivable together, for never, never will they be able to share between them! They will be convinced, too, that they can never be free, for they are weak, vicious, worthless and rebellious. Thou didst promise them the bread of Heaven, but, I repeat again, can it compare with earthly bread in the eyes of the weak, ever sinful and ignoble race of man? And if for the sake of the bread of Heaven thousands shall follow Thee, what is to become of the millions and tens of thousands of millions of creatures who will not have the strength to forego the earthly bread for the sake of the heavenly? Or dost Thou care only for the tens of thousands of the great and strong, while the millions, numerous as the sands of the sea, who are weak but love Thee, must exist only for the sake of the great and strong? No, we care for the weak too. They are sinful and rebellious, but in the end they too will become obedient. They will marvel at us and look on us as gods, because we are ready to endure the freedom which they have found so dreadful and to rule over them—so awful it will seem to them to be free. But we shall tell them that we are Thy servants and rule them in Thy name. We shall deceive them again, for we will not let Thee come to us again. That deception will be our suffering, for we shall be forced to lie. “ ‘This is the significance of the first question in the wilderness, and this is what Thou hast rejected for the sake of that freedom which Thou hast exalted above everything. Yet in this question lies hid the great secret of this world. Choosing “bread,” Thou wouldst have satisfied the universal and everlasting craving of humanity—to find some one to worship. So long as man remains free he strives for nothing so incessantly and so painfully as to find some one to worship. But man seeks to worship what is established beyond dispute, so that all men would agree at once to worship it. For these pitiful creatures are concerned not only to find what one or the other can worship, but to find something that all would believe in and worship; what is essential is that all may be together in it. This craving for community of worship is the chief misery of every man individually and of all humanity from the beginning of time. For the sake of common worship they’ve slain each other with the sword. They have set up gods and challenged one another, “Put away your gods and come and worship ours, or we will kill you and your gods!” And so it will be to the end of the world, even when gods disappear from the earth; they will fall down before idols just the same. Thou didst know, Thou couldst not but have known, this fundamental secret of human nature, but Thou didst reject the one infallible banner which was offered Thee to make all men bow down to Thee alone—the banner of earthly bread; and Thou hast rejected it for the sake of freedom and the bread of Heaven. Behold what Thou didst further. And all again in the name of freedom! I tell Thee that man is tormented by no greater anxiety than to find some one quickly to whom he can hand over that gift of freedom with which the ill‐fated creature is born. But only one who can appease their conscience can take over their freedom. In bread there was offered Thee an invincible banner; give bread, and man will worship thee, for nothing is more certain than bread. But if some one else gains possession of his conscience—oh! then he will cast away Thy bread and follow after him who has ensnared his conscience. In that Thou wast right. For the secret of man’s being is not only to live but to have something to live for. Without a stable conception of the object of life, man would not consent to go on living, and would rather destroy himself than remain on earth, though he had bread in abundance. That is true. But what happened? Instead of taking men’s freedom from them, Thou didst make it greater than ever! Didst Thou forget that man prefers peace, and even death, to freedom of choice in the knowledge of good and evil? Nothing is more seductive for man than his freedom of conscience, but nothing is a greater cause of suffering. And behold, instead of giving a firm foundation for setting the conscience of man at rest for ever, Thou didst choose all that is exceptional, vague and enigmatic; Thou didst choose what was utterly beyond the strength of men, acting as though Thou didst not love them at all—Thou who didst come to give Thy life for them! Instead of taking possession of men’s freedom, Thou didst increase it, and burdened the spiritual kingdom of mankind with its sufferings for ever. Thou didst desire man’s free love, that he should follow Thee freely, enticed and taken captive by Thee. In place of the rigid ancient law, man must hereafter with free heart decide for himself what is good and what is evil, having only Thy image before him as his guide. But didst Thou not know that he would at last reject even Thy image and Thy truth, if he is weighed down with the fearful burden of free choice? They will cry aloud at last that the truth is not in Thee, for they could not have been left in greater confusion and suffering than Thou hast caused, laying upon them so many cares and unanswerable problems. “ ‘So that, in truth, Thou didst Thyself lay the foundation for the destruction of Thy kingdom, and no one is more to blame for it. Yet what was offered Thee? There are three powers, three powers alone, able to conquer and to hold captive for ever the conscience of these impotent rebels for their happiness—those forces are miracle, mystery and authority. Thou hast rejected all three and hast set the example for doing so. When the wise and dread spirit set Thee on the pinnacle of the temple and said to Thee, “If Thou wouldst know whether Thou art the Son of God then cast Thyself down, for it is written: the angels shall hold him up lest he fall and bruise himself, and Thou shalt know then whether Thou art the Son of God and shalt prove then how great is Thy faith in Thy Father.” But Thou didst refuse and wouldst not cast Thyself down. Oh, of course, Thou didst proudly and well, like God; but the weak, unruly race of men, are they gods? Oh, Thou didst know then that in taking one step, in making one movement to cast Thyself down, Thou wouldst be tempting God and have lost all Thy faith in Him, and wouldst have been dashed to pieces against that earth which Thou didst come to save. And the wise spirit that tempted Thee would have rejoiced. But I ask again, are there many like Thee? And couldst Thou believe for one moment that men, too, could face such a temptation? Is the nature of men such, that they can reject miracle, and at the great moments of their life, the moments of their deepest, most agonizing spiritual difficulties, cling only to the free verdict of the heart? Oh, Thou didst know that Thy deed would be recorded in books, would be handed down to remote times and the utmost ends of the earth, and Thou didst hope that man, following Thee, would cling to God and not ask for a miracle. But Thou didst not know that when man rejects miracle he rejects God too; for man seeks not so much God as the miraculous. And as man cannot bear to be without the miraculous, he will create new miracles of his own for himself, and will worship deeds of sorcery and witchcraft, though he might be a hundred times over a rebel, heretic and infidel. Thou didst not come down from the Cross when they shouted to Thee, mocking and reviling Thee, “Come down from the cross and we will believe that Thou art He.” Thou didst not come down, for again Thou wouldst not enslave man by a miracle, and didst crave faith given freely, not based on miracle. Thou didst crave for free love and not the base raptures of the slave before the might that has overawed him for ever. But Thou didst think too highly of men therein, for they are slaves, of course, though rebellious by nature. Look round and judge; fifteen centuries have passed, look upon them. Whom hast Thou raised up to Thyself? I swear, man is weaker and baser by nature than Thou hast believed him! Can he, can he do what Thou didst? By showing him so much respect, Thou didst, as it were, cease to feel for him, for Thou didst ask far too much from him—Thou who hast loved him more than Thyself! Respecting him less, Thou wouldst have asked less of him. That would have been more like love, for his burden would have been lighter. He is weak and vile. What though he is everywhere now rebelling against our power, and proud of his rebellion? It is the pride of a child and a schoolboy. They are little children rioting and barring out the teacher at school. But their childish delight will end; it will cost them dear. They will cast down temples and drench the earth with blood. But they will see at last, the foolish children, that, though they are rebels, they are impotent rebels, unable to keep up their own rebellion. Bathed in their foolish tears, they will recognize at last that He who created them rebels must have meant to mock at them. They will say this in despair, and their utterance will be a blasphemy which will make them more unhappy still, for man’s nature cannot bear blasphemy, and in the end always avenges it on itself. And so unrest, confusion and unhappiness—that is the present lot of man after Thou didst bear so much for their freedom! The great prophet tells in vision and in image, that he saw all those who took part in the first resurrection and that there were of each tribe twelve thousand. But if there were so many of them, they must have been not men but gods. They had borne Thy cross, they had endured scores of years in the barren, hungry wilderness, living upon locusts and roots—and Thou mayest indeed point with pride at those children of freedom, of free love, of free and splendid sacrifice for Thy name. But remember that they were only some thousands; and what of the rest? And how are the other weak ones to blame, because they could not endure what the strong have endured? How is the weak soul to blame that it is unable to receive such terrible gifts? Canst Thou have simply come to the elect and for the elect? But if so, it is a mystery and we cannot understand it. And if it is a mystery, we too have a right to preach a mystery, and to teach them that it’s not the free judgment of their hearts, not love that matters, but a mystery which they must follow blindly, even against their conscience. So we have done. We have corrected Thy work and have founded it upon miracle, mystery and authority. And men rejoiced that they were again led like sheep, and that the terrible gift that had brought them such suffering was, at last, lifted from their hearts. Were we right teaching them this? Speak! Did we not love mankind, so meekly acknowledging their feebleness, lovingly lightening their burden, and permitting their weak nature even sin with our sanction? Why hast Thou come now to hinder us? And why dost Thou look silently and searchingly at me with Thy mild eyes? Be angry. I don’t want Thy love, for I love Thee not. And what use is it for me to hide anything from Thee? Don’t I know to Whom I am speaking? All that I can say is known to Thee already. And is it for me to conceal from Thee our mystery? Perhaps it is Thy will to hear it from my lips. Listen, then. We are not working with Thee, but with him—that is our mystery. It’s long—eight centuries—since we have been on his side and not on Thine. Just eight centuries ago, we took from him what Thou didst reject with scorn, that last gift he offered Thee, showing Thee all the kingdoms of the earth. We took from him Rome and the sword of Cæsar, and proclaimed ourselves sole rulers of the earth, though hitherto we have not been able to complete our work. But whose fault is that? Oh, the work is only beginning, but it has begun. It has long to await completion and the earth has yet much to suffer, but we shall triumph and shall be Cæsars, and then we shall plan the universal happiness of man. But Thou mightest have taken even then the sword of Cæsar. Why didst Thou reject that last gift? Hadst Thou accepted that last counsel of the mighty spirit, Thou wouldst have accomplished all that man seeks on earth—that is, some one to worship, some one to keep his conscience, and some means of uniting all in one unanimous and harmonious ant‐heap, for the craving for universal unity is the third and last anguish of men. Mankind as a whole has always striven to organize a universal state. There have been many great nations with great histories, but the more highly they were developed the more unhappy they were, for they felt more acutely than other people the craving for world‐wide union. The great conquerors, Timours and Ghenghis‐Khans, whirled like hurricanes over the face of the earth striving to subdue its people, and they too were but the unconscious expression of the same craving for universal unity. Hadst Thou taken the world and Cæsar’s purple, Thou wouldst have founded the universal state and have given universal peace. For who can rule men if not he who holds their conscience and their bread in his hands? We have taken the sword of Cæsar, and in taking it, of course, have rejected Thee and followed him. Oh, ages are yet to come of the confusion of free thought, of their science and cannibalism. For having begun to build their tower of Babel without us, they will end, of course, with cannibalism. But then the beast will crawl to us and lick our feet and spatter them with tears of blood. And we shall sit upon the beast and raise the cup, and on it will be written, “Mystery.” But then, and only then, the reign of peace and happiness will come for men. Thou art proud of Thine elect, but Thou hast only the elect, while we give rest to all. And besides, how many of those elect, those mighty ones who could become elect, have grown weary waiting for Thee, and have transferred and will transfer the powers of their spirit and the warmth of their heart to the other camp, and end by raising their free banner against Thee. Thou didst Thyself lift up that banner. But with us all will be happy and will no more rebel nor destroy one another as under Thy freedom. Oh, we shall persuade them that they will only become free when they renounce their freedom to us and submit to us. And shall we be right or shall we be lying? They will be convinced that we are right, for they will remember the horrors of slavery and confusion to which Thy freedom brought them. Freedom, free thought and science, will lead them into such straits and will bring them face to face with such marvels and insoluble mysteries, that some of them, the fierce and rebellious, will destroy themselves, others, rebellious but weak, will destroy one another, while the rest, weak and unhappy, will crawl fawning to our feet and whine to us: “Yes, you were right, you alone possess His mystery, and we come back to you, save us from ourselves!” “ ‘Receiving bread from us, they will see clearly that we take the bread made by their hands from them, to give it to them, without any miracle. They will see that we do not change the stones to bread, but in truth they will be more thankful for taking it from our hands than for the bread itself! For they will remember only too well that in old days, without our help, even the bread they made turned to stones in their hands, while since they have come back to us, the very stones have turned to bread in their hands. Too, too well will they know the value of complete submission! And until men know that, they will be unhappy. Who is most to blame for their not knowing it?—speak! Who scattered the flock and sent it astray on unknown paths? But the flock will come together again and will submit once more, and then it will be once for all. Then we shall give them the quiet humble happiness of weak creatures such as they are by nature. Oh, we shall persuade them at last not to be proud, for Thou didst lift them up and thereby taught them to be proud. We shall show them that they are weak, that they are only pitiful children, but that childlike happiness is the sweetest of all. They will become timid and will look to us and huddle close to us in fear, as chicks to the hen. They will marvel at us and will be awe‐stricken before us, and will be proud at our being so powerful and clever, that we have been able to subdue such a turbulent flock of thousands of millions. They will tremble impotently before our wrath, their minds will grow fearful, they will be quick to shed tears like women and children, but they will be just as ready at a sign from us to pass to laughter and rejoicing, to happy mirth and childish song. Yes, we shall set them to work, but in their leisure hours we shall make their life like a child’s game, with children’s songs and innocent dance. Oh, we shall allow them even sin, they are weak and helpless, and they will love us like children because we allow them to sin. We shall tell them that every sin will be expiated, if it is done with our permission, that we allow them to sin because we love them, and the punishment for these sins we take upon ourselves. And we shall take it upon ourselves, and they will adore us as their saviors who have taken on themselves their sins before God. And they will have no secrets from us. We shall allow or forbid them to live with their wives and mistresses, to have or not to have children—according to whether they have been obedient or disobedient—and they will submit to us gladly and cheerfully. The most painful secrets of their conscience, all, all they will bring to us, and we shall have an answer for all. And they will be glad to believe our answer, for it will save them from the great anxiety and terrible agony they endure at present in making a free decision for themselves. And all will be happy, all the millions of creatures except the hundred thousand who rule over them. For only we, we who guard the mystery, shall be unhappy. There will be thousands of millions of happy babes, and a hundred thousand sufferers who have taken upon themselves the curse of the knowledge of good and evil. Peacefully they will die, peacefully they will expire in Thy name, and beyond the grave they will find nothing but death. But we shall keep the secret, and for their happiness we shall allure them with the reward of heaven and eternity. Though if there were anything in the other world, it certainly would not be for such as they. It is prophesied that Thou wilt come again in victory, Thou wilt come with Thy chosen, the proud and strong, but we will say that they have only saved themselves, but we have saved all. We are told that the harlot who sits upon the beast, and holds in her hands the mystery, shall be put to shame, that the weak will rise up again, and will rend her royal purple and will strip naked her loathsome body. But then I will stand up and point out to Thee the thousand millions of happy children who have known no sin. And we who have taken their sins upon us for their happiness will stand up before Thee and say: “Judge us if Thou canst and darest.” Know that I fear Thee not. Know that I too have been in the wilderness, I too have lived on roots and locusts, I too prized the freedom with which Thou hast blessed men, and I too was striving to stand among Thy elect, among the strong and powerful, thirsting “to make up the number.” But I awakened and would not serve madness. I turned back and joined the ranks of those who have corrected Thy work. I left the proud and went back to the humble, for the happiness of the humble. What I say to Thee will come to pass, and our dominion will be built up. I repeat, to‐morrow Thou shalt see that obedient flock who at a sign from me will hasten to heap up the hot cinders about the pile on which I shall burn Thee for coming to hinder us. For if any one has ever deserved our fires, it is Thou. To‐morrow I shall burn Thee. Dixi.’ ” |
| Иван остановился. Он разгорячился говоря и говорил с увлечением; когда же кончил, то вдруг улыбнулся. | Ivan stopped. He was carried away as he talked, and spoke with excitement; when he had finished, he suddenly smiled. |
| Алеша, все слушавший его молча, под конец же, в чрезвычайном волнении, много раз пытавшийся перебить речь брата, но видимо себя сдерживавший, вдруг заговорил, точно сорвался с места. | Alyosha had listened in silence; towards the end he was greatly moved and seemed several times on the point of interrupting, but restrained himself. Now his words came with a rush. |
| – Но… это нелепость! – вскричал он краснея. – Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула… как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее понимать! То ли понятие в православии… Это Рим, да и Рим не весь, это неправда, – это худшие из католичества, инквизиторы, иезуиты!.. Да и совсем не может быть такого фантастического лица, как твой инквизитор. Какие это грехи людей, взятые на себя? Какие это носители тайны, взявшие на себя какое-то проклятие для счастия людей? Когда они виданы? Мы знаем иезуитов, про них говорят дурно, не то ли они, что у тебя? Совсем они не то, вовсе не то… Они просто римская армия для будущего всемирного земного царства, с императором – римским первосвященником во главе… вот их идеал, но безо всяких тайн и возвышенной грусти… Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения… в роде будущего крепостного права, с тем, что они станут помещиками… вот и все у них. Они и в бога не веруют может быть. Твой страдающий инквизитор одна фантазия… | “But … that’s absurd!” he cried, flushing. “Your poem is in praise of Jesus, not in blame of Him—as you meant it to be. And who will believe you about freedom? Is that the way to understand it? That’s not the idea of it in the Orthodox Church…. That’s Rome, and not even the whole of Rome, it’s false—those are the worst of the Catholics, the Inquisitors, the Jesuits!… And there could not be such a fantastic creature as your Inquisitor. What are these sins of mankind they take on themselves? Who are these keepers of the mystery who have taken some curse upon themselves for the happiness of mankind? When have they been seen? We know the Jesuits, they are spoken ill of, but surely they are not what you describe? They are not that at all, not at all…. They are simply the Romish army for the earthly sovereignty of the world in the future, with the Pontiff of Rome for Emperor … that’s their ideal, but there’s no sort of mystery or lofty melancholy about it…. It’s simple lust of power, of filthy earthly gain, of domination—something like a universal serfdom with them as masters—that’s all they stand for. They don’t even believe in God perhaps. Your suffering Inquisitor is a mere fantasy.” |
| – Да стой, стой, – смеялся Иван, – как ты разгорячился. Фантазия, говоришь ты, пусть! Конечно фантазия. Но позволь однако: неужели ты в самом деле думаешь, что все это католическое движение последних веков есть и в самом деле одно лишь желание власти для одних только грязных благ. Уж не отец ли Паисий так тебя учит? | “Stay, stay,” laughed Ivan, “how hot you are! A fantasy you say, let it be so! Of course it’s a fantasy. But allow me to say: do you really think that the Roman Catholic movement of the last centuries is actually nothing but the lust of power, of filthy earthly gain? Is that Father Païssy’s teaching?” |
| – Нет, нет, напротив отец Паисий говорил однажды что-то в роде даже твоего… но конечно не то, совсем не то, – спохватился вдруг Алеша. | “No, no, on the contrary, Father Païssy did once say something rather the same as you … but of course it’s not the same, not a bit the same,” Alyosha hastily corrected himself. |
| – Драгоценное однако же сведение, несмотря на твое: “совсем не то”. Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты и инквизиторы совокупились для одних только материальных скверных благ? Почему среди них не может случиться ни одного страдальца, мучимого великою скорбью и любящего человечество? Видишь: предположи, что нашелся хотя один из всех этих желающих одних только материальных и грязных благ – хоть один только такой, как мой старик инквизитор, который сам ел коренья в пустыне, и бесновался, побеждая плоть свою, чтобы сделать себя свободным и совершенным, но однако же всю жизнь свою любивший человечество и вдруг прозревший и увидавший, что невелико нравственное блаженство достигнуть совершенства воли с тем, чтобы в то же время убедиться, что миллионы остальных существ божиих остались устроенными лишь в насмешку, что никогда не в силах они будут справиться со своею свободой, что из жалких бунтовщиков никогда не выйдет великанов для завершения башни, что не для таких гусей великий идеалист мечтал о своей гармонии. Поняв все это, он воротился и примкнул… к умным людям. Неужели этого не могло случиться? | “A precious admission, in spite of your ‘not a bit the same.’ I ask you why your Jesuits and Inquisitors have united simply for vile material gain? Why can there not be among them one martyr oppressed by great sorrow and loving humanity? You see, only suppose that there was one such man among all those who desire nothing but filthy material gain—if there’s only one like my old Inquisitor, who had himself eaten roots in the desert and made frenzied efforts to subdue his flesh to make himself free and perfect. But yet all his life he loved humanity, and suddenly his eyes were opened, and he saw that it is no great moral blessedness to attain perfection and freedom, if at the same time one gains the conviction that millions of God’s creatures have been created as a mockery, that they will never be capable of using their freedom, that these poor rebels can never turn into giants to complete the tower, that it was not for such geese that the great idealist dreamt his dream of harmony. Seeing all that he turned back and joined—the clever people. Surely that could have happened?” |
| – К кому примкнул, к каким умным людям? – почти в азарте воскликнул Алеша. – Никакого у них нет такого ума, и никаких таких тайн и секретов… Одно только разве безбожие, вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в бога, вот и весь его секрет! | “Joined whom, what clever people?” cried Alyosha, completely carried away. “They have no such great cleverness and no mysteries and secrets…. Perhaps nothing but Atheism, that’s all their secret. Your Inquisitor does not believe in God, that’s his secret!” |
| – Хотя бы и так! Наконец-то ты догадался. И действительно так, действительно только в этом и весь секрет, но разве это не страдание, хотя бы для такого как он человека, который всю жизнь свою убил на подвиг в пустыне и не излечился от любви к человечеству? На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, “недоделанные пробные существа, созданные в насмешку”. И вот, убедясь в этом, он видит, что надо идти по указанию умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман, и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению и при том обманывать их всю дорогу, чтоб они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того, чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми. И заметь себе, обман во имя того, в идеал которого столь страстно веровал старик во всю свою жизнь! Разве это не несчастье? И если бы хоть один такой очутился во главе всей этой армии, “жаждущей власти для одних только грязных благ”, – то неужели же не довольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедия? Мало того: довольно и одного такого, стоящего во главе, чтобы нашлась наконец настоящая руководящая идея всего римского дела со всеми его армиями и иезуитами, высшая идея этого дела. Я тебе прямо говорю что я твердо верую, что этот единый человек и не оскудевал никогда между стоящими во главе движения. Кто знает, может быть случались и между римскими первосвященниками эти единые. Кто знает, может быть этот проклятый старик, столь упорно и столь по-своему любящий человечество, существует и теперь в виде целого сонма многих таковых единых стариков и не случайно вовсе, а существует как согласие, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения ее от несчастных и малосильных людей, с тем, чтобы сделать их счастливыми. Это непременно есть, да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь в роде этой же тайны в основе их, и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкуррентов, раздробление единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и един пастырь… Впрочем защищая мою мысль, я имею вид сочинителя, не выдержавшего твоей критики. Довольно об этом. | “What if it is so! At last you have guessed it. It’s perfectly true, it’s true that that’s the whole secret, but isn’t that suffering, at least for a man like that, who has wasted his whole life in the desert and yet could not shake off his incurable love of humanity? In his old age he reached the clear conviction that nothing but the advice of the great dread spirit could build up any tolerable sort of life for the feeble, unruly, ‘incomplete, empirical creatures created in jest.’ And so, convinced of this, he sees that he must follow the counsel of the wise spirit, the dread spirit of death and destruction, and therefore accept lying and deception, and lead men consciously to death and destruction, and yet deceive them all the way so that they may not notice where they are being led, that the poor blind creatures may at least on the way think themselves happy. And note, the deception is in the name of Him in Whose ideal the old man had so fervently believed all his life long. Is not that tragic? And if only one such stood at the head of the whole army ‘filled with the lust of power only for the sake of filthy gain’—would not one such be enough to make a tragedy? More than that, one such standing at the head is enough to create the actual leading idea of the Roman Church with all its armies and Jesuits, its highest idea. I tell you frankly that I firmly believe that there has always been such a man among those who stood at the head of the movement. Who knows, there may have been some such even among the Roman Popes. Who knows, perhaps the spirit of that accursed old man who loves mankind so obstinately in his own way, is to be found even now in a whole multitude of such old men, existing not by chance but by agreement, as a secret league formed long ago for the guarding of the mystery, to guard it from the weak and the unhappy, so as to make them happy. No doubt it is so, and so it must be indeed. I fancy that even among the Masons there’s something of the same mystery at the bottom, and that that’s why the Catholics so detest the Masons as their rivals breaking up the unity of the idea, while it is so essential that there should be one flock and one shepherd…. But from the way I defend my idea I might be an author impatient of your criticism. Enough of it.” |
| – Ты может быть сам масон ! – вырвалось вдруг у Алеши. – Ты не веришь в бога, – прибавил он. но уже с чрезвычайною скорбью. Ему показалось к тому же, что брат смотрит на него с насмешкой. – Чем же кончается твоя поэма? – спросил он вдруг, смотря в землю, – или уж она кончена? | “You are perhaps a Mason yourself!” broke suddenly from Alyosha. “You don’t believe in God,” he added, speaking this time very sorrowfully. He fancied besides that his brother was looking at him ironically. “How does your poem end?” he asked, suddenly looking down. “Or was it the end?” |
| – Я хотел ее кончить так: когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо смотря ему прямо в глаза, и видимо не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: Ступай и не приходи более… не приходи вовсе… никогда, никогда! И выпускает его на “темные стогна града”. Пленник уходит. | “I meant to end it like this. When the Inquisitor ceased speaking he waited some time for his Prisoner to answer him. His silence weighed down upon him. He saw that the Prisoner had listened intently all the time, looking gently in his face and evidently not wishing to reply. The old man longed for Him to say something, however bitter and terrible. But He suddenly approached the old man in silence and softly kissed him on his bloodless aged lips. That was all His answer. The old man shuddered. His lips moved. He went to the door, opened it, and said to Him: ‘Go, and come no more … come not at all, never, never!’ And he let Him out into the dark alleys of the town. The Prisoner went away.” |
| – А старик? | “And the old man?” |
| – Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее. | “The kiss glows in his heart, but the old man adheres to his idea.” |
| – И ты вместе с ним, и ты? – горестно воскликнул Алеша. Иван засмеялся. | “And you with him, you too?” cried Alyosha, mournfully. Ivan laughed. |
| – Да ведь это же вздор, Алеша, ведь это только бестолковая поэма бестолкового студента, который никогда двух стихов не написал. К чему ты в такой серьез берешь? Уж не думаешь ли ты, что я прямо поеду теперь туда, к иезуитам, чтобы стать в сонме людей, поправляющих его подвиг? О господи, какое мне дело! Я ведь тебе сказал: мне бы только до тридцати лет дотянуть, а там, – кубок об пол! | “Why, it’s all nonsense, Alyosha. It’s only a senseless poem of a senseless student, who could never write two lines of verse. Why do you take it so seriously? Surely you don’t suppose I am going straight off to the Jesuits, to join the men who are correcting His work? Good Lord, it’s no business of mine. I told you, all I want is to live on to thirty, and then … dash the cup to the ground!” |
| – А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем ты любить-то их будешь? – горестно восклицал Алеша. – С таким адом в груди и в голове разве это возможно? Нет, именно ты едешь, чтобы к ним примкнуть… а если нет, то убьешь себя сам, а не выдержишь! | “But the little sticky leaves, and the precious tombs, and the blue sky, and the woman you love! How will you live, how will you love them?” Alyosha cried sorrowfully. “With such a hell in your heart and your head, how can you? No, that’s just what you are going away for, to join them … if not, you will kill yourself, you can’t endure it!” |
| – Есть такая сила, что все выдержит! – с холодною уже усмешкой проговорил Иван. | “There is a strength to endure everything,” Ivan said with a cold smile. |
| – Какая сила? | “What strength?” |
| – Карамазовская… сила низости Карамазовской. | “The strength of the Karamazovs—the strength of the Karamazov baseness.” |
| – Это потонуть в разврате, задавить душу в растлении, да, да? | “To sink into debauchery, to stifle your soul with corruption, yes?” |
| – Пожалуй и это… только до тридцати лет может быть я избегну, а там… | “Possibly even that … only perhaps till I am thirty I shall escape it, and then—” |
| – Как же избегнешь? Чем избегнешь? Это невозможно с твоими мыслями. | “How will you escape it? By what will you escape it? That’s impossible with your ideas.” |
| – Опять-таки по-Карамазовски. | “In the Karamazov way, again.” |
| – Это чтобы “все позволено”? Все позволено, так ли, так ли? | “ ‘Everything is lawful,’ you mean? Everything is lawful, is that it?” |
| Иван нахмурился и вдруг странно как-то побледнел. | Ivan scowled, and all at once turned strangely pale. |
| – А, это ты подхватил вчерашнее словцо, которым так обиделся Миусов… и что так наивно выскочил и переговорил брат Дмитрий? – криво усмехнулся он. – Да, пожалуй: “все позволено”, если уж слово произнесено. Не отрекаюсь. Да и редакция Митенькина недурна. | “Ah, you’ve caught up yesterday’s phrase, which so offended Miüsov—and which Dmitri pounced upon so naïvely, and paraphrased!” he smiled queerly. “Yes, if you like, ‘everything is lawful’ since the word has been said. I won’t deny it. And Mitya’s version isn’t bad.” |
| Алеша молча глядел на него. | Alyosha looked at him in silence. |
| – Я, брат, уезжая думал, что имею на всем свете хоть тебя, – с неожиданным чувством проговорил вдруг Иван, – а теперь вижу, что и в твоем сердце мне нет места, мой милый отшельник. От формулы: “все позволено” я не отрекусь, ну и что же, за это ты от меня отречешься, да, да? | “I thought that going away from here I have you at least,” Ivan said suddenly, with unexpected feeling; “but now I see that there is no place for me even in your heart, my dear hermit. The formula, ‘all is lawful,’ I won’t renounce—will you renounce me for that, yes?” |
| Алеша встал, подошел к нему, и молча, тихо поцеловал его в губы. | Alyosha got up, went to him and softly kissed him on the lips. |
| – Литературное воровство! – вскричал Иван, переходя вдруг в какой-то восторг, – это ты украл из моей поэмы! Спасибо однако. Вставай, Алеша, идем, пора и мне и тебе. | “That’s plagiarism,” cried Ivan, highly delighted. “You stole that from my poem. Thank you though. Get up, Alyosha, it’s time we were going, both of us.” |
| Они вышли, но остановились у крыльца трактира. | They went out, but stopped when they reached the entrance of the restaurant. |
| – Вот что, Алеша, – проговорил Иван твердым голосом, – если в самом деле хватит меня на клейкие листочки, то любить их буду лишь тебя вспоминая. Довольно мне того, что ты тут где-то есть, и жить еще не расхочу. Довольно этого тебе? Если хочешь, прими хоть за объяснение в любви. А теперь ты направо, я налево – и довольно, слышишь, довольно. То-есть, если я бы завтра и не уехал (кажется, уеду наверно) и мы бы еще опять как-нибудь встретились, то уже на все эти темы ты больше со мной ни слова. Настоятельно прошу. И насчет брата Дмитрия тоже, особенно прошу тебя, даже и не заговаривай со мной никогда больше, – прибавил он вдруг раздражительно, – все исчерпано, все переговорено, так ли? А я тебе с своей стороны за это тоже одно обещание дам: Когда к тридцати годам я захочу “бросить кубок об пол”, то, где б ты ни был, я таки приду еще раз переговорить с тобою… хотя бы даже из Америки, это ты знай. Нарочно приеду. Очень интересно будет и на тебя поглядеть к тому времени: каков-то ты тогда будешь? Видишь, довольно торжественное обещание. А в самом деле мы может быть лет на семь, на десять прощаемся. Ну иди теперь к твоему Pater Seraphicus, ведь он умирает; умрет без тебя, так еще пожалуй на меня рассердишься, что я тебя задержал. До свидания, целуй меня еще раз, вот так, и ступай… | “Listen, Alyosha,” Ivan began in a resolute voice, “if I am really able to care for the sticky little leaves I shall only love them, remembering you. It’s enough for me that you are somewhere here, and I shan’t lose my desire for life yet. Is that enough for you? Take it as a declaration of love if you like. And now you go to the right and I to the left. And it’s enough, do you hear, enough. I mean even if I don’t go away to‐morrow (I think I certainly shall go) and we meet again, don’t say a word more on these subjects. I beg that particularly. And about Dmitri too, I ask you specially, never speak to me again,” he added, with sudden irritation; “it’s all exhausted, it has all been said over and over again, hasn’t it? And I’ll make you one promise in return for it. When at thirty, I want to ‘dash the cup to the ground,’ wherever I may be I’ll come to have one more talk with you, even though it were from America, you may be sure of that. I’ll come on purpose. It will be very interesting to have a look at you, to see what you’ll be by that time. It’s rather a solemn promise, you see. And we really may be parting for seven years or ten. Come, go now to your Pater Seraphicus, he is dying. If he dies without you, you will be angry with me for having kept you. Good‐by, kiss me once more; that’s right, now go.” |
| Иван вдруг повернулся и пошел своею дорогой, уже не оборачиваясь. Похоже было на то, как вчера ушел от Алеши брат Дмитрий, хотя вчера было совсем в другом роде. Странное это замечаньице промелькнуло как стрелка в печальном уме Алеши, печальном и скорбном в эту минуту. Он немного подождал, глядя вслед брату. Почему-то заприметил вдруг, что брат Иван идет как-то раскачиваясь и что у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого. Никогда он этого не замечал прежде. Но вдруг он тоже повернулся и почти побежал к монастырю. Уже сильно смеркалось, и ему было почти страшно; что-то нарастало в нем новое, на что он не мог бы дать ответа. Поднялся опять как вчера, ветер, и вековые сосны мрачно зашумели кругом него. когда он вошел в скитский лесок. Он почти бежал. “Pater Seraphicus” – это имя он откуда-то взял – откуда? промелькнуло у Алеши. Иван, бедный Иван, и когда же я теперь тебя увижу… Вот и скит, господи! Да, да, это он, это Pater Seraphicus, он спасет меня… от него и навеки!” | Ivan turned suddenly and went his way without looking back. It was just as Dmitri had left Alyosha the day before, though the parting had been very different. The strange resemblance flashed like an arrow through Alyosha’s mind in the distress and dejection of that moment. He waited a little, looking after his brother. He suddenly noticed that Ivan swayed as he walked and that his right shoulder looked lower than his left. He had never noticed it before. But all at once he turned too, and almost ran to the monastery. It was nearly dark, and he felt almost frightened; something new was growing up in him for which he could not account. The wind had risen again as on the previous evening, and the ancient pines murmured gloomily about him when he entered the hermitage copse. He almost ran. “Pater Seraphicus—he got that name from somewhere—where from?” Alyosha wondered. “Ivan, poor Ivan, and when shall I see you again?… Here is the hermitage. Yes, yes, that he is, Pater Seraphicus, he will save me—from him and for ever!” |
| Потом он с великим недоумением припоминал несколько раз в своей жизни, как мог он вдруг, после того, как расстался с Иваном, так совсем забыть о брате Дмитрии, которого утром, всего только несколько часов назад, положил непременно разыскать и не уходить без того, хотя бы пришлось даже не воротиться на эту ночь в монастырь. | Several times afterwards he wondered how he could on leaving Ivan so completely forget his brother Dmitri, though he had that morning, only a few hours before, so firmly resolved to find him and not to give up doing so, even should he be unable to return to the monastery that night. |
| VI. ПОКА ЕЩЕ ОЧЕНЬ НЕ ЯСНАЯ. | Chapter VI. For Awhile A Very Obscure One |
| А Иван Федорович, расставшись с Алешей, пошел домой, в дом Федора Павловича. Но странное дело, на него напала вдруг тоска нестерпимая и, главное, с каждым шагом, по мере приближения к дому, все более и более нараставшая. Не в тоске была странность, а в том, что Иван Федорович никак не мог определить, в чем тоска состояла. Тосковать ему случалось часто и прежде и не диво бы, что пришла она в такую минуту, когда он завтра же, порвав вдруг со всем, что его сюда привлекло, готовился вновь повернуть круто в сторону и вступить на новый, совершенно неведомый путь, и опять совсем одиноким, как прежде, много надеясь, но не зная на что, многого, слишком многого ожидая от жизни, но ничего не умея сам определить, ни в ожиданиях, ни даже в желаниях своих. И все-таки в эту минуту, хотя тоска нового и неведомого действительно была в душе его, мучило его вовсе не то. Уж не отвращение ли к родительскому дому? – подумал он про себя, – “похоже на то, до того опротивел, и хоть сегодня я в последний раз войду за этот скверный порог, а все-таки противно…” Но нет, и это не то. Уж не прощание ли с Алешей и бывший с ним разговор: “Столько лет молчал со всем светом и не удостоивал говорить, и вдруг нагородил столько ахинеи”. В самом деле, это могла быть молодая досада молодой неопытности и молодого тщеславия, досада на то, что не сумел высказаться, да еще с таким существом, как Алеша, на которого в сердце его несомненно существовали большие расчеты. Конечно, и это было, то-есть эта досада, даже непременно должна была быть, но и это было не то, все не то. “Тоска до тошноты, а определить не в силах, чего хочу. Не думать разве”… | And Ivan, on parting from Alyosha, went home to Fyodor Pavlovitch’s house. But, strange to say, he was overcome by insufferable depression, which grew greater at every step he took towards the house. There was nothing strange in his being depressed; what was strange was that Ivan could not have said what was the cause of it. He had often been depressed before, and there was nothing surprising at his feeling so at such a moment, when he had broken off with everything that had brought him here, and was preparing that day to make a new start and enter upon a new, unknown future. He would again be as solitary as ever, and though he had great hopes, and great—too great—expectations from life, he could not have given any definite account of his hopes, his expectations, or even his desires. Yet at that moment, though the apprehension of the new and unknown certainly found place in his heart, what was worrying him was something quite different. “Is it loathing for my father’s house?” he wondered. “Quite likely; I am so sick of it; and though it’s the last time I shall cross its hateful threshold, still I loathe it…. No, it’s not that either. Is it the parting with Alyosha and the conversation I had with him? For so many years I’ve been silent with the whole world and not deigned to speak, and all of a sudden I reel off a rigmarole like that.” It certainly might have been the youthful vexation of youthful inexperience and vanity—vexation at having failed to express himself, especially with such a being as Alyosha, on whom his heart had certainly been reckoning. No doubt that came in, that vexation, it must have done indeed; but yet that was not it, that was not it either. “I feel sick with depression and yet I can’t tell what I want. Better not think, perhaps.” |
| Иван Федорович попробовал было “не думать”, но и тем не мог пособить. Главное, тем она была досадна, эта тоска, и тем раздражала, что имела какой-то случайный, совершенно внешний вид; это чувствовалось. Стояло и торчало где-то какое-то существо или предмет, в роде как торчит что-нибудь иногда пред глазом, и долго, за делом или в горячем разговоре, не замечаешь его, а между тем видимо раздражаешься, почти мучаешься, и наконец-то догадаешься отстранить негодный предмет, часто очень пустой и смешной, какую-нибудь вещь, забытую не на своем месте, платок, упавший на пол, книгу, не убранную в шкаф, и пр. и пр. Наконец Иван Федорович, в самом скверном и раздраженном состоянии духа, достиг родительского дома, и вдруг примерно шагов за пятнадцать от калитки, взглянув на ворота, разом догадался о том, что его так мучило и тревожило. | Ivan tried “not to think,” but that, too, was no use. What made his depression so vexatious and irritating was that it had a kind of casual, external character—he felt that. Some person or thing seemed to be standing out somewhere, just as something will sometimes obtrude itself upon the eye, and though one may be so busy with work or conversation that for a long time one does not notice it, yet it irritates and almost torments one till at last one realizes, and removes the offending object, often quite a trifling and ridiculous one—some article left about in the wrong place, a handkerchief on the floor, a book not replaced on the shelf, and so on. At last, feeling very cross and ill‐humored, Ivan arrived home, and suddenly, about fifteen paces from the garden gate, he guessed what was fretting and worrying him. |
| На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков, и Иван Федорович с первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков, и что именно этого-то человека и не может вынести его душа. Все вдруг озарилось и стало ясно. Давеча, еще с рассказа Алеши о его встрече со Смердяковым, что-то мрачное и противное вдруг вонзилось в сердце его и вызвало в нем тотчас же ответную злобу. Потом, за разговором, Смердяков на время позабылся, но однакоже остался в его душе, и только что Иван Федорович расстался с Алешей и пошел один к дому, как тотчас же забытое ощущение вдруг быстро стало опять выходить наружу. “Да неужели же этот дрянной негодяй до такой степени может меня беспокоить!” подумалось ему с нестерпимою злобой. | On a bench in the gateway the valet Smerdyakov was sitting enjoying the coolness of the evening, and at the first glance at him Ivan knew that the valet Smerdyakov was on his mind, and that it was this man that his soul loathed. It all dawned upon him suddenly and became clear. Just before, when Alyosha had been telling him of his meeting with Smerdyakov, he had felt a sudden twinge of gloom and loathing, which had immediately stirred responsive anger in his heart. Afterwards, as he talked, Smerdyakov had been forgotten for the time; but still he had been in his mind, and as soon as Ivan parted with Alyosha and was walking home, the forgotten sensation began to obtrude itself again. “Is it possible that a miserable, contemptible creature like that can worry me so much?” he wondered, with insufferable irritation. |
| Дело в том, что Иван Федорович действительно очень не взлюбил этого человека в последнее время и особенно в самые последние дни. Он даже начал сам замечать эту нараставшую почти ненависть к этому существу. Может быть процесс ненависти так обострился именно потому, что в начале, когда только что приехал к нам Иван Федорович, происходило совсем другое. Тогда Иван Федорович принял было в Смердякове какое-то особенное вдруг участие, нашел его даже очень оригинальным. Сам приучил его говорить с собою, всегда однако дивясь некоторой бестолковости или лучше сказать некоторому беспокойству его ума и не понимая, что такое “этого созерцателя” могло бы так постоянно и неотвязно беспокоить. Они говорили и о философских вопросах и даже о том, почему светил свет в первый день, когда солнце, луна и звезды устроены были лишь на четвертый день, и как это понимать следует; но Иван Федорович скоро убедился, что дело вовсе не в солнце, луне и звездах, что солнце, луна и звезды предмет хотя и любопытный, но для Смердякова совершенно третьестепенный и что ему надо чего-то совсем другого. Так или этак, но во всяком случае начало выказываться и обличаться самолюбие необъятное и при том самолюбие оскорбленное. Ивану Федоровичу это очень не понравилось. С этого и началось его отвращение. Впоследствии начались в доме неурядицы, явилась Грушенька, начались истории с братом Дмитрием, пошли хлопоты, – говорили они и об этом, но хотя Смердяков вел всегда об этом разговор с большим волнением, а опять-таки никак нельзя было добиться, чего самому-то ему тут желается. Даже подивиться можно было нелогичности и беспорядку иных желаний его, поневоле выходивших наружу и всегда однако неясных. Смердяков все выспрашивал, задавал какие-то косвенные, очевидно надуманные вопросы, но для чего – не объяснял того, и обыкновенно в самую горячую минуту своих же расспросов вдруг умолкал или переходил совсем на иное. Но главное, что раздражило наконец Ивана Федоровича окончательно и вселило в него такое отвращение- была какая-то отвратительная и особая фамильярность, которую сильно стал выказывать к нему Смердяков, и чем дальше, тем больше. Не то, чтоб он позволял себе быть невежливым, напротив, говорил он всегда чрезвычайно почтительно, но так поставилось однако ж дело, что Смердяков видимо стал считать себя бог знает почему в чем-то наконец с Иваном Федоровичем как бы солидарным, говорил всегда в таком тоне, будто между ними вдвоем было уже что-то условленное и как бы секретное, что-то когда-то произнесенное с обеих сторон, лишь им обоим только известное, а другим около них копошившимся смертным так даже и непонятное. Иван Федорович однако и тут долго не понимал этой настоящей причины своего нараставшего отвращения и наконец только лишь в самое последнее время успел догадаться в чем дело. С брезгливым и раздражительным ощущением хотел было он пройти теперь молча и не глядя на Смердякова в калитку, но Смердяков встал со скамейки, и уже по одному этому жесту Иван Федорович вмиг догадался, что тот желает иметь с ним особенный разговор. Иван Федорович поглядел на него и остановился и то, что он так вдруг остановился и не прошел мимо, как желал того еще минуту назад, озлило его до сотрясения. С гневом и отвращением глядел он на скопческую испитую физиономию Смердякова с зачесанными гребешком височками и со взбитым маленьким хохолком. Левый чуть прищуренный глазок его мигал и усмехался, точно выговаривая: “чего идешь, не пройдешь, видишь, что обоим нам умным людям переговорить есть чего”. Иван Федорович затрясся: | It was true that Ivan had come of late to feel an intense dislike for the man, especially during the last few days. He had even begun to notice in himself a growing feeling that was almost of hatred for the creature. Perhaps this hatred was accentuated by the fact that when Ivan first came to the neighborhood he had felt quite differently. Then he had taken a marked interest in Smerdyakov, and had even thought him very original. He had encouraged him to talk to him, although he had always wondered at a certain incoherence, or rather restlessness, in his mind, and could not understand what it was that so continually and insistently worked upon the brain of “the contemplative.” They discussed philosophical questions and even how there could have been light on the first day when the sun, moon, and stars were only created on the fourth day, and how that was to be understood. But Ivan soon saw that, though the sun, moon, and stars might be an interesting subject, yet that it was quite secondary to Smerdyakov, and that he was looking for something altogether different. In one way and another, he began to betray a boundless vanity, and a wounded vanity, too, and that Ivan disliked. It had first given rise to his aversion. Later on, there had been trouble in the house. Grushenka had come on the scene, and there had been the scandals with his brother Dmitri—they discussed that, too. But though Smerdyakov always talked of that with great excitement, it was impossible to discover what he desired to come of it. There was, in fact, something surprising in the illogicality and incoherence of some of his desires, accidentally betrayed and always vaguely expressed. Smerdyakov was always inquiring, putting certain indirect but obviously premeditated questions, but what his object was he did not explain, and usually at the most important moment he would break off and relapse into silence or pass to another subject. But what finally irritated Ivan most and confirmed his dislike for him was the peculiar, revolting familiarity which Smerdyakov began to show more and more markedly. Not that he forgot himself and was rude; on the contrary, he always spoke very respectfully, yet he had obviously begun to consider—goodness knows why!—that there was some sort of understanding between him and Ivan Fyodorovitch. He always spoke in a tone that suggested that those two had some kind of compact, some secret between them, that had at some time been expressed on both sides, only known to them and beyond the comprehension of those around them. But for a long while Ivan did not recognize the real cause of his growing dislike and he had only lately realized what was at the root of it. With a feeling of disgust and irritation he tried to pass in at the gate without speaking or looking at Smerdyakov. But Smerdyakov rose from the bench, and from that action alone, Ivan knew instantly that he wanted particularly to talk to him. Ivan looked at him and stopped, and the fact that he did stop, instead of passing by, as he meant to the minute before, drove him to fury. With anger and repulsion he looked at Smerdyakov’s emasculate, sickly face, with the little curls combed forward on his forehead. His left eye winked and he grinned as if to say, “Where are you going? You won’t pass by; you see that we two clever people have something to say to each other.” |
| “Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!” полетело было с языка его, но, к величайшему его удивлению, слетело с языка совсем другое: | Ivan shook. “Get away, miserable idiot. What have I to do with you?” was on the tip of his tongue, but to his profound astonishment he heard himself say, |
| – Что батюшка спит или проснулся? – тихо и смиренно проговорил он, себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку. На мгновение ему стало чуть не страшно, он вспомнил это потом. Смердяков стоял против него, закинув руки за спину и глядел с уверенностью, почти строго. | “Is my father still asleep, or has he waked?” He asked the question softly and meekly, to his own surprise, and at once, again to his own surprise, sat down on the bench. For an instant he felt almost frightened; he remembered it afterwards. Smerdyakov stood facing him, his hands behind his back, looking at him with assurance and almost severity. |
| – Еще почивают-с, – выговорил он неторопливо. (“Сам дескать первый заговорил, а не я”.) – Удивляюсь я на вас, сударь, – прибавил он, помолчав, как-то жеманно опустив глаза. выставив правую ножку вперед и поигрывая носочком лакированной ботинки. | “His honor is still asleep,” he articulated deliberately (“You were the first to speak, not I,” he seemed to say). “I am surprised at you, sir,” he added, after a pause, dropping his eyes affectedly, setting his right foot forward, and playing with the tip of his polished boot. |
| – С чего ты на меня удивляешься? – отрывисто и сурово произнес Иван Федорович, изо всех сил себя сдерживая, и вдруг с отвращением понял, что чувствует сильнейшее любопытство и что ни за что не уйдет отсюда, не удовлетворив его. | “Why are you surprised at me?” Ivan asked abruptly and sullenly, doing his utmost to restrain himself, and suddenly realizing, with disgust, that he was feeling intense curiosity and would not, on any account, have gone away without satisfying it. |
| – Зачем вы, сударь, в Чермашню не едете-с? – вдруг вскинул глазками Смердяков и фамильярно улыбнулся. “А чему я улыбнулся, сам дескать должен понять, если умный человек”, как бы говорил его прищуренный левый глазок. | “Why don’t you go to Tchermashnya, sir?” Smerdyakov suddenly raised his eyes and smiled familiarly. “Why I smile you must understand of yourself, if you are a clever man,” his screwed‐up left eye seemed to say. |
| – Зачем я в Чермашню поеду? – удивился Иван Федорович. Смердяков опять помолчал. | “Why should I go to Tchermashnya?” Ivan asked in surprise. Smerdyakov was silent again. |
| – Сами даже Федор Павлович так вас об том умоляли-с, – проговорил он наконец не спеша и как бы сам не ценя своего ответа: третьестепенною дескать причиной отделываюсь, только чтобы что-нибудь сказать. | “Fyodor Pavlovitch himself has so begged you to,” he said at last, slowly and apparently attaching no significance to his answer. “I put you off with a secondary reason,” he seemed to suggest, “simply to say something.” |
| – Э, чорт, говори ясней, чего тебе надобно? – вскричал наконец гневливо Иван Федорович, со смирения переходя на грубость. | “Damn you! Speak out what you want!” Ivan cried angrily at last, passing from meekness to violence. |
| Смердяков приставил правую ножку к левой, вытянулся прямей, но продолжал глядеть с тем же спокойствием и с тою же улыбочкой. | Smerdyakov drew his right foot up to his left, pulled himself up, but still looked at him with the same serenity and the same little smile. |
| – Существенного ничего нет-с… а так-с, к разговору… Наступило опять молчание. Промолчали чуть не с минуту. Иван Федорович знал, что он должен был сейчас встать и рассердиться, а Смердяков стоял пред ним и как бы ждал: “А вот посмотрю я, рассердишься ты или нет?” Так по крайней мере представлялось Ивану Федоровичу. Наконец он качнулся, чтобы встать. Смердяков точно поймал мгновенье. | “Substantially nothing—but just by way of conversation.” Another silence followed. They did not speak for nearly a minute. Ivan knew that he ought to get up and show anger, and Smerdyakov stood before him and seemed to be waiting as though to see whether he would be angry or not. So at least it seemed to Ivan. At last he moved to get up. Smerdyakov seemed to seize the moment. |
| – Ужасное мое положение-с, Иван Федорович, не знаю даже, как и помочь себе, – проговорил он вдруг твердо и раздельно и с последним словом своим вздохнул. Иван Федорович тотчас же опять уселся. | “I’m in an awful position, Ivan Fyodorovitch. I don’t know how to help myself,” he said resolutely and distinctly, and at his last word he sighed. Ivan Fyodorovitch sat down again. |
| – Оба совсем блажные-с, оба дошли до самого малого ребячества-с, – продолжал Смердяков. – Я про вашего родителя и про вашего братца-с Дмитрия Федоровича. Вот они встанут теперь, Федор Павлович, и начнут сейчас приставать ко мне каждую минуту: “Что не пришла? Зачем не пришла?” – и так вплоть до полуночи, даже и за полночь. А коль Аграфена Александровна не прийдет (потому что оне пожалуй совсем и не намерены вовсе никогда прийти-с), то накинутся на меня опять завтра поутру: “Зачем не пришла? Отчего не пришла, когда прийдет?” – точно я в этом в чем пред ними выхожу виноват. С другой стороны такая статья-с, как только сейчас смеркнется, да и раньше того, братец ваш с оружьем в руках явится по соседству: “Смотри, дескать, шельма, бульйонщик: проглядишь ее у меня и не дашь мне знать, что пришла, – убью тебя прежде всякого”. Пройдет ночь, на утро и они тоже как и Федор Павлович мучительски мучить меня начнут: “зачем не пришла, скоро ль покажется”, – и точно я опять-таки и пред ними виноват выхожу-с в том, что ихняя госпожа не явилась. И до того с каждым днем и с каждым часом все дальше серчают оба-с, что, думаю, иной час, от страху сам жизни себя лишить-с. Я, сударь, на них не надеюсь-с. | “They are both utterly crazy, they are no better than little children,” Smerdyakov went on. “I am speaking of your parent and your brother Dmitri Fyodorovitch. Here Fyodor Pavlovitch will get up directly and begin worrying me every minute, ‘Has she come? Why hasn’t she come?’ and so on up till midnight and even after midnight. And if Agrafena Alexandrovna doesn’t come (for very likely she does not mean to come at all) then he will be at me again to‐morrow morning, ‘Why hasn’t she come? When will she come?’—as though I were to blame for it. On the other side it’s no better. As soon as it gets dark, or even before, your brother will appear with his gun in his hands: ‘Look out, you rogue, you soup‐maker. If you miss her and don’t let me know she’s been—I’ll kill you before any one.’ When the night’s over, in the morning, he, too, like Fyodor Pavlovitch, begins worrying me to death. ‘Why hasn’t she come? Will she come soon?’ And he, too, thinks me to blame because his lady hasn’t come. And every day and every hour they get angrier and angrier, so that I sometimes think I shall kill myself in a fright. I can’t depend upon them, sir.” |
| – А зачем ввязался? Зачем Дмитрию Федоровичу стал переносить? – раздражительно проговорил Иван Федорович. | “And why have you meddled? Why did you begin to spy for Dmitri Fyodorovitch?” said Ivan irritably. |
| – А как бы я не ввязался-с? Да я и не ввязывался вовсе, если хотите знать в полной точности-с. Я с самого начала все молчал, возражать не смея, а они сами определили мне своим слугой-Личардой при них состоять. Только и знают с тех пор одно слово: “Убью тебя, шельму, если пропустишь!” Наверно полагаю, сударь, что со мной завтра длинная падучая приключится. | “How could I help meddling? Though, indeed, I haven’t meddled at all, if you want to know the truth of the matter. I kept quiet from the very beginning, not daring to answer; but he pitched on me to be his servant. He has had only one thing to say since: ‘I’ll kill you, you scoundrel, if you miss her,’ I feel certain, sir, that I shall have a long fit to‐ morrow.” |
| – Какая такая длинная падучая? | “What do you mean by ‘a long fit’?” |
| – Длинный припадок такой-с, чрезвычайно длинный-с. Несколько часов-с али пожалуй день и другой продолжается-с. Раз со мной продолжалось это дня три, упал я с чердака тогда. Перестанет бить, а потом зачнет опять; и я все три дня не мог в разум войти. За Герценштубе, за здешним доктором тогда Федор Павлович посылали-с, так тот льду к темени прикладывал, да еще одно средство употребил… Помереть бы мог-с. | “A long fit, lasting a long time—several hours, or perhaps a day or two. Once it went on for three days. I fell from the garret that time. The struggling ceased and then began again, and for three days I couldn’t come back to my senses. Fyodor Pavlovitch sent for Herzenstube, the doctor here, and he put ice on my head and tried another remedy, too…. I might have died.” |
| – Да ведь, говорят, падучую нельзя заранее предузнать, что вот в такой-то час будет. Как же ты говоришь, что завтра придет? – с особенным и раздражительным любопытством осведомился Иван Федорович. | “But they say one can’t tell with epilepsy when a fit is coming. What makes you say you will have one to‐morrow?” Ivan inquired, with a peculiar, irritable curiosity. |
| – Это точно что нельзя предузнать-с. | “That’s just so. You can’t tell beforehand.” |
| – К тому же ты тогда упал с чердака. | “Besides, you fell from the garret then.” |
| – На чердак каждый день лазею-с, могу и завтра упасть с чердака. А не с чердака, так в погреб упаду-с, в погреб тоже каждый день хожу-с, по своей надобности-с. | “I climb up to the garret every day. I might fall from the garret again to‐morrow. And, if not, I might fall down the cellar steps. I have to go into the cellar every day, too.” |
| Иван Федорович длинно посмотрел на него. | Ivan took a long look at him. |
| – Плетешь ты, я вижу, и я тебя что-то не понимаю,- тихо, но как-то грозно проговорил он: – притвориться что ли ты хочешь завтра на три дня в падучей? а? | “You are talking nonsense, I see, and I don’t quite understand you,” he said softly, but with a sort of menace. “Do you mean to pretend to be ill to‐morrow for three days, eh?” |
| Смердяков, смотревший в землю и игравший опять носочком правой ноги, поставил правую ногу на место, вместо нее выставил вперед левую, поднял голову и усмехнувшись произнес: | Smerdyakov, who was looking at the ground again, and playing with the toe of his right foot, set the foot down, moved the left one forward, and, grinning, articulated: |
| – Если бы я даже эту самую штуку и мог-с, то-есть чтобы притвориться-с, и так как ее сделать совсем не трудно опытному человеку, то и тут я в полном праве моем это средство употребить для спасения жизни моей от смерти; ибо когда я в болезни лежу, то хотя бы Аграфена Александровна пришла к ихнему родителю, не могут оне тогда с больного человека спросить: “зачем не донес”. Сами постыдятся. | “If I were able to play such a trick, that is, pretend to have a fit—and it would not be difficult for a man accustomed to them—I should have a perfect right to use such a means to save myself from death. For even if Agrafena Alexandrovna comes to see his father while I am ill, his honor can’t blame a sick man for not telling him. He’d be ashamed to.” |
| – Э, чорт! – вскинулся вдруг Иван Федорович с перекосившимся от злобы лицом. – Что ты все об своей жизни трусишь! Все эти угрозы брата Дмитрия только азартные слова и больше ничего. Не убьет он тебя; убьет да не тебя! | “Hang it all!” Ivan cried, his face working with anger, “why are you always in such a funk for your life? All my brother Dmitri’s threats are only hasty words and mean nothing. He won’t kill you; it’s not you he’ll kill!” |
| – Убьет как муху-с, и прежде всего меня-с. А пуще того я другого боюсь: чтобы меня в их сообществе не сочли, когда что нелепое над родителем своим учинят. | “He’d kill me first of all, like a fly. But even more than that, I am afraid I shall be taken for an accomplice of his when he does something crazy to his father.” |
| – Почему тебя сочтут сообщником? | “Why should you be taken for an accomplice?” |
| – Потому сочтут сообщником, что я им эти самые знаки в секрете большом сообщил-с. | “They’ll think I am an accomplice, because I let him know the signals as a great secret.” |
| – Какие знаки? Кому сообщил? Чорт тебя побери, говори яснее! | “What signals? Whom did you tell? Confound you, speak more plainly.” |
| – Должен совершенно признаться, – с педантским спокойствием тянул Смердяков. – что тут есть один секрет у меня с Федором Павловичем. Они, как сами изволите знать (если только изволите это знать), уже несколько дней, как то-есть ночь али даже вечер, так тотчас сызнутри и запрутся. Вы каждый раз стали под конец возвращаться рано к себе на верх, а вчера так и совсем никуда не выходили-с, а потому может и не знаете, как они старательно начали теперь запираться на ночь. И приди хоть сам Григорий Васильевич, так они, разве что по голосу убедясь, ему отопрут-с. Но Григорий Васильевич не приходит-с, потому служу им теперь в комнатах один я-с, – так они сами определили с той самой минуты, как начали эту затею с Аграфеной Александровной, а на ночь так и я теперь, по ихнему распоряжению, удаляюсь и ночую во флигеле, с тем, чтобы до полночи мне не спать, а дежурить, вставать и двор обходить, и ждать, когда Аграфена Александровна придут-с, так как оне вот уже несколько дней ее ждут, словно как помешанные. Рассуждают же они так-с: она, говорят, его боится, Дмитрия-то Федоровича (они его Митькой зовут-с), а потому ночью попозже задами ко мне пройдет; ты же, говорит, ее сторожи до самой полночи и больше. И если она придет, то ты к дверям подбеги и постучи мне в дверь, аль в окно из саду рукой два первые раза потише, этак: раз-два, а потом сейчас три раза поскорее: тук-тук-тук. Вот, говорят, я и пойму сейчас, что это она пришла, и отопру тебе дверь потихоньку. Другой знак сообщили мне на тот случай, если что экстренное произойдет: сначала два раза скоро: тук-тук, а потом, обождав еще один раз гораздо крепче. Вот они и поймут, что нечто случилось внезапное и что оченно надо мне их видеть, и тоже мне отопрут, а я войду и доложу. Все на тот случай, что Аграфена Александровна может сама не придти, а пришлет о чем-нибудь известить; окромя того Дмитрий Федорович тоже могут придти, так и о нем известить, что он близко. Оченно боятся они Дмитрия Федоровича, так что если бы даже Аграфена Александровна уже пришла и они бы с ней заперлись, а Дмитрий Федорович тем временем где появится близко, так и тут беспременно обязан я им тотчас о том доложить постучамши три раза, так что первый-то знак в пять стуков означает: “Аграфена Александровна пришли”, а второй знак в три стука – “оченно дескать надоть”; так сами по нескольку раз на примере меня учили и разъясняли. А так как во всей вселенной о знаках этих знают всего лишь я да они-с, так они безо всякого уже сумления и нисколько не окликая (вслух окликать они очень боятся) и отопрут. Вот эти самые знаки Дмитрию Федоровичу теперь и стали известны. | “I’m bound to admit the fact,” Smerdyakov drawled with pedantic composure, “that I have a secret with Fyodor Pavlovitch in this business. As you know yourself (if only you do know it) he has for several days past locked himself in as soon as night or even evening comes on. Of late you’ve been going upstairs to your room early every evening, and yesterday you did not come down at all, and so perhaps you don’t know how carefully he has begun to lock himself in at night, and even if Grigory Vassilyevitch comes to the door he won’t open to him till he hears his voice. But Grigory Vassilyevitch does not come, because I wait upon him alone in his room now. That’s the arrangement he made himself ever since this to‐do with Agrafena Alexandrovna began. But at night, by his orders, I go away to the lodge so that I don’t get to sleep till midnight, but am on the watch, getting up and walking about the yard, waiting for Agrafena Alexandrovna to come. For the last few days he’s been perfectly frantic expecting her. What he argues is, she is afraid of him, Dmitri Fyodorovitch (Mitya, as he calls him), ‘and so,’ says he, ‘she’ll come the back‐way, late at night, to me. You look out for her,’ says he, ‘till midnight and later; and if she does come, you run up and knock at my door or at the window from the garden. Knock at first twice, rather gently, and then three times more quickly, then,’ says he, ‘I shall understand at once that she has come, and will open the door to you quietly.’ Another signal he gave me in case anything unexpected happens. At first, two knocks, and then, after an interval, another much louder. Then he will understand that something has happened suddenly and that I must see him, and he will open to me so that I can go and speak to him. That’s all in case Agrafena Alexandrovna can’t come herself, but sends a message. Besides, Dmitri Fyodorovitch might come, too, so I must let him know he is near. His honor is awfully afraid of Dmitri Fyodorovitch, so that even if Agrafena Alexandrovna had come and were locked in with him, and Dmitri Fyodorovitch were to turn up anywhere near at the time, I should be bound to let him know at once, knocking three times. So that the first signal of five knocks means Agrafena Alexandrovna has come, while the second signal of three knocks means ‘something important to tell you.’ His honor has shown me them several times and explained them. And as in the whole universe no one knows of these signals but myself and his honor, so he’d open the door without the slightest hesitation and without calling out (he is awfully afraid of calling out aloud). Well, those signals are known to Dmitri Fyodorovitch too, now.” |
| – Почему известны? Передал ты? Как же ты смел передать? | “How are they known? Did you tell him? How dared you tell him?” |
| – От этого самого страху-с. И как же бы я посмел умолчать пред ними-с? Дмитрий Федорович каждый день напирали: “Ты меня обманываешь, ты от меня что скрываешь? Я тебе обе ноги сломаю!” Тут я им эти самые секретные знаки и сообщил, чтобы видели по крайности мое раболепие и тем самым удостоверились, что их не обманываю, а всячески им доношу. | “It was through fright I did it. How could I dare to keep it back from him? Dmitri Fyodorovitch kept persisting every day, ‘You are deceiving me, you are hiding something from me! I’ll break both your legs for you.’ So I told him those secret signals that he might see my slavish devotion, and might be satisfied that I was not deceiving him, but was telling him all I could.” |
| – Если думаешь, что он этими знаками воспользуется и захочет войти, то ты его не пускай. | “If you think that he’ll make use of those signals and try to get in, don’t let him in.” |
| – А коли я сам в припадке буду лежать-с, как же я тогда не пущу-с, если б я даже и мог осмелиться их не пустить-с, зная их столь отчаянными-с. | “But if I should be laid up with a fit, how can I prevent him coming in then, even if I dared prevent him, knowing how desperate he is?” |
| – Э, чорт возьми! Почему ты так уверен, что придет падучая, чорт тебя побери? Смеешься ты надо мной или нет? | “Hang it! How can you be so sure you are going to have a fit, confound you? Are you laughing at me?” |
| – Как же бы я посмел над вами смеяться, и до смеху ли, когда такой страх? Предчувствую, что будет падучая, предчувствие такое имею, от страху от одного и придет-с. | “How could I dare laugh at you? I am in no laughing humor with this fear on me. I feel I am going to have a fit. I have a presentiment. Fright alone will bring it on.” |
| – Э, чорт! Коли ты будешь лежать, то сторожить будет Григорий. Предупреди заранее Григория, уж он-то его не пустит. | “Confound it! If you are laid up, Grigory will be on the watch. Let Grigory know beforehand; he will be sure not to let him in.” |
| – Про знаки я Григорию Васильевичу без приказания барина не смею никоим образом сообщить-с. А касательно того, что Григорий Васильевич их услышит и не пустит, так они как раз сегодня со вчарашнего расхворались, а Марфа Игнатьевна их завтра лечить намереваются. Так давеча и условились. А лечение это у них весьма любопытное-с: настойку такую Марфа Игнатьевна знают-с и постоянно держут, крепкую, на какой-то траве – секретом таким обладают-с. А лечат они этим секретным лекарством Григория Васильевича раза по три в год-с, когда у того поясница отнимается вся-с, в роде как бы с ним паралич-с, раза по три в год-с. Тогда они берут полотенце-с, мочат в этот настой и всю-то ему спину Марфа Игнатьевна трет полчаса-с, до суха-с, совсем даже покраснеет и вспухнет-с, а затем остальное, что в стклянке, дают ему выпить-с с некоторою молитвою-с, не все однако ж, потому что часть малую при сем редком случае и себе оставляют-с и тоже выпивают-с. И оба, я вам скажу, как не пьющие, так тут и свалятся-с и спят очень долгое время крепко-с; и как проснется Григорий Васильевич, то всегда почти после того здорово-с, а Марфа Игнатьевна проснется и у нее всегда после того голова болит-с. Так вот, если завтра Марфа Игнатьевна свое это намерение исполнят-с, так вряд ли им что услыхать-с и Дмитрия Федоровича не допустить-с. Спать будут-с. | “I should never dare to tell Grigory Vassilyevitch about the signals without orders from my master. And as for Grigory Vassilyevitch hearing him and not admitting him, he has been ill ever since yesterday, and Marfa Ignatyevna intends to give him medicine to‐morrow. They’ve just arranged it. It’s a very strange remedy of hers. Marfa Ignatyevna knows of a preparation and always keeps it. It’s a strong thing made from some herb. She has the secret of it, and she always gives it to Grigory Vassilyevitch three times a year when his lumbago’s so bad he is almost paralyzed by it. Then she takes a towel, wets it with the stuff, and rubs his whole back for half an hour till it’s quite red and swollen, and what’s left in the bottle she gives him to drink with a special prayer; but not quite all, for on such occasions she leaves some for herself, and drinks it herself. And as they never take strong drink, I assure you they both drop asleep at once and sleep sound a very long time. And when Grigory Vassilyevitch wakes up he is perfectly well after it, but Marfa Ignatyevna always has a headache from it. So, if Marfa Ignatyevna carries out her intention to‐ morrow, they won’t hear anything and hinder Dmitri Fyodorovitch. They’ll be asleep.” |
| – Что за ахинея! И это все как нарочно так сразу и сойдется: и у тебя падучая, и те оба без памяти! – прокричал Иван Федорович: – да ты сам уж не хочешь ли так подвести, чтобы сошлось? – вырвалось у него вдруг, и он грозно нахмурил брови. | “What a rigmarole! And it all seems to happen at once, as though it were planned. You’ll have a fit and they’ll both be unconscious,” cried Ivan. “But aren’t you trying to arrange it so?” broke from him suddenly, and he frowned threateningly. |
| – Как же бы я так подвел-с… и для чего подводить, когда все тут от Дмитрия Федоровича одного и зависит-с, и от одних его мыслей-с… Захотят они что учинить – учинят-с, а нет, так не я же нарочно их приведу, чтобы к родителю их втолкнуть. | “How could I?… And why should I, when it all depends on Dmitri Fyodorovitch and his plans?… If he means to do anything, he’ll do it; but if not, I shan’t be thrusting him upon his father.” |
| – А зачем ему к отцу приходить, да еще потихоньку, если, как ты сам говоришь, Аграфена Александровна и совсем не придет, – продолжал Иван Федорович, бледнея от злобы; – сам же ты это говоришь, да и я все время, тут живя, был уверен, что старик только фантазирует и что не придет к нему эта тварь. Зачем же Дмитрию врываться к старику, если та не придет? Говори! Я хочу твои мысли знать. | “And why should he go to father, especially on the sly, if, as you say yourself, Agrafena Alexandrovna won’t come at all?” Ivan went on, turning white with anger. “You say that yourself, and all the while I’ve been here, I’ve felt sure it was all the old man’s fancy, and the creature won’t come to him. Why should Dmitri break in on him if she doesn’t come? Speak, I want to know what you are thinking!” |
| – Сами изволите знать зачем придут, к чему же тут мои мысли? Придут по единой ихней злобе, али по своей мнительности в случае примерно моей болезни, усомнятся и пойдут с нетерпения искать в комнаты, как вчерашний раз: не прошла ли дескать она как-нибудь от них потихоньку. Им совершенно тоже известно, что у Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в нем три тысячи запечатаны, под тремя печатями-с, обвязано ленточкою и надписано собственною их рукой: “ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти”, а потом, дня три спустя подписали еще: “и цыпленочку”. Так вот это-то и сомнительно-с. | “You know yourself why he’ll come. What’s the use of what I think? His honor will come simply because he is in a rage or suspicious on account of my illness perhaps, and he’ll dash in, as he did yesterday through impatience to search the rooms, to see whether she hasn’t escaped him on the sly. He is perfectly well aware, too, that Fyodor Pavlovitch has a big envelope with three thousand roubles in it, tied up with ribbon and sealed with three seals. On it is written in his own hand, ‘To my angel Grushenka, if she will come,’ to which he added three days later, ‘for my little chicken.’ There’s no knowing what that might do.” |
| – Вздор! – крикнул Иван Федорович почти в исступлении. – Дмитрий не пойдет грабить деньги, да еще убивать при этом отца. Он мог вчера убить его за Грушеньку, как исступленный злобный дурак, но грабить не пойдет! | “Nonsense!” cried Ivan, almost beside himself. “Dmitri won’t come to steal money and kill my father to do it. He might have killed him yesterday on account of Grushenka, like the frantic, savage fool he is, but he won’t steal.” |
| – Им оченно теперь нужны деньги-с, до последней крайности нужны, Иван Федорович. Вы даже не знаете сколь нужны, – чрезвычайно, спокойно и с замечательною отчетливостью изъяснил Смердяков. – Эти самые три тысячи-с они к тому же считают как бы за свои собственные и так сами мне объяснили: “мне, говорят, родитель остается еще три тысячи ровно должен”. А ко всему тому рассудите, Иван Федорович, и некоторую чистую правду-с: ведь это почти что наверно так, надо сказать-с, что Аграфена Александровна, если только захотят они того сами, то непременно заставят их на себе жениться, самого барина то-есть, Федора Павловича-с, если только захотят-с, – ну, а ведь они может быть и захотят-с. Ведь я только так говорю, что она не придет, а она может быть и более того захочет-с, то-есть прямо барыней сделаться. Я сам знаю, что их купец Самсонов говорили ей самой со всею откровенностью, что это дело будет весьма не глупое, и при том смеялись. А они сами умом очень не глупые-с. Им за голыша, каков есть Дмитрий Федорович, выходить не стать-с. Так вот теперь это взямши, рассудите сами, Иван Федорович, что тогда ни Дмитрию Федоровичу, ни даже вам-с с братцем вашим Алексеем Федоровичем уж ничего-то ровно после смерти родителя не останется, ни рубля-с, потому что Аграфена Александровна для того и выйдут за них, чтобы все на себя отписать и какие ни на есть капиталы на себя перевести-с. А помри ваш родитель теперь, пока еще этого нет ничего-с, то всякому из вас по сорока тысяч верных придется тотчас-с, даже и Дмитрию Федоровичу, которого они так ненавидят-с, так как завещания у них ведь не сделано-с… Это все отменно Дмитрию Федоровичу известно… | “He is in very great need of money now—the greatest need, Ivan Fyodorovitch. You don’t know in what need he is,” Smerdyakov explained, with perfect composure and remarkable distinctness. “He looks on that three thousand as his own, too. He said so to me himself. ‘My father still owes me just three thousand,’ he said. And besides that, consider, Ivan Fyodorovitch, there is something else perfectly true. It’s as good as certain, so to say, that Agrafena Alexandrovna will force him, if only she cares to, to marry her—the master himself, I mean, Fyodor Pavlovitch—if only she cares to, and of course she may care to. All I’ve said is that she won’t come, but maybe she’s looking for more than that—I mean to be mistress here. I know myself that Samsonov, her merchant, was laughing with her about it, telling her quite openly that it would not be at all a stupid thing to do. And she’s got plenty of sense. She wouldn’t marry a beggar like Dmitri Fyodorovitch. So, taking that into consideration, Ivan Fyodorovitch, reflect that then neither Dmitri Fyodorovitch nor yourself and your brother, Alexey Fyodorovitch, would have anything after the master’s death, not a rouble, for Agrafena Alexandrovna would marry him simply to get hold of the whole, all the money there is. But if your father were to die now, there’d be some forty thousand for sure, even for Dmitri Fyodorovitch whom he hates so, for he’s made no will…. Dmitri Fyodorovitch knows all that very well.” |
| Что-то как бы перекосилось и дрогнуло в лице Ивана Федоровича. Он вдруг покраснел. | A sort of shudder passed over Ivan’s face. He suddenly flushed. |
| – Так зачем же ты, – перебил он вдруг Смердякова, – после всего этого в Чермашню мне советуешь ехать? Что ты этим хотел сказать? Я уеду, и у вас вот что произойдет. – Иван Федорович с трудом переводил дух. | “Then why on earth,” he suddenly interrupted Smerdyakov, “do you advise me to go to Tchermashnya? What did you mean by that? If I go away, you see what will happen here.” Ivan drew his breath with difficulty. |
| – Совершенно верно-с, – тихо и рассудительно проговорил Смердяков, пристально однако же следя за Иваном Федоровичем. | “Precisely so,” said Smerdyakov, softly and reasonably, watching Ivan intently, however. |
| – Как совершенно верно? – переспросил Иван Федорович, с усилием сдерживая себя и грозно сверкая глазами. | “What do you mean by ‘precisely so’?” Ivan questioned him, with a menacing light in his eyes, restraining himself with difficulty. |
| – Я говорил вас жалеючи. На вашем месте, если бы только тут я, так все бы это тут же бросил… чем у такого дела сидеть-с… – ответил Смердяков, с самым открытым видом смотря на сверкающие глаза Ивана Федоровича. Оба помолчали. | “I spoke because I felt sorry for you. If I were in your place I should simply throw it all up … rather than stay on in such a position,” answered Smerdyakov, with the most candid air looking at Ivan’s flashing eyes. They were both silent. |
| – Ты кажется большой идиот и уж конечно… страшный мерзавец! – встал вдруг со скамейки Иван Федорович. Затем тотчас же хотел было пройти в калитку, но вдруг остановился и повернулся к Смердякову. Произошло что-то странное: Иван Федорович внезапно, как бы в судороге, закусил губу, сжал кулаки и – еще мгновение, конечно, бросился бы на Смердякова. Тот по крайней мере это заметил в тот же миг вздрогнул и отдернулся всем телом назад. Но мгновение прошло для Смердякова благополучно, и Иван Федорович молча, но как бы в каком-то недоумении, повернул в калитку. | “You seem to be a perfect idiot, and what’s more … an awful scoundrel, too.” Ivan rose suddenly from the bench. He was about to pass straight through the gate, but he stopped short and turned to Smerdyakov. Something strange followed. Ivan, in a sudden paroxysm, bit his lip, clenched his fists, and, in another minute, would have flung himself on Smerdyakov. The latter, anyway, noticed it at the same moment, started, and shrank back. But the moment passed without mischief to Smerdyakov, and Ivan turned in silence, as it seemed in perplexity, to the gate. |
| – Я завтра в Москву уезжаю, если хочешь это знать,- завтра рано утром – вот и все ! – со злобою, раздельно и громко вдруг проговорил он, сам себе потом удивляясь, каким образом понадобилось ему тогда это сказать Смердякову. | “I am going away to Moscow to‐morrow, if you care to know—early to‐morrow morning. That’s all!” he suddenly said aloud angrily, and wondered himself afterwards what need there was to say this then to Smerdyakov. Akirill.com |
| – Самое это лучшее-с, – подхватил тот, точно и ждал того, – только разве то, что из Москвы вас могут по телеграфу отсюда обеспокоить-с, в каком-либо таком случае-с. | “That’s the best thing you can do,” he responded, as though he had expected to hear it; “except that you can always be telegraphed for from Moscow, if anything should happen here.” |
| Иван Федорович опять остановился и опять быстро повернулся к Смердякову. Но и с тем точно что случилось. Вся фамильярность и небрежность его соскочили мгновенно; все лицо его выразило чрезвычайное внимание и ожидание, но уже робкое и подобострастное: “Не скажешь ли дескать еще чего, не прибавишь ли”, так и читалось в его пристальном, так и впившемся в Ивана Федоровича взгляде. | Ivan stopped again, and again turned quickly to Smerdyakov. But a change had passed over him, too. All his familiarity and carelessness had completely disappeared. His face expressed attention and expectation, intent but timid and cringing. “Haven’t you something more to say—something to add?” could be read in the intent gaze he fixed on Ivan. |
| – А из Чермашни разве не вызвали бы тоже… в каком-нибудь таком случае? – завопил вдруг Иван Федорович, не известно для чего вдруг ужасно возвысив голос. | “And couldn’t I be sent for from Tchermashnya, too—in case anything happened?” Ivan shouted suddenly, for some unknown reason raising his voice. |
| – Тоже-с и из Чермашни-с… обеспокоят-с… – пробормотал Смердяков почти шепотом, точно как бы потерявшись, но пристально, пристально продолжая смотреть Ивану Федоровичу прямо в глаза. | “From Tchermashnya, too … you could be sent for,” Smerdyakov muttered, almost in a whisper, looking disconcerted, but gazing intently into Ivan’s eyes. |
| – Только Москва дальше, а Чермашня ближе, так ты о прогонных деньгах жалеешь, что ли, настаивая в Чермашню, аль меня жалеешь, что я крюк большой сделаю? | “Only Moscow is farther and Tchermashnya is nearer. Is it to save my spending money on the fare, or to save my going so far out of my way, that you insist on Tchermashnya?” |
| – Совершенно верно-с… – пробормотал уже пресекшимся голосом Смердяков, гнусно улыбаясь и опять судорожно приготовившись во время отпрыгнуть назад. Но Иван Федорович вдруг, к удивлению Смердякова, засмеялся и быстро прошел в калитку, продолжая смеяться. Кто взглянул бы на его лицо, тот наверно заключил бы, что засмеялся он вовсе не оттого, что было так весело. Да и сам он ни за что не объяснил бы, что было тогда с ним в ту минуту. Двигался и шел он точно судорогой. | “Precisely so …” muttered Smerdyakov, with a breaking voice. He looked at Ivan with a revolting smile, and again made ready to draw back. But to his astonishment Ivan broke into a laugh, and went through the gate still laughing. Any one who had seen his face at that moment would have known that he was not laughing from lightness of heart, and he could not have explained himself what he was feeling at that instant. He moved and walked as though in a nervous frenzy. |
| VII. “С УМНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ И ПОГОВОРИТЬ ЛЮБОПЫТНО.” | Chapter VII. “It’s Always Worth While Speaking To A Clever Man” |
| Да и говорил тоже. Встретив Федора Павловича в зале, только что войдя, он вдруг закричал ему, махая руками: “Я к себе на верх, а не к вам, до свидания”, и прошел мимо, даже стараясь не взглянуть на отца. Очень может быть, что старик слишком был ему в эту минуту ненавистен, но такое бесцеремонное проявление враждебного чувства даже и для Федора Павловича было неожиданным. А старик и впрямь видно хотел ему что-то поскорей сообщить, для чего нарочно и вышел встретить его в залу; услышав же такую любезность, остановился молча и с насмешливым видом проследил сынка глазами на лестницу в мезонин, до тех пор пока тот скрылся из виду. | And in the same nervous frenzy, too, he spoke. Meeting Fyodor Pavlovitch in the drawing‐room directly he went in, he shouted to him, waving his hands, “I am going upstairs to my room, not in to you. Good‐by!” and passed by, trying not even to look at his father. Very possibly the old man was too hateful to him at that moment; but such an unceremonious display of hostility was a surprise even to Fyodor Pavlovitch. And the old man evidently wanted to tell him something at once and had come to meet him in the drawing‐room on purpose. Receiving this amiable greeting, he stood still in silence and with an ironical air watched his son going upstairs, till he passed out of sight. |
| – Чего это он? – быстро спросил он вошедшего вслед за Иваном Федоровичем Смердякова. | “What’s the matter with him?” he promptly asked Smerdyakov, who had followed Ivan. |
| < < < | > > > |
| Двуязычный текст, подготовленный Akirill.com , размещенные на сайте Akirill.com 19 июня 2022 года. 2022 года. Каждую из книг (на английском или русском языках) можно забрать отдельно и повторно использовать в личных и некоммерческих целях. Они свободны от авторского права. При любом совместном использовании двух книг должно быть указано их происхождение https://www.Akirill.com | Bilingual text prepared by Akirill.com , deposited on the site Akirill.com on June 19, 2022. Each of the books (English or French) can be taken back separately and reused for personal and non-commercial purposes. They are free of copyright. Any use of the two books side by side must mention their origin https://www.Akirill.com |
The Brothers Karamazov, by Fyodor Dostoyevsky
| If you liked this page, don’t forget to like and share. Si vous avez aimé cette page, n’oublier pas d’aimer et de partager. |
| Subscribe to not miss anything Abonnez-vous pour ne rien manquer |
| Check out our latest posts |
| Découvrez nos derniers articles |