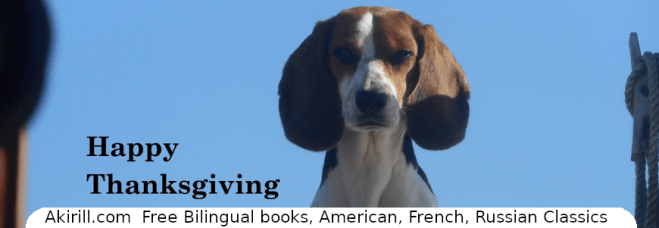Это не дословный перевод, а книга на двух языках, вышедшие бок о бок. Вы можете прочитать его на русском, английском или на обоих языках.
This is not a word-by-word translation but the books in the two languages put side by side. You can read it in Russian, in English or both.
Братья Карамазовы. Роман Федора Достоевского
| Братья Карамазовы. Роман Федора Достоевского | The Brothers Karamazov, by Fyodor Dostoyevsky |
| Том 2 | Book 2 |
| Часть 1 | Part 1 |
| < < < | > > > |
| Глава VI | Chapter VI |
| – Если не может решиться в положительную, то никогда не решится и в отрицательную, сами знаете это свойство вашего сердца; и в этом вся мука его. Но благодарите творца, что дал вам сердце высшее, способное такою мукой мучиться, “горняя мудрствовати и горних искати, наше бо жительство на небесех есть”. Дай вам бог, чтобы решение сердца вашего постигло вас еще на земле, и да благословит бог пути ваши! | “If it can’t be decided in the affirmative, it will never be decided in the negative. You know that that is the peculiarity of your heart, and all its suffering is due to it. But thank the Creator who has given you a lofty heart capable of such suffering; of thinking and seeking higher things, for our dwelling is in the heavens. God grant that your heart will attain the answer on earth, and may God bless your path.” |
| Старец поднял руку и хотел было с места перекрестить Ивана Федоровича. Но тот вдруг встал со стула, подошел к нему, принял его благословение и, поцеловав его руку, вернулся молча на свое место. Вид его был тверд и серьезен. Поступок этот, да и весь предыдущий, неожиданный от Ивана Федоровича, разговор со старцем как-то всех поразили своею загадочностью и даже какою-то торжественностью, так что все на минуту было примолкли, а в лице Алеши выразился почти испуг. Но Миусов вдруг вскинул плечами, и в ту же минуту Федор Павлович вскочил со стула. | The elder raised his hand and would have made the sign of the cross over Ivan from where he stood. But the latter rose from his seat, went up to him, received his blessing, and kissing his hand went back to his place in silence. His face looked firm and earnest. This action and all the preceding conversation, which was so surprising from Ivan, impressed every one by its strangeness and a certain solemnity, so that all were silent for a moment, and there was a look almost of apprehension in Alyosha’s face. But Miüsov suddenly shrugged his shoulders. And at the same moment Fyodor Pavlovitch jumped up from his seat. |
| – Божественный и святейший старец! – вскричал он, указывая на Ивана Федоровича: – Это мой сын, плоть от плоти моея, любимейшая плоть моя! Это мой почтительнейший, так-сказать, Карл Мор. а вот этот сейчас вошедший сын, Дмитрий Федорович, и против которого у вас управы ищу, – это уж непочтительнейший Франц Мор, – оба из Разбойников Шиллера, а я, я сам в таком случае уж Regierender Graf von Moor! Рассудите и спасите! Нуждаемся не только в молитвах, но и в пророчествах ваших. | “Most pious and holy elder,” he cried, pointing to Ivan, “that is my son, flesh of my flesh, the dearest of my flesh! He is my most dutiful Karl Moor, so to speak, while this son who has just come in, Dmitri, against whom I am seeking justice from you, is the undutiful Franz Moor—they are both out of Schiller’s Robbers, and so I am the reigning Count von Moor! Judge and save us! We need not only your prayers but your prophecies!” |
| – Говорите без юродства и не начинайте оскорблением домашних ваших. – ответил старец слабым изнеможенным голосом. Он видимо уставал, чем далее, тем более, и приметно лишался сил. | “Speak without buffoonery, and don’t begin by insulting the members of your family,” answered the elder, in a faint, exhausted voice. He was obviously getting more and more fatigued, and his strength was failing. |
| – Недостойная комедия, которую я предчувствовал еще идя сюда! – воскликнул Дмитрий Федорович в негодовании и тоже вскочив с места. – Простите, преподобный отец, – обратился он к старцу, – я человек необразованный и даже не знаю, как вас именовать, но вас обманули, а вы слишком были добры, позволив нам у вас съехаться. Батюшке нужен лишь скандал, для чего – это уж его расчет. У него всегда свой расчет. Но кажется я теперь знаю для чего… | “An unseemly farce which I foresaw when I came here!” cried Dmitri indignantly. He too leapt up. “Forgive it, reverend Father,” he added, addressing the elder. “I am not a cultivated man, and I don’t even know how to address you properly, but you have been deceived and you have been too good‐natured in letting us meet here. All my father wants is a scandal. Why he wants it only he can tell. He always has some motive. But I believe I know why—” |
| – Обвиняют меня все, все они! – кричал в свою очередь Федор Павлович, – вот и Петр Александрович обвиняет. Обвиняли, Петр Александрович, обвиняли! – обернулся он вдруг к Миусову, хотя тот и не думал перебивать его. – Обвиняют в том, что я детские деньги за сапог спрятал и взял баш-на-баш; но позвольте, разве не существует суда? Там вам сочтут, Дмитрий Федорович, по самым же распискам вашим, письмам и договорам, сколько у вас было, сколько вы истребили и сколько у вас остается! Отчего Петр Александрович уклоняется произнести суждение? Дмитрий Федорович ему не чужой. Оттого, что все на меня, а Дмитрий Федорович в итоге еще мне же должен, да не сколько-нибудь, а несколько тысяч-с, на что имею все документы! Ведь город трещит и гремит от его кутежей! А там, где он прежде служил, там по тысяче и по две за обольщение честных девиц платил; это, Дмитрий Федорович, нам известно-с, в самых секретных подробностях, и я докажу-с… Святейший отец, верите ли: влюбил в себя благороднейшую из девиц, хорошего дома, с состоянием, дочь прежнего начальника своего, храброго полковника, заслуженного, имевшего Анну с мечами на шее, компрометировал девушку предложением руки, теперь она здесь, теперь она сирота, его невеста, а он, на глазах ее, к одной здешней обольстительнице ходит. Но хоть обольстительница эта и жила так-сказать в гражданском браке с одним почтенным человеком, но характера независимого, крепость неприступная для всех, все равно что жена законная, ибо добродетельна, – да-с! отцы святые, она добродетельна! А Дмитрий Федорович хочет эту крепость золотым ключем отпереть, для чего он теперь надо мной и куражится, хочет с меня денег сорвать, а пока уж тысячи на эту обольстительницу просорил; на то и деньги занимает беспрерывно, и между прочим у кого, как вы думаете? Сказать аль нет, Митя? | “They all blame me, all of them!” cried Fyodor Pavlovitch in his turn. “Pyotr Alexandrovitch here blames me too. You have been blaming me, Pyotr Alexandrovitch, you have!” he turned suddenly to Miüsov, although the latter was not dreaming of interrupting him. “They all accuse me of having hidden the children’s money in my boots, and cheated them, but isn’t there a court of law? There they will reckon out for you, Dmitri Fyodorovitch, from your notes, your letters, and your agreements, how much money you had, how much you have spent, and how much you have left. Why does Pyotr Alexandrovitch refuse to pass judgment? Dmitri is not a stranger to him. Because they are all against me, while Dmitri Fyodorovitch is in debt to me, and not a little, but some thousands of which I have documentary proof. The whole town is echoing with his debaucheries. And where he was stationed before, he several times spent a thousand or two for the seduction of some respectable girl; we know all about that, Dmitri Fyodorovitch, in its most secret details. I’ll prove it…. Would you believe it, holy Father, he has captivated the heart of the most honorable of young ladies of good family and fortune, daughter of a gallant colonel, formerly his superior officer, who had received many honors and had the Anna Order on his breast. He compromised the girl by his promise of marriage, now she is an orphan and here; she is betrothed to him, yet before her very eyes he is dancing attendance on a certain enchantress. And although this enchantress has lived in, so to speak, civil marriage with a respectable man, yet she is of an independent character, an unapproachable fortress for everybody, just like a legal wife—for she is virtuous, yes, holy Fathers, she is virtuous. Dmitri Fyodorovitch wants to open this fortress with a golden key, and that’s why he is insolent to me now, trying to get money from me, though he has wasted thousands on this enchantress already. He’s continually borrowing money for the purpose. From whom do you think? Shall I say, Mitya?” |
| – Молчать! – закричал Дмитрий Федорович, – подождите, пока я выйду, а при мне не смейте марать благороднейшую девицу… Уж одно то, что вы о ней осмеливаетесь заикнуться, позор для нее… Не позволю! | “Be silent!” cried Dmitri, “wait till I’m gone. Don’t dare in my presence to asperse the good name of an honorable girl! That you should utter a word about her is an outrage, and I won’t permit it!” |
| Он задыхался. | He was breathless. |
| – Митя! Митя! – слабонервно и выдавливая из себя слезы вскричал Федор Павлович, – а родительское-то благословение на что? А ну прокляну, что тогда будет? | “Mitya! Mitya!” cried Fyodor Pavlovitch hysterically, squeezing out a tear. “And is your father’s blessing nothing to you? If I curse you, what then?” Akirill.com |
| – Бесстыдник и притворщик! – неистово рявкнул Дмитрий Федорович. | “Shameless hypocrite!” exclaimed Dmitri furiously. |
| – Это он отца, отца! Что же с прочими? Господа, представьте себе: есть здесь бедный, но почтенный человек, отставной капитан, был в несчастьи, отставлен от службы, но не гласно, не по суду, сохранив всю свою честь, многочисленным семейством обременен. А три недели тому наш Дмитрий Федорович в трактире схватил его за бороду, вытащил за эту самую бороду на улицу и на улице всенародно избил, и все за то, что тот состоит негласным поверенным по одному моему делишку. | “He says that to his father! his father! What would he be with others? Gentlemen, only fancy; there’s a poor but honorable man living here, burdened with a numerous family, a captain who got into trouble and was discharged from the army, but not publicly, not by court‐martial, with no slur on his honor. And three weeks ago, Dmitri seized him by the beard in a tavern, dragged him out into the street and beat him publicly, and all because he is an agent in a little business of mine.” |
| – Ложь все это! Снаружи правда, внутри ложь! – весь в гневе дрожал Дмитрий Федорович. – Батюшка! Я свои поступки не оправдываю; да, всенародно признаюсь: я поступил как зверь с этим капитаном и теперь сожалею и собой гнушаюсь за зверский гнев, но этот ваш капитан, ваш поверенный, пошел вот к этой самой госпоже, о которой вы выражаетесь, что она обольстительница, и стал ей предлагать от вашего имени, чтоб она взяла имеющиеся у вас мои векселя и подала на меня, чтобы по этим векселям меня засадить, если я уж слишком буду приставать к вам в расчетах по имуществу. Вы же теперь меня упрекаете тем, что я имею слабость к этой госпоже, тогда как сами же учили ее заманить меня! Ведь она прямо в глаза рассказывает, сама мне рассказывала, над вами смеясь! Засадить же вы меня хотите только потому что меня к ней же ревнуете, потому что сами вы приступать начали к этой женщине со своею любовью, и мне это опять-таки все известно, и опять-таки она смеялась, – слышите, – смеясь над вами пересказывала. Так вот вам. святые люди, этот человек, этот упрекающий развратного сына отец! Господа свидетели, простите гнев мой, но я предчувствовал, что этот коварный старик созвал всех вас сюда на скандал. Я пошел с тем, чтобы простить, если б он протянул мне руку, простить и прощения просить! Но так как он оскорбил сию минуту не только меня, но и благороднейшую девицу, которой даже имени не смею произнести всуе из благоговения к ней, то и решился обнаружить всю его игру публично, хотя бы он и отец мой!.. | “It’s all a lie! Outwardly it’s the truth, but inwardly a lie!” Dmitri was trembling with rage. “Father, I don’t justify my action. Yes, I confess it publicly, I behaved like a brute to that captain, and I regret it now, and I’m disgusted with myself for my brutal rage. But this captain, this agent of yours, went to that lady whom you call an enchantress, and suggested to her from you, that she should take I.O.U.’s of mine which were in your possession, and should sue me for the money so as to get me into prison by means of them, if I persisted in claiming an account from you of my property. Now you reproach me for having a weakness for that lady when you yourself incited her to captivate me! She told me so to my face…. She told me the story and laughed at you…. You wanted to put me in prison because you are jealous of me with her, because you’d begun to force your attentions upon her; and I know all about that, too; she laughed at you for that as well—you hear—she laughed at you as she described it. So here you have this man, this father who reproaches his profligate son! Gentlemen, forgive my anger, but I foresaw that this crafty old man would only bring you together to create a scandal. I had come to forgive him if he held out his hand; to forgive him, and ask forgiveness! But as he has just this minute insulted not only me, but an honorable young lady, for whom I feel such reverence that I dare not take her name in vain, I have made up my mind to show up his game, though he is my father….” |
| Он не мог более продолжать. Глаза его сверкали, он дышал трудно. Но и все в кельи были взволнованы. Все кроме старца с беспокойством встали со своих мест. Отцы иеромонахи смотрели сурово, но ждали однако воли старца. Тот же сидел совсем уже бледный, но не от волнения, а от болезненного бессилия. Умоляющая улыбка светилась на губах его; он изредка подымал руку, как бы желая остановить беснующихся, и уж конечно одного жеста его было бы достаточно, чтобы сцена была прекращена; но он сам как будто чего-то еще выжидал и пристально приглядывался, как бы желая что-то еще понять, как бы еще не уяснив себе чего-то. Наконец Петр Александрович Миусов окончательно почувствовал себя униженным и опозоренным. | He could not go on. His eyes were glittering and he breathed with difficulty. But every one in the cell was stirred. All except Father Zossima got up from their seats uneasily. The monks looked austere but waited for guidance from the elder. He sat still, pale, not from excitement but from the weakness of disease. An imploring smile lighted up his face; from time to time he raised his hand, as though to check the storm, and, of course, a gesture from him would have been enough to end the scene; but he seemed to be waiting for something and watched them intently as though trying to make out something which was not perfectly clear to him. At last Miüsov felt completely humiliated and disgraced. |
| – В происшедшем скандале мы все виноваты! – горячо проговорил он, – но я все же ведь не предчувствовал, идя сюда, хотя и знал, с кем имею дело… Это надо кончить сейчас же! Ваше преподобие, поверьте, что я всех обнаруженных здесь подробностей в точности не знал, не хотел им верить и только теперь в первый раз узнаю… Отец ревнует сына к скверного поведения женщине и сам с этою же тварью сговаривается засадить сына в тюрьму… И вот в такой-то компании меня принудили сюда явиться… Я обманут, я заявляю всем, что обманут не меньше других… | “We are all to blame for this scandalous scene,” he said hotly. “But I did not foresee it when I came, though I knew with whom I had to deal. This must be stopped at once! Believe me, your reverence, I had no precise knowledge of the details that have just come to light, I was unwilling to believe them, and I learn for the first time…. A father is jealous of his son’s relations with a woman of loose behavior and intrigues with the creature to get his son into prison! This is the company in which I have been forced to be present! I was deceived. I declare to you all that I was as much deceived as any one.” |
| – Дмитрий Федорович! – завопил вдруг каким-то не своим голосом Федор Павлович, – если бы только вы не мой сын, то я в ту же минуту вызвал бы вас на дуэль… на пистолетах, на расстоянии трех шагов… через платок! через платок! – кончил он, топая обеими ногами. | “Dmitri Fyodorovitch,” yelled Fyodor Pavlovitch suddenly, in an unnatural voice, “if you were not my son I would challenge you this instant to a duel … with pistols, at three paces … across a handkerchief,” he ended, stamping with both feet. |
| Есть у старых лгунов, всю жизнь свою проактерствовавших, минуты, когда они до того зарисуются, что уже воистину дрожат и плачут от волнения, несмотря на то, что даже в это самое мгновение (или секунду только спустя) могли бы сами шепнуть себе: “ведь ты лжешь, старый бесстыдник, ведь ты актер и теперь, несмотря на весь твой “святой” гнев и “святую” минуту гнева”. | With old liars who have been acting all their lives there are moments when they enter so completely into their part that they tremble or shed tears of emotion in earnest, although at that very moment, or a second later, they are able to whisper to themselves, “You know you are lying, you shameless old sinner! You’re acting now, in spite of your ‘holy’ wrath.” |
| Дмитрий Федорович страшно нахмурился и с невыразимым презрением поглядел на отца: | Dmitri frowned painfully, and looked with unutterable contempt at his father. |
| – Я думал… я думал, – как-то тихо и сдержанно проговорил он, – что приеду на родину с ангелом души моей, невестою моей, чтобы лелеять его старость, а вижу лишь развратного сладострастника и подлейшего комедианта! | “I thought … I thought,” he said, in a soft and, as it were, controlled voice, “that I was coming to my native place with the angel of my heart, my betrothed, to cherish his old age, and I find nothing but a depraved profligate, a despicable clown!” |
| – На дуэль! – завопил опять старикашка, задыхаясь и брызгаясь с каждым словом слюной. – А вы, Петр Александрович Миусов, знайте, сударь, что может быть во всем вашем роде нет и не было выше и честнее, – слышите, честнее – женщины, как эта по-вашему тварь, как вы осмелились сейчас назвать ее! А вы, Дмитрий Федорович, на эту же “тварь” вашу невесту променяли, стало быть сами присудили, что и невеста ваша подошвы ее не стоит, вот какова эта тварь! | “A duel!” yelled the old wretch again, breathless and spluttering at each syllable. “And you, Pyotr Alexandrovitch Miüsov, let me tell you that there has never been in all your family a loftier, and more honest—you hear—more honest woman than this ‘creature,’ as you have dared to call her! And you, Dmitri Fyodorovitch, have abandoned your betrothed for that ‘creature,’ so you must yourself have thought that your betrothed couldn’t hold a candle to her. That’s the woman called a ‘creature’!” |
| – Стыдно! – вырвалось вдруг у отца Иосифа. | “Shameful!” broke from Father Iosif. |
| – Стыдно и позорно! – своим отроческим голосом, дрожащим от волнения, и весь покраснев, крикнул вдруг Калганов, все время молчавший. | “Shameful and disgraceful!” Kalganov, flushing crimson, cried in a boyish voice, trembling with emotion. He had been silent till that moment. |
| – Зачем живет такой человек! – глухо прорычал Дмитрий Федорович, почти уже в исступлении от гнева, как-то чрезвычайно приподняв плечи и почти от того сгорбившись, – нет, скажите мне, можно ли еще позволить ему бесчестить собою землю, – оглядел он всех, указывая на старика рукой. Он говорил медленно и мерно. | “Why is such a man alive?” Dmitri, beside himself with rage, growled in a hollow voice, hunching up his shoulders till he looked almost deformed. “Tell me, can he be allowed to go on defiling the earth?” He looked round at every one and pointed at the old man. He spoke evenly and deliberately. |
| – Слышите ли, слышите ли вы, монахи, отцеубийцу, – набросился Федор Павлович на отца Иосифа. – Вот ответ на ваше “стыдно”! Что стыдно? Эта “тварь”, эта “скверного поведения женщина” может быть святее вас самих, господа спасающиеся иеромонахи! Она может быть в юности пала, заеденная средой, но она “возлюбила много”, а возлюбившую много и Христос простил… Akirill.com | “Listen, listen, monks, to the parricide!” cried Fyodor Pavlovitch, rushing up to Father Iosif. “That’s the answer to your ‘shameful!’ What is shameful? That ‘creature,’ that ‘woman of loose behavior’ is perhaps holier than you are yourselves, you monks who are seeking salvation! She fell perhaps in her youth, ruined by her environment. But she loved much, and Christ himself forgave the woman ‘who loved much.’ ” |
| – Христос не за такую любовь простил… – вырвалось в нетерпении у кроткого отца Иосифа. | “It was not for such love Christ forgave her,” broke impatiently from the gentle Father Iosif. |
| – Нет, за такую, за эту самую, монахи, за эту! Вы здесь на капусте спасаетесь и думаете, что праведники! Пискариков кушаете, в день по пискарику, и думаете пискариками бога купить! | “Yes, it was for such, monks, it was! You save your souls here, eating cabbage, and think you are the righteous. You eat a gudgeon a day, and you think you bribe God with gudgeon.” |
| – Невозможно, невозможно! – слышалось в кельи со всех сторон. | “This is unendurable!” was heard on all sides in the cell. |
| Но вся эта дошедшая до безобразия сцена прекратилась самым неожиданным образом. Вдруг поднялся с места старец. Совсем почти потерявшийся от страха за него и за всех, Алеша успел однако поддержать его за руку. Старец шагнул по направлению к Дмитрию Федоровичу и, дойдя до него вплоть, опустился пред ним на колени. Алеша подумал было, что он упал от бессилия, но это было не то. Став на колени, старец поклонился Дмитрию Федоровичу в ноги полным, отчетливым, сознательным поклоном, и даже лбом своим коснулся земли. Алеша был так изумлен, что даже не успел поддержать его, когда тот поднимался. Слабая улыбка чуть-чуть блестела на его губах. | But this unseemly scene was cut short in a most unexpected way. Father Zossima rose suddenly from his seat. Almost distracted with anxiety for the elder and every one else, Alyosha succeeded, however, in supporting him by the arm. Father Zossima moved towards Dmitri and reaching him sank on his knees before him. Alyosha thought that he had fallen from weakness, but this was not so. The elder distinctly and deliberately bowed down at Dmitri’s feet till his forehead touched the floor. Alyosha was so astounded that he failed to assist him when he got up again. There was a faint smile on his lips. |
| – Простите! Простите все! – проговорил он, откланиваясь на все стороны своим гостям. | “Good‐by! Forgive me, all of you!” he said, bowing on all sides to his guests. |
| Дмитрий Федорович стоял несколько мгновений как пораженный: ему поклон в ноги – что такое? Наконец вдруг вскрикнул: “О, боже!” и, закрыв руками лицо, бросился вон из комнаты. За ним повалили гурьбой и все гости, от смущения даже не простясь и не откланявшись хозяину. Одни только иеромонахи опять подошли под благословение. | Dmitri stood for a few moments in amazement. Bowing down to him—what did it mean? Suddenly he cried aloud, “Oh, God!” hid his face in his hands, and rushed out of the room. All the guests flocked out after him, in their confusion not saying good‐by, or bowing to their host. Only the monks went up to him again for a blessing. |
| – Это что же он в ноги-то, это эмблема какая-нибудь? – попробовал было разговор начать вдруг почему-то присмиревший Федор Павлович, ни к кому впрочем не осмеливаясь обратиться лично. Они все в эту минуту выходили из ограды скита. | “What did it mean, falling at his feet like that? Was it symbolic or what?” said Fyodor Pavlovitch, suddenly quieted and trying to reopen conversation without venturing to address anybody in particular. They were all passing out of the precincts of the hermitage at the moment. |
| – Я за сумасшедший дом и за сумасшедших не отвечаю,- тотчас же озлобленно ответил Миусов, – но зато избавлю себя от вашего общества, Федор Павлович, и, поверьте, что навсегда. Где этот давешний монах?.. | “I can’t answer for a madhouse and for madmen,” Miüsov answered at once ill‐humoredly, “but I will spare myself your company, Fyodor Pavlovitch, and, trust me, for ever. Where’s that monk?” |
| Но “этот монах”, то-есть тот, который приглашал их давеча на обед к игумену, ждать себя не заставил. Он тут же встретил гостей, тотчас же как они сошли с крылечка из кельи старца, точно дожидал их все время. | “That monk,” that is, the monk who had invited them to dine with the Superior, did not keep them waiting. He met them as soon as they came down the steps from the elder’s cell, as though he had been waiting for them all the time. |
| – Сделайте одолжение, почтенный отец, засвидетельствуйте все мое глубокое уважение отцу игумену и извините меня лично, Миусова, пред его высокопреподобием в том, что по встретившимся внезапно непредвиденным обстоятельствам ни за что не могу иметь честь принять участие в его трапезе, несмотря на все искреннейшее желание мое, – раздражительно проговорил монаху Петр Александрович. | “Reverend Father, kindly do me a favor. Convey my deepest respect to the Father Superior, apologize for me, personally, Miüsov, to his reverence, telling him that I deeply regret that owing to unforeseen circumstances I am unable to have the honor of being present at his table, greatly as I should desire to do so,” Miüsov said irritably to the monk. |
| – А ведь непредвиденное-то обстоятельство – это ведь я!- сейчас же подхватил Федор Павлович. – Слышите, отец, это Петр Александрович со мной не желает вместе оставаться, а то бы он тотчас пошел. И пойдете, Петр Александрович, извольте пожаловать к отцу игумену, и – доброго вам аппетита! Знайте, что это я уклонюсь, а не вы. Домой, домой, дома поем, а здесь чувствую себя неспособным, Петр Александрович, мой любезнейший родственник. | “And that unforeseen circumstance, of course, is myself,” Fyodor Pavlovitch cut in immediately. “Do you hear, Father; this gentleman doesn’t want to remain in my company or else he’d come at once. And you shall go, Pyotr Alexandrovitch, pray go to the Father Superior and good appetite to you. I will decline, and not you. Home, home, I’ll eat at home, I don’t feel equal to it here, Pyotr Alexandrovitch, my amiable relative.” |
| – Не родственник я вам и никогда им не был, низкий вы человек! | “I am not your relative and never have been, you contemptible man!” |
| – Я нарочно и сказал, чтобы вас побесить, потому что вы от родства уклоняетесь, хотя все-таки вы родственник, как ни финтите, по святцам докажу; за тобой, Иван Федорович, я в свое время лошадей пришлю, оставайся, если хочешь и ты. Вам же, Петр Александрович, даже приличие велит теперь явиться к отцу игумену, надо извиниться в том, что мы с вами там накутили… | “I said it on purpose to madden you, because you always disclaim the relationship, though you really are a relation in spite of your shuffling. I’ll prove it by the church calendar. As for you, Ivan, stay if you like. I’ll send the horses for you later. Propriety requires you to go to the Father Superior, Pyotr Alexandrovitch, to apologize for the disturbance we’ve been making….” |
| – Да правда ли, что вы уезжаете? Не лжете ли вы? | “Is it true that you are going home? Aren’t you lying?” |
| – Петр Александрович, как же бы я посмел после того, что случилось! Увлекся, простите, господа, увлекся! И кроме того потрясен! Да и стыдно. Господа, у иного сердце как у Александра Македонского, а у другого как у собачки Фидельки. У меня как у собачки Фидельки. Обробел! Ну как после такого эскапада да еще на обед, соусы монастырские уплетать? Стыдно, не могу, извините! | “Pyotr Alexandrovitch! How could I dare after what’s happened! Forgive me, gentlemen, I was carried away! And upset besides! And, indeed, I am ashamed. Gentlemen, one man has the heart of Alexander of Macedon and another the heart of the little dog Fido. Mine is that of the little dog Fido. I am ashamed! After such an escapade how can I go to dinner, to gobble up the monastery’s sauces? I am ashamed, I can’t. You must excuse me!” |
| “Чорт его знает, а ну как обманывает!” остановился в раздумьи Миусов, следя недоумевающим взглядом за удалявшимся шутом. Тот обернулся и, заметив, что Петр Александрович за ним следит, послал ему рукою поцелуй. | “The devil only knows, what if he deceives us?” thought Miüsov, still hesitating, and watching the retreating buffoon with distrustful eyes. The latter turned round, and noticing that Miüsov was watching him, waved him a kiss. |
| – Вы-то идете к игумену? – отрывисто спросил Миусов Ивана Федоровича. | “Well, are you coming to the Superior?” Miüsov asked Ivan abruptly. |
| – Почему же нет? К тому же я особенно приглашен игуменом еще вчерашнего дня. | “Why not? I was especially invited yesterday.” |
| – К несчастию, я действительно чувствую себя почти в необходимости явиться на этот проклятый обед, – все с тою же горькою раздражительностью продолжал Миусов, даже и не обращая внимания, что монашек слушает. – Хоть там-то извиниться надо за то, что мы здесь натворили, и разъяснить, что это не мы… Как вы думаете? | “Unfortunately I feel myself compelled to go to this confounded dinner,” said Miüsov with the same irritability, regardless of the fact that the monk was listening. “We ought, at least, to apologize for the disturbance, and explain that it was not our doing. What do you think?” |
| – Да, надо разъяснить, что это не мы. К тому же батюшки не будет, – заметил Иван Федорович. | “Yes, we must explain that it wasn’t our doing. Besides, father won’t be there,” observed Ivan. |
| – Да еще же бы с вашим батюшкой! Проклятый этот обед! | “Well, I should hope not! Confound this dinner!” |
| И однако все шли. Монашек молчал и слушал. Дорогой через лесок он только раз лишь заметил, что отец игумен давно уже ожидают и что более получаса опоздали. Ему не ответили. Миусов с ненавистью посмотрел на Ивана Федоровича: | They all walked on, however. The monk listened in silence. On the road through the copse he made one observation however—that the Father Superior had been waiting a long time, and that they were more than half an hour late. He received no answer. Miüsov looked with hatred at Ivan. |
| “А ведь идет на обед, как ни в чем не бывало!” – подумал он. – “Медный лоб и Карамазовская совесть”. | “Here he is, going to the dinner as though nothing had happened,” he thought. “A brazen face, and the conscience of a Karamazov!” |
| VII. СЕМИНАРИСТ-КАРЬЕРИСТ. | Chapter VII. A Young Man Bent On A Career |
| Алеша довел своего старца в спаленку и усадил на кровать. Это была очень маленькая комнатка с необходимою мебелью; кровать была узенькая, железная, а на ней вместо тюфяка один только войлок. В уголку, у икон, стоял налой, а на нем лежали крест и Евангелие. Старец опустился на кровать в бессилии; глаза его блестели и дышал он трудно. Усевшись, он пристально и как бы обдумывая нечто посмотрел на Алешу. | Alyosha helped Father Zossima to his bedroom and seated him on his bed. It was a little room furnished with the bare necessities. There was a narrow iron bedstead, with a strip of felt for a mattress. In the corner, under the ikons, was a reading‐desk with a cross and the Gospel lying on it. The elder sank exhausted on the bed. His eyes glittered and he breathed hard. He looked intently at Alyosha, as though considering something. |
| – Ступай, милый, ступай, мне и Порфирия довольно, а ты поспеши. Ты там нужен, ступай к отцу игумену, за обедом и прислужи. | “Go, my dear boy, go. Porfiry is enough for me. Make haste, you are needed there, go and wait at the Father Superior’s table.” |
| – Благословите здесь остаться, – просящим голосом вымолвил Алеша. | “Let me stay here,” Alyosha entreated. |
| – Ты там нужнее. Там миру нет. Прислужишь и пригодишься. Подымутся беси, молитву читай. И знай, сынок (старец любил его так называть), что и впредь тебе не здесь место. Запомни сие, юноша. Как только сподобит бог преставиться мне – и уходи из монастыря. Совсем иди. | “You are more needed there. There is no peace there. You will wait, and be of service. If evil spirits rise up, repeat a prayer. And remember, my son”—the elder liked to call him that—“this is not the place for you in the future. When it is God’s will to call me, leave the monastery. Go away for good.” |
| Алеша вздрогнул. | Alyosha started. |
| – Чего ты? Не здесь твое место пока. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать. И ожениться должен будешь, должен. Все должен будешь перенести, пока вновь прибудеши. А дела много будет. Но в тебе не сомневаюсь, потому и посылаю тебя. С тобой Христос. Сохрани его и он сохранит тебя. Горе узришь великое и в горе сем счастлив будешь. Вот тебе завет: в горе счастья ищи. Работай, неустанно работай. Запомни слово мое отныне, ибо хотя и буду еще беседовать с тобой, но не только дни, а и часы мои сочтены. | “What is it? This is not your place for the time. I bless you for great service in the world. Yours will be a long pilgrimage. And you will have to take a wife, too. You will have to bear all before you come back. There will be much to do. But I don’t doubt of you, and so I send you forth. Christ is with you. Do not abandon Him and He will not abandon you. You will see great sorrow, and in that sorrow you will be happy. This is my last message to you: in sorrow seek happiness. Work, work unceasingly. Remember my words, for although I shall talk with you again, not only my days but my hours are numbered.” |
| В лице Алеши опять изобразилось сильное движение. Углы губ его тряслись. | Alyosha’s face again betrayed strong emotion. The corners of his mouth quivered. |
| – Чего же ты снова? – тихо улыбнулся старец. – Пусть мирские слезами провожают своих покойников, а мы здесь отходящему отцу радуемся. Радуемся и молим о нем. Оставь же меня. Молиться надо. Ступай и поспеши. Около братьев будь. Да не около одного, а около обоих. | “What is it again?” Father Zossima asked, smiling gently. “The worldly may follow the dead with tears, but here we rejoice over the father who is departing. We rejoice and pray for him. Leave me, I must pray. Go, and make haste. Be near your brothers. And not near one only, but near both.” |
| Старец поднял руку благословить. Возражать было невозможно, хотя Алеше чрезвычайно хотелось остаться. Хотелось ему еще спросить, и даже с языка срывался вопрос: что предозначал этот земной поклон брату Дмитрию? но он не посмел спросить. Он знал, что старец и сам бы, без вопроса, ему разъяснил, если бы можно было. Но значит не было на то его воли. А поклон этот страшно поразил Алешу; он веровал слепо, что в нем был таинственный смысл. Таинственный, а может быть и ужасный. Когда он вышел за ограду скита, чтобы поспеть в монастырь к началу обеда у игумена (конечно, чтобы только прислужить за столом), у него вдруг больно сжалось сердце, и он остановился на месте: пред ним как бы снова прозвучали слова старца, предрекавшего столь близкую кончину свою. Что предрекал, да еще с такою точностию, старец, то должно было случиться несомненно, Алеша веровал тому свято. Но как же он останется без него, как же будет он не видеть его, не слышать его? И куда он пойдет? Велит не плакать и идти из монастыря, господи! Давно уже Алеша не испытывал такой тоски. Он пошел поскорее лесом, отделявшим скит от монастыря, и, не в силах даже выносить свои мысли, до того они давили его, стал смотреть на вековые сосны по обеим сторонам лесной дорожки. Переход был не длинен, шагов в пятьсот не более; в этот час никто бы не мог и повстречаться, но вдруг на первом изгибе дорожки он заметил Ракитина. Тот поджидал кого-то. | Father Zossima raised his hand to bless him. Alyosha could make no protest, though he had a great longing to remain. He longed, moreover, to ask the significance of his bowing to Dmitri, the question was on the tip of his tongue, but he dared not ask it. He knew that the elder would have explained it unasked if he had thought fit. But evidently it was not his will. That action had made a terrible impression on Alyosha; he believed blindly in its mysterious significance. Mysterious, and perhaps awful. As he hastened out of the hermitage precincts to reach the monastery in time to serve at the Father Superior’s dinner, he felt a sudden pang at his heart, and stopped short. He seemed to hear again Father Zossima’s words, foretelling his approaching end. What he had foretold so exactly must infallibly come to pass. Alyosha believed that implicitly. But how could he be left without him? How could he live without seeing and hearing him? Where should he go? He had told him not to weep, and to leave the monastery. Good God! It was long since Alyosha had known such anguish. He hurried through the copse that divided the monastery from the hermitage, and unable to bear the burden of his thoughts, he gazed at the ancient pines beside the path. He had not far to go—about five hundred paces. He expected to meet no one at that hour, but at the first turn of the path he noticed Rakitin. He was waiting for some one. |
| – Не меня ли ждешь? – спросил поравнявшись с ним Алеша. | “Are you waiting for me?” asked Alyosha, overtaking him. |
| – Именно тебя, – усмехнулся Ракитин. – Поспешаешь к отцу игумену. Знаю; у того стол. С самого того времени, как архиерея с генералом Пахатовым принимал, помнишь, такого стола еще не было. Я там не буду, а ты ступай, соусы подавай. Скажи ты мне, Алексей, одно: что сей сон значит? я вот что хотел спросить. | “Yes,” grinned Rakitin. “You are hurrying to the Father Superior, I know; he has a banquet. There’s not been such a banquet since the Superior entertained the Bishop and General Pahatov, do you remember? I shan’t be there, but you go and hand the sauces. Tell me one thing, Alexey, what does that vision mean? That’s what I want to ask you.” |
| – Какой сон? | “What vision?” |
| – А вот земной-то поклон твоему братцу Дмитрию Федоровичу. Да еще как лбом-то стукнулся! | “That bowing to your brother, Dmitri. And didn’t he tap the ground with his forehead, too!” |
| – Это ты про отца Зосиму? | “You speak of Father Zossima?” |
| – Да, про отца Зосиму. | “Yes, of Father Zossima.” |
| – Лбом? | “Tapped the ground?” |
| – А, непочтительно выразился! Ну, пусть непочтительно. Итак, что же сей сон означает? | “Ah, an irreverent expression! Well, what of it? Anyway, what does that vision mean?” |
| – Не знаю, Миша, что значит. | “I don’t know what it means, Misha.” |
| – Так я и знал, что он тебе это не объяснит. Мудреного тут конечно нет ничего, одни бы кажись всегдашние благоглупости. Но фокус был проделан нарочно. Вот теперь и заговорят все святоши в городе и по губернии разнесут: “Что дескать сей сон означает?” По моему, старик действительно прозорлив: уголовщину пронюхал. Смердит у вас. | “I knew he wouldn’t explain it to you! There’s nothing wonderful about it, of course, only the usual holy mummery. But there was an object in the performance. All the pious people in the town will talk about it and spread the story through the province, wondering what it meant. To my thinking the old man really has a keen nose; he sniffed a crime. Your house stinks of it.” |
| – Какую уголовщину? | “What crime?” |
| Ракитину видимо хотелось что-то высказать. | Rakitin evidently had something he was eager to speak of. |
| – В вашей семейке она будет, эта уголовщина. Случится она между твоими братцами и твоим богатеньким батюшкой. Вот отец Зосима и стукнулся лбом на всякий будущий случай. Потом, что случится: “ах, ведь это старец святой предрек, напророчествовал”, – хотя какое бы в том пророчество, что он лбом стукнулся? Нет, это, дескать, эмблема была, аллегория, и чорт знает что! Расславят, запомнят: преступление, дескать, предугадал, преступника отметил. У юродивых и все так: на кабак крестится, а в храм камнями мечет. Так и твой старец: праведника палкой вон, а убийце в ноги поклон. | “It’ll be in your family, this crime. Between your brothers and your rich old father. So Father Zossima flopped down to be ready for what may turn up. If something happens later on, it’ll be: ‘Ah, the holy man foresaw it, prophesied it!’ though it’s a poor sort of prophecy, flopping like that. ‘Ah, but it was symbolic,’ they’ll say, ‘an allegory,’ and the devil knows what all! It’ll be remembered to his glory: ‘He predicted the crime and marked the criminal!’ That’s always the way with these crazy fanatics; they cross themselves at the tavern and throw stones at the temple. Like your elder, he takes a stick to a just man and falls at the feet of a murderer.” |
| – Какое преступление? Какому убийце! Что ты? – Алеша стал как вкопаный, остановился и Ракитин. | “What crime? What murderer? What do you mean?” Alyosha stopped dead. Rakitin stopped, too. |
| – Какому? Быдто не знаешь? Бьюсь об заклад, что ты сам уж об этом думал. Кстати, это любопытно: слушай, Алеша, ты всегда правду говоришь, хотя всегда между двух стульев садишься: думал ты об этом или не думал, отвечай? | “What murderer? As though you didn’t know! I’ll bet you’ve thought of it before. That’s interesting, too, by the way. Listen, Alyosha, you always speak the truth, though you’re always between two stools. Have you thought of it or not? Answer.” |
| – Думал, – тихо ответил Алеша. Даже Ракитин смутился. | “I have,” answered Alyosha in a low voice. Even Rakitin was taken aback. |
| – Что ты? Да неужто и ты уж думал? – вскричал он. | “What? Have you really?” he cried. |
| – Я… я не то чтобы думал, – пробормотал Алеша, – а вот как ты сейчас стал про это так странно говорить, то мне и показалось, что я про это сам думал. | “I … I’ve not exactly thought it,” muttered Alyosha, “but directly you began speaking so strangely, I fancied I had thought of it myself.” |
| – Видишь (и как ты это ясно выразил), видишь? Сегодня, глядя на папашу и на братца Митеньку, о преступлении подумал? Стало быть, не ошибаюсь же я? | “You see? (And how well you expressed it!) Looking at your father and your brother Mitya to‐day you thought of a crime. Then I’m not mistaken?” |
| – Да подожди, подожди, – тревожно прервал Алеша, – из чего ты-то все это видишь?.. Почему это тебя так занимает, вот первое дело. | “But wait, wait a minute,” Alyosha broke in uneasily. “What has led you to see all this? Why does it interest you? That’s the first question.” |
| – Два вопроса раздельные, но естественные. Отвечу на каждый порознь. Почему вижу? Ничего я бы тут не видел, если бы Дмитрия Федоровича, брата твоего, вдруг сегодня не понял всего, как есть, разом и вдруг, всего как он есть. По какой-то одной черте так и захватил его разом всего. У этих честнейших, но любострастных людей есть черта, которую не переходи. Не то – не то он и папеньку ножем пырнет. А папенька пьяный и невоздержный беспутник, никогда и ни в чем меры не понимал – не удержатся оба и бух оба в канаву… | “Two questions, disconnected, but natural. I’ll deal with them separately. What led me to see it? I shouldn’t have seen it, if I hadn’t suddenly understood your brother Dmitri, seen right into the very heart of him all at once. I caught the whole man from one trait. These very honest but passionate people have a line which mustn’t be crossed. If it were, he’d run at your father with a knife. But your father’s a drunken and abandoned old sinner, who can never draw the line—if they both let themselves go, they’ll both come to grief.” |
| – Нет, Миша, нет, если только это, так ты меня ободрил. До того не дойдет. | “No, Misha, no. If that’s all, you’ve reassured me. It won’t come to that.” |
| – А ты чего весь трясешься? Знаешь ты штуку? Пусть он и честный человек, Митенька-то (он глуп, но честен); но он – сладострастник. Вот его определение и вся внутренняя суть. Это отец ему передал свое подлое сладострастие. Ведь я только на тебя, Алеша, дивлюсь: как это ты девственник? Ведь и ты Карамазов! Ведь в вашем семействе сладострастие до воспаления доведено. Ну вот эти три сладострастника друг за другом теперь и следят… с ножами за сапогом. Состукнулись трое лбами, а ты пожалуй четвертый. | “But why are you trembling? Let me tell you; he may be honest, our Mitya (he is stupid, but honest), but he’s—a sensualist. That’s the very definition and inner essence of him. It’s your father has handed him on his low sensuality. Do you know, I simply wonder at you, Alyosha, how you can have kept your purity. You’re a Karamazov too, you know! In your family sensuality is carried to a disease. But now, these three sensualists are watching one another, with their knives in their belts. The three of them are knocking their heads together, and you may be the fourth.” |
| – Ты про эту женщину ошибаешься. Дмитрий ее… презирает, – как-то вздрагивая проговорил Алеша. | “You are mistaken about that woman. Dmitri—despises her,” said Alyosha, with a sort of shudder. |
| – Грушеньку-то? Нет, брат, не презирает. Уж когда невесту свою в явь на нее променял, то не презирает. Тут… тут, брат, нечто, чего ты теперь не поймешь. Тут влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского (это сладострастник может понять), то и отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество; будучи честен, пойдет и украдет; будучи кроток – зарежет, будучи верен – изменит. Певец женских ножек, Пушкин, ножки в стихах воспевал; другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь не одни ножки… Тут, брат, презрение не помогает, хотя бы он и презирал Грушеньку. И презирает, да оторваться не может. | “Grushenka? No, brother, he doesn’t despise her. Since he has openly abandoned his betrothed for her, he doesn’t despise her. There’s something here, my dear boy, that you don’t understand yet. A man will fall in love with some beauty, with a woman’s body, or even with a part of a woman’s body (a sensualist can understand that), and he’ll abandon his own children for her, sell his father and mother, and his country, Russia, too. If he’s honest, he’ll steal; if he’s humane, he’ll murder; if he’s faithful, he’ll deceive. Pushkin, the poet of women’s feet, sung of their feet in his verse. Others don’t sing their praises, but they can’t look at their feet without a thrill—and it’s not only their feet. Contempt’s no help here, brother, even if he did despise Grushenka. He does, but he can’t tear himself away.” |
| – Я это понимаю, – вдруг брякнул Алеша. | “I understand that,” Alyosha jerked out suddenly. |
| – Быдто? И впрямь, стало быть ты это понимаешь, коли так с первого слова брякнул, что понимаешь, – с злодорадством проговорил Ракитин. – Ты это нечаянно брякнул, это вырвалось. Тем драгоценнее признание: стало быть, тебе уж знакомая тема, об этом уж думал, о сладострастьи-то! Ax ты, девственник! Ты, Алешка, тихоня, ты святой, я согласен, но ты тихоня и чорт знает о чем ты уж не думал, чорт знает, что тебе уж известно! Девственник, а уж такую глубину прошел, – я тебя давно наблюдаю. Ты сам Карамазов, ты Карамазов вполне – стало быть, значит же что-нибудь порода и подбор. По отцу сладострастник, по матери юродивый. Чего дрожишь? Аль правду говорю? Знаешь что: Грушенька просила меня “приведи ты его (тебя, то-есть), я с него ряску стащу”. Да ведь как просила-то: приведи да приведи! Подумал только: чем ты это ей так любопытен? Знаешь, необычайная и она женщина тоже! | “Really? Well, I dare say you do understand, since you blurt it out at the first word,” said Rakitin, malignantly. “That escaped you unawares, and the confession’s the more precious. So it’s a familiar subject; you’ve thought about it already, about sensuality, I mean! Oh, you virgin soul! You’re a quiet one, Alyosha, you’re a saint, I know, but the devil only knows what you’ve thought about, and what you know already! You are pure, but you’ve been down into the depths…. I’ve been watching you a long time. You’re a Karamazov yourself; you’re a thorough Karamazov—no doubt birth and selection have something to answer for. You’re a sensualist from your father, a crazy saint from your mother. Why do you tremble? Is it true, then? Do you know, Grushenka has been begging me to bring you along. ‘I’ll pull off his cassock,’ she says. You can’t think how she keeps begging me to bring you. I wondered why she took such an interest in you. Do you know, she’s an extraordinary woman, too!” |
| – Кланяйся, скажи, что не приду, – криво усмехнулся Алеша.Договаривай, Михаил, о чем зачал, я тебе потом мою мысль скажу. | “Thank her and say I’m not coming,” said Alyosha, with a strained smile. “Finish what you were saying, Misha. I’ll tell you my idea after.” |
| – Чего тут договаривать, все ясно. Все это, брат, старая музыка. Если уж и ты сладострастника в себе заключаешь, то что же брат твой Иван, единоутробный? Ведь и он Карамазов. В этом весь ваш Карамазовский вопрос заключается: сладострастники, стяжатели и юродивые! Брат твой Иван теперь богословские статейки пока в шутку по какому-то глупейшему неизвестному расчету печатает, будучи сам атеистом, и в подлости этой сам сознается – брат твой этот, Иван. Кроме того, от братца Мити невесту себе отбивает, ну и этой цели, кажется, что достигнет. Да еще как: с согласия самого Митеньки, потому что Митенька сам ему невесту свою уступает, чтобы только отвязаться от нее, да уйти поскорей к Грушеньке. И все это при всем своем благородстве и бескорыстии, заметь себе это. Вот эти-то люди самые роковые и есть! Чорт вас разберет после этого: сам подлость свою сознает и сам в подлость лезет! Слушай дальше: Митеньке теперь пересекает дорогу старикашка-отец. Ведь тот по Грушеньке с ума вдруг сошел, ведь у него слюна бежит, когда на нее глядит только. Ведь это он только из-за нее одной в келье сейчас скандал такой сделал, за то только, что Миусов ее беспутною тварью назвать осмелился. Влюбился хуже кошки. Прежде она ему тут только по делишкам каким-то темным да кабачным на жалованьи прислуживала, а теперь вдруг догадался и разглядел, остервенился, с предложениями лезет, не с честными конечно. Ну и столкнутся же они, папенька с сыночком на этой дорожке. А Грушенька ни тому ни другому, пока еще виляет, да обоих дразнит, высматривает, который выгоднее, потому хоть у папаши можно много денег тяпнуть, да ведь зато он не женится, а пожалуй так под конец ожидовеет и запрет кошель. В таком случае и Митенька свою цену имеет; денег у него нет, но зато способен жениться. Да-с, способен жениться! Бросить невесту, несравненную красоту, Катерину Ивановну, богатую, дворянку и полковничью дочь, и жениться на Грушеньке, бывшей содержанке старого купчишки, развратного мужика и городского головы Самсонова. Из всего сего действительно может столкновение произойти уголовное. А этого брат твой Иван и ждет, тут он и в малине: и Катерину Ивановну приобретет, по которой сохнет, да и шестьдесят ее тысяч приданого тяпнет. Маленькому-то человечку и голышу как он это и весьма прельстительно для начала. И ведь заметь себе: не только Митю не обидит, но даже по гроб одолжит. Ведь я наверно знаю, что Митенька сам и вслух, на прошлой неделе еще, кричал в трактире пьяный, с цыганками, что недостоин невесты своей Катеньки, а брат Иван так вот тот достоин. А сама Катерина Ивановна уж конечно такого обворожителя, как Иван Федорович под конец не отвергнет; ведь она уж и теперь между двумя ими колеблется. И чем только этот Иван прельстил вас всех, что вы все пред ним благоговеете? А он над вами же смеется: в малине, дескать, сижу, и на ваш счет лакомствую. | “There’s nothing to finish. It’s all clear. It’s the same old tune, brother. If even you are a sensualist at heart, what of your brother, Ivan? He’s a Karamazov, too. What is at the root of all you Karamazovs is that you’re all sensual, grasping and crazy! Your brother Ivan writes theological articles in joke, for some idiotic, unknown motive of his own, though he’s an atheist, and he admits it’s a fraud himself—that’s your brother Ivan. He’s trying to get Mitya’s betrothed for himself, and I fancy he’ll succeed, too. And what’s more, it’s with Mitya’s consent. For Mitya will surrender his betrothed to him to be rid of her, and escape to Grushenka. And he’s ready to do that in spite of all his nobility and disinterestedness. Observe that. Those are the most fatal people! Who the devil can make you out? He recognizes his vileness and goes on with it! Let me tell you, too, the old man, your father, is standing in Mitya’s way now. He has suddenly gone crazy over Grushenka. His mouth waters at the sight of her. It’s simply on her account he made that scene in the cell just now, simply because Miüsov called her an ‘abandoned creature.’ He’s worse than a tom‐cat in love. At first she was only employed by him in connection with his taverns and in some other shady business, but now he has suddenly realized all she is and has gone wild about her. He keeps pestering her with his offers, not honorable ones, of course. And they’ll come into collision, the precious father and son, on that path! But Grushenka favors neither of them, she’s still playing with them, and teasing them both, considering which she can get most out of. For though she could filch a lot of money from the papa he wouldn’t marry her, and maybe he’ll turn stingy in the end, and keep his purse shut. That’s where Mitya’s value comes in; he has no money, but he’s ready to marry her. Yes, ready to marry her! to abandon his betrothed, a rare beauty, Katerina Ivanovna, who’s rich, and the daughter of a colonel, and to marry Grushenka, who has been the mistress of a dissolute old merchant, Samsonov, a coarse, uneducated, provincial mayor. Some murderous conflict may well come to pass from all this, and that’s what your brother Ivan is waiting for. It would suit him down to the ground. He’ll carry off Katerina Ivanovna, for whom he is languishing, and pocket her dowry of sixty thousand. That’s very alluring to start with, for a man of no consequence and a beggar. And, take note, he won’t be wronging Mitya, but doing him the greatest service. For I know as a fact that Mitya only last week, when he was with some gypsy girls drunk in a tavern, cried out aloud that he was unworthy of his betrothed, Katya, but that his brother Ivan, he was the man who deserved her. And Katerina Ivanovna will not in the end refuse such a fascinating man as Ivan. She’s hesitating between the two of them already. And how has that Ivan won you all, so that you all worship him? He is laughing at you, and enjoying himself at your expense.” |
| – Почему ты все это знаешь? Почему так утвердительно говоришь? – резко и нахмурившись спросил вдруг Алеша. | “How do you know? How can you speak so confidently?” Alyosha asked sharply, frowning. |
| – А почему ты теперь спрашиваешь и моего ответа вперед боишься? значит, сам соглашаешься, что я правду сказал. | “Why do you ask, and are frightened at my answer? It shows that you know I’m speaking the truth.” Akirill.com |
| – Ты Ивана не любишь. Иван не польстится на деньги. | “You don’t like Ivan. Ivan wouldn’t be tempted by money.” |
| – Быдто? А красота Катерины Ивановны? Не одни же тут деньги, хотя и шестьдесят тысяч вещь прельстительная. | “Really? And the beauty of Katerina Ivanovna? It’s not only the money, though a fortune of sixty thousand is an attraction.” |
| – Иван выше смотрит. Иван и на тысячи не польстится. Иван не денег, не спокойствия ищет. Он мучения может быть ищет. | “Ivan is above that. He wouldn’t make up to any one for thousands. It is not money, it’s not comfort Ivan is seeking. Perhaps it’s suffering he is seeking.” |
| – Это еще что за сон? Ах вы… дворяне! | “What wild dream now? Oh, you—aristocrats!” |
| – Эх, Миша, душа его бурная. Ум его в плену. В нем мысль великая и неразрешенная. Он из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить. | “Ah, Misha, he has a stormy spirit. His mind is in bondage. He is haunted by a great, unsolved doubt. He is one of those who don’t want millions, but an answer to their questions.” |
| – Литературное воровство, Алешка. Ты старца своего перефразировал. Эк ведь Иван вам загадку задал! – с явною злобой крикнул Ракитин. Он даже в лице изменился и губы его перекосились. – Да и загадка-то глупая, отгадывать нечего. Пошевели мозгами – поймешь. Статья его смешна и нелепа. А слышал давеча его глупую теорию: “нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит, все позволено”. (А братец-то Митенька кстати помнишь, как крикнул: “Запомню!”). Соблазнительная теория подлецам… Я ругаюсь, это глупо… не подлецам, а школьным фанфаронам с “неразрешимою глубиной мыслей”. Хвастунишка, а суть-то вся: “С одной стороны нельзя не признаться, а с другой – нельзя не сознаться!” Вся его теория – подлость! Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие души! В любви к свободе, к равенству, братству найдет… | “That’s plagiarism, Alyosha. You’re quoting your elder’s phrases. Ah, Ivan has set you a problem!” cried Rakitin, with undisguised malice. His face changed, and his lips twitched. “And the problem’s a stupid one. It is no good guessing it. Rack your brains—you’ll understand it. His article is absurd and ridiculous. And did you hear his stupid theory just now: if there’s no immortality of the soul, then there’s no virtue, and everything is lawful. (And by the way, do you remember how your brother Mitya cried out: ‘I will remember!’) An attractive theory for scoundrels!—(I’m being abusive, that’s stupid.) Not for scoundrels, but for pedantic poseurs, ‘haunted by profound, unsolved doubts.’ He’s showing off, and what it all comes to is, ‘on the one hand we cannot but admit’ and ‘on the other it must be confessed!’ His whole theory is a fraud! Humanity will find in itself the power to live for virtue even without believing in immortality. It will find it in love for freedom, for equality, for fraternity.” |
| Ракитин разгорячился, почти не мог сдержать себя. Но вдруг, как бы вспомнив что-то, остановился. | Rakitin could hardly restrain himself in his heat, but, suddenly, as though remembering something, he stopped short. |
| – Ну, довольно, – еще кривее улыбнулся он, чем прежде. – Чего ты смеешься? Думаешь, что я пошляк? | “Well, that’s enough,” he said, with a still more crooked smile. “Why are you laughing? Do you think I’m a vulgar fool?” |
| – Нет. я и не думал думать, что ты пошляк. Ты умен, но… оставь, это я сдуру усмехнулся. Я понимаю, что ты можешь разгорячиться, Миша. По твоему увлечению я догадался, что ты сам неравнодушен к Катерине Ивановне, я, брат, это давно подозревал, а потому и не любишь брата Ивана. Ты к нему ревнуешь? | “No, I never dreamed of thinking you a vulgar fool. You are clever but … never mind, I was silly to smile. I understand your getting hot about it, Misha. I guess from your warmth that you are not indifferent to Katerina Ivanovna yourself; I’ve suspected that for a long time, brother, that’s why you don’t like my brother Ivan. Are you jealous of him?” |
| – И к ее денежкам тоже ревную? Прибавляй, что ли? | “And jealous of her money, too? Won’t you add that?” |
| – Нет, я ничего о деньгах не прибавлю, я не стану тебя обижать. | “I’ll say nothing about money. I am not going to insult you.” |
| – Верю, потому что ты сказал, но чорт вас возьми опять-таки с твоим братом Иваном! Не поймете вы никто, что его и без Катерины Ивановны можно весьма не любить. И за что я его стану любить, чорт возьми! Ведь удостоивает же он меня сам ругать. Почему же я его не имею права ругать? | “I believe it, since you say so, but confound you, and your brother Ivan with you. Don’t you understand that one might very well dislike him, apart from Katerina Ivanovna. And why the devil should I like him? He condescends to abuse me, you know. Why haven’t I a right to abuse him?” |
| – Я никогда не слыхал, чтобы он хоть что-нибудь сказал о тебе, хорошего или дурного; он совсем о тебе не говорит. | “I never heard of his saying anything about you, good or bad. He doesn’t speak of you at all.” |
| – А я так слышал, что третьего дня у Катерины Ивановны он отделывал меня на чем свет стоит, – вот до чего интересовался вашим покорным слугой. И кто, брат, кого после этого ревнует – не знаю! Изволил выразить мысль, что если я де не соглашусь на карьеру архимандрита в весьма недалеком будущем, и не решусь постричься, то непременно уеду в Петербург и примкну к толстому журналу, непременно к отделению критики, буду писать лет десяток и в конце концов переведу журнал на себя. Затем буду опять его издавать и непременно в либеральном и атеистическом направлении, с социалистическим оттенком, с маленьким даже лоском социализма, но держа ухо востро, то-есть в сущности держа нашим и вашим и отводя глаза дуракам. Конец карьеры моей, по толкованию твоего братца, в том, что оттенок социализма не помешает мне откладывать на текущий счет подписные денежки и пускать их при случае в оборот, под руководством какого-нибудь жидишки, до тех пор, пока не выстрою капитальный дом в Петербурге, с тем, чтобы перевесть в него и редакцию, а в остальные этажи напустить жильцов. Даже место дому назначил: у Нового Каменного моста через Неву, который проектируется, говорят, в Петербурге, с Литейной на Выборгскую… | “But I heard that the day before yesterday at Katerina Ivanovna’s he was abusing me for all he was worth—you see what an interest he takes in your humble servant. And which is the jealous one after that, brother, I can’t say. He was so good as to express the opinion that, if I don’t go in for the career of an archimandrite in the immediate future and don’t become a monk, I shall be sure to go to Petersburg and get on to some solid magazine as a reviewer, that I shall write for the next ten years, and in the end become the owner of the magazine, and bring it out on the liberal and atheistic side, with a socialistic tinge, with a tiny gloss of socialism, but keeping a sharp look out all the time, that is, keeping in with both sides and hoodwinking the fools. According to your brother’s account, the tinge of socialism won’t hinder me from laying by the proceeds and investing them under the guidance of some Jew, till at the end of my career I build a great house in Petersburg and move my publishing offices to it, and let out the upper stories to lodgers. He has even chosen the place for it, near the new stone bridge across the Neva, which they say is to be built in Petersburg.” |
| – Ах, Миша, ведь это, пожалуй, как есть все и сбудется, до последнего даже слова! – вскричал вдруг Алеша, не удержавшись и весело усмехаясь. | “Ah, Misha, that’s just what will really happen, every word of it,” cried Alyosha, unable to restrain a good‐humored smile. |
| – И вы в сарказмы пускаетесь, Алексей Федорович. | “You are pleased to be sarcastic, too, Alexey Fyodorovitch.” |
| – Нет, нет, я шучу, извини. У меня совсем другое на уме. Позволь, однако: кто бы тебе мог такие подробности сообщить, и от кого бы ты мог о них слышать. Ты не мог ведь быть у Катерины Ивановны лично, когда он про тебя говорил? | “No, no, I’m joking, forgive me. I’ve something quite different in my mind. But, excuse me, who can have told you all this? You can’t have been at Katerina Ivanovna’s yourself when he was talking about you?” |
| – Меня не было, зато был Дмитрий Федорович, и я слышал это своими ушами от Дмитрия же Федоровича, то-есть, если хочешь, он не мне говорил, а я подслушал, разумеется по-неволе, потому что у Грушеньки в ее спальне сидел и выйти не мог все время, пока Дмитрий Федорович в следующей комнате находился. | “I wasn’t there, but Dmitri Fyodorovitch was; and I heard him tell it with my own ears; if you want to know, he didn’t tell me, but I overheard him, unintentionally, of course, for I was sitting in Grushenka’s bedroom and I couldn’t go away because Dmitri Fyodorovitch was in the next room.” |
| – Ах да, я и забыл, ведь она тебе родственница… | “Oh, yes, I’d forgotten she was a relation of yours.” |
| – Родственница? Это Грушенька-то мне родственница? – вскричал вдруг Ракитин, весь покраснев. – Да ты с ума спятил, что ли? Мозги не в порядке. | “A relation! That Grushenka a relation of mine!” cried Rakitin, turning crimson. “Are you mad? You’re out of your mind!” |
| – А что? Разве не родственница? Я так слышал… | “Why, isn’t she a relation of yours? I heard so.” |
| – Где ты мог это слышать? Нет, вы, господа Карамазовы, каких-то великих и древних дворян из себя корчите, тогда как отец той бегал шутом по чужим столам, да при милости на кухне числился. Положим, я только поповский сын и тля пред вами, дворянами, но не оскорбляйте же меня так весело и беспутно. У меня тоже честь есть, Алексей Федорович. Я Грушеньке не могу быть родней, публичной девке, прошу понять-с! | “Where can you have heard it? You Karamazovs brag of being an ancient, noble family, though your father used to run about playing the buffoon at other men’s tables, and was only admitted to the kitchen as a favor. I may be only a priest’s son, and dirt in the eyes of noblemen like you, but don’t insult me so lightly and wantonly. I have a sense of honor, too, Alexey Fyodorovitch, I couldn’t be a relation of Grushenka, a common harlot. I beg you to understand that!” |
| Ракитин был в сильном раздражении. | Rakitin was intensely irritated. |
| – Извини меня, ради бога, я никак не мог предполагать, и при том какая она публичная? Разве она… такая? – покраснел вдруг Алеша. – Повторяю тебе, я так слышал, что родственница. Ты к ней часто ходишь и сам мне говорил, что ты с нею связей любви не имеешь… Вот я никогда не думал, что уж ты-то ее так презираешь! Да неужели она достойна того? | “Forgive me, for goodness’ sake, I had no idea … besides … how can you call her a harlot? Is she … that sort of woman?” Alyosha flushed suddenly. “I tell you again, I heard that she was a relation of yours. You often go to see her, and you told me yourself you’re not her lover. I never dreamed that you of all people had such contempt for her! Does she really deserve it?” |
| – Если я ее посещаю, то на то могу иметь свои причины, ну и довольно с тебя. А насчет родства, так скорей твой братец, али даже сам батюшка навяжет ее тебе, а не мне, в родню. Ну вот и дошли. Ступай-ка на кухню лучше. Ай! что тут такое, что это? Аль опоздали? Да не могли же они так скоро отобедать? Аль тут опять что Карамазовы напрокудили? Наверно так. Вот и батюшка твой, и Иван Федорович за ним. Это они от игумена вырвались. Вон отец Исидор с крыльца кричит им что-то во след. Да и батюшка твой кричит и руками махает, верно бранится. Ба, да вон и Миусов в коляске уехал, видишь едет. Вот и Максимов помещик бежит – да тут скандал; значит, не было обеда! Уж не прибили ли они игумена? Али их пожалуй прибили? Вот бы стоило!.. | “I may have reasons of my own for visiting her. That’s not your business. But as for relationship, your brother, or even your father, is more likely to make her yours than mine. Well, here we are. You’d better go to the kitchen. Hullo! what’s wrong, what is it? Are we late? They can’t have finished dinner so soon! Have the Karamazovs been making trouble again? No doubt they have. Here’s your father and your brother Ivan after him. They’ve broken out from the Father Superior’s. And look, Father Isidor’s shouting out something after them from the steps. And your father’s shouting and waving his arms. I expect he’s swearing. Bah, and there goes Miüsov driving away in his carriage. You see, he’s going. And there’s old Maximov running!—there must have been a row. There can’t have been any dinner. Surely they’ve not been beating the Father Superior! Or have they, perhaps, been beaten? It would serve them right!” |
| Ракитин восклицал не напрасно. Скандал действительно произошел, неслыханный и неожиданный. Все произошло “по вдохновению”. | There was reason for Rakitin’s exclamations. There had been a scandalous, an unprecedented scene. It had all come from the impulse of a moment. |
| VIII. СКАНДАЛ. | Chapter VIII. The Scandalous Scene |
| Когда Миусов и Иван Федорович входили уже к игумену, то в Петре Александровиче, как в искренно порядочном и деликатном человеке, быстро произошел один деликатный в своем роде процесс, ему стало стыдно сердиться. Он почувствовал про себя, что дрянного Федора Павловича, в сущности, должен бы был он до того не уважать, что не следовало бы ему терять свое хладнокровие в келье старца и так самому потеряться, как оно вышло. “По крайней мере монахи-то уж тут не виноваты ни в чем”, – решил он вдруг на крыльце игумена, – “а если и тут порядочный народ (этот отец Николай игумен тоже кажется из дворян), то почему же не быть с ними милым, любезным и вежливым?..” “Спорить не буду, буду даже поддакивать, завлеку любезностью и… и… наконец, докажу им, что я не компания этому Эзопу, этому шуту, этому пьеро и попался в просак точно так же, как и они все…” | Miüsov, as a man of breeding and delicacy, could not but feel some inward qualms, when he reached the Father Superior’s with Ivan: he felt ashamed of having lost his temper. He felt that he ought to have disdained that despicable wretch, Fyodor Pavlovitch, too much to have been upset by him in Father Zossima’s cell, and so to have forgotten himself. “The monks were not to blame, in any case,” he reflected, on the steps. “And if they’re decent people here (and the Father Superior, I understand, is a nobleman) why not be friendly and courteous with them? I won’t argue, I’ll fall in with everything, I’ll win them by politeness, and … and … show them that I’ve nothing to do with that Æsop, that buffoon, that Pierrot, and have merely been taken in over this affair, just as they have.” |
| Спорные же порубки в лесу и эту ловлю рыбы (где все это – он и сам не знал) он решил им уступить окончательно, раз навсегда, сегодня же, тем более, что все это очень немногого стоило, и все свои иски против монастыря прекратить. | He determined to drop his litigation with the monastery, and relinquish his claims to the wood‐cutting and fishery rights at once. He was the more ready to do this because the rights had become much less valuable, and he had indeed the vaguest idea where the wood and river in question were. |
| Все эти благие намерения еще более укрепились, когда они вступили в столовую отца игумена. Столовой у того впрочем не было, потому что было у него всего по-настоящему две комнаты во всем помещении, правда гораздо обширнейшие и удобнейшие, чем у старца. Но убранство комнат также не отличалось особым комфортом: мебель была кожаная, красного дерева, старой моды двадцатых годов; даже полы были некрашеные; зато все блистало чистотой, на окнах было много дорогих цветов; но главную роскошь в эту минуту естественно составлял роскошно сервированный стол, хотя впрочем и тут говоря относительно: скатерть была чистая, посуда блестящая; превосходно выпеченный хлеб трех сортов, две бутылки вина, две бутылки великолепного монастырского меду, и большой стеклянный кувшин с монастырским квасом, славившимся в околодке. Водки не было вовсе. Ракитин повествовал потом, что обед был приготовлен на этот раз из пяти блюд: была уха со стерлядью и с пирожками с рыбой; затем разварная рыба, как-то отменно и особенно приготовленная; затем котлеты из красной рыбы, мороженое и компот и наконец киселек в роде бланманже. Все это пронюхал Ракитин, не утерпев и нарочно заглянув на игуменскую кухню, с которою тоже имел свои связи. Он везде имел связи и везде добывал языка. Сердце он имел весьма беспокойное и завистливое. Значительные свои способности он совершенно в себе сознавал, но нервно преувеличивал их в своем самомнении. Он знал наверно, что будет в своем роде деятелем, но Алешу, который был к нему очень привязан, мучило то, что его друг Ракитин бесчестен и решительно не сознает того сам, напротив, зная про себя, что он не украдет денег со стола, окончательно считал себя человеком высшей честности. Тут уже не только Алеша, но и никто бы не мог ничего сделать. | These excellent intentions were strengthened when he entered the Father Superior’s dining‐room, though, strictly speaking, it was not a dining‐ room, for the Father Superior had only two rooms altogether; they were, however, much larger and more comfortable than Father Zossima’s. But there was no great luxury about the furnishing of these rooms either. The furniture was of mahogany, covered with leather, in the old‐fashioned style of 1820; the floor was not even stained, but everything was shining with cleanliness, and there were many choice flowers in the windows; the most sumptuous thing in the room at the moment was, of course, the beautifully decorated table. The cloth was clean, the service shone; there were three kinds of well‐baked bread, two bottles of wine, two of excellent mead, and a large glass jug of kvas—both the latter made in the monastery, and famous in the neighborhood. There was no vodka. Rakitin related afterwards that there were five dishes: fish‐soup made of sterlets, served with little fish patties; then boiled fish served in a special way; then salmon cutlets, ice pudding and compote, and finally, blanc‐mange. Rakitin found out about all these good things, for he could not resist peeping into the kitchen, where he already had a footing. He had a footing everywhere, and got information about everything. He was of an uneasy and envious temper. He was well aware of his own considerable abilities, and nervously exaggerated them in his self‐conceit. He knew he would play a prominent part of some sort, but Alyosha, who was attached to him, was distressed to see that his friend Rakitin was dishonorable, and quite unconscious of being so himself, considering, on the contrary, that because he would not steal money left on the table he was a man of the highest integrity. Neither Alyosha nor any one else could have influenced him in that. |
| Ракитин, как лицо мелкое, приглашен быть к обеду не мог, зато были приглашены отец Иосиф и отец Паисий и с ними еще один иеромонах. Они уже ожидали в столовой игумена, когда вступили Петр Александрович, Калганов и Иван Федорович. Дожидался еще в сторонке и помещик Максимов. Отец игумен, чтобы встретить гостей, выступил вперед на середину комнаты. Это был высокий, худощавый, но все еще сильный старик, черноволосый, с сильною проседью, с длинным постным и важным лицом. Он раскланялся с гостями молча, но те на этот раз подошли под благословение. Миусов рискнул было даже поцеловать ручку, но игумен во-время как-то отдернул, и поцелуй не состоялся. Зато Иван Федорович и Калганов благословились на этот раз вполне, то-есть с самым простодушным и простонародным чмоком в руку. | Rakitin, of course, was a person of too little consequence to be invited to the dinner, to which Father Iosif, Father Païssy, and one other monk were the only inmates of the monastery invited. They were already waiting when Miüsov, Kalganov, and Ivan arrived. The other guest, Maximov, stood a little aside, waiting also. The Father Superior stepped into the middle of the room to receive his guests. He was a tall, thin, but still vigorous old man, with black hair streaked with gray, and a long, grave, ascetic face. He bowed to his guests in silence. But this time they approached to receive his blessing. Miüsov even tried to kiss his hand, but the Father Superior drew it back in time to avoid the salute. But Ivan and Kalganov went through the ceremony in the most simple‐hearted and complete manner, kissing his hand as peasants do. |
| – Мы должны сильно извиниться, ваше высокопреподобие,- начал Петр Александрович, с любезностью осклабляясь, но все же важным и почтительным тоном, – извиниться, что являемся одни без приглашенного вами сопутника нашего, Федора Павловича; он принужден был от вашей трапезы уклониться и не без причины. В келье у преподобного отца Зосимы, увлекшись своею несчастною родственною распрей с сыном, он произнес несколько слов совершенно не кстати… словом сказать, совершенно неприличных… о чем, как кажется (он взглянул на иеромонахов), вашему высокопреподобию уже и известно. А потому, сам сознавая себя виновным и искренно раскаиваясь, почувствовал стыд и, не могши преодолеть его, просил нас, меня и сына своего, Ивана Федоровича, заявить пред вами все свое искреннее сожаление, сокрушение и покаяние… Одним словом, он надеется и хочет вознаградить все потом, а теперь, испрашивая вашего благословения, просит вас забыть о случившемся… | “We must apologize most humbly, your reverence,” began Miüsov, simpering affably, and speaking in a dignified and respectful tone. “Pardon us for having come alone without the gentleman you invited, Fyodor Pavlovitch. He felt obliged to decline the honor of your hospitality, and not without reason. In the reverend Father Zossima’s cell he was carried away by the unhappy dissension with his son, and let fall words which were quite out of keeping … in fact, quite unseemly … as”—he glanced at the monks—“your reverence is, no doubt, already aware. And therefore, recognizing that he had been to blame, he felt sincere regret and shame, and begged me, and his son Ivan Fyodorovitch, to convey to you his apologies and regrets. In brief, he hopes and desires to make amends later. He asks your blessing, and begs you to forget what has taken place.” |
| Миусов умолк. Произнеся последние слова своей тирады, он остался собою совершенно доволен, до того, что и следов недавнего раздражения не осталось в душе его. Он вполне и искренно любил опять человечество. Игумен, с важностью выслушав его, слегка наклонил голову и произнес в ответ: | As he uttered the last word of his tirade, Miüsov completely recovered his self‐complacency, and all traces of his former irritation disappeared. He fully and sincerely loved humanity again. The Father Superior listened to him with dignity, and, with a slight bend of the head, replied: |
| – Чувствительно сожалею об отлучившемся. Может быть за трапезой нашею он полюбил бы нас, равно как и мы его. Милости просим, господа, откушать. | “I sincerely deplore his absence. Perhaps at our table he might have learnt to like us, and we him. Pray be seated, gentlemen.” |
| Он стал пред образом и начал вслух молитву. Все почтительно преклонили головы, а помещик Максимов даже особенно выставился вперед, сложив пред собой ладошками руки от особого благоговения. | He stood before the holy image, and began to say grace, aloud. All bent their heads reverently, and Maximov clasped his hands before him, with peculiar fervor. |
| И вот тут-то Федор Павлович и выкинул свое последнее колено. Надо заметить, что он действительно хотел было уехать и действительно почувствовал невозможность, после своего позорного поведения в келье старца, идти как ни в чем не бывало к игумену на обед. Не то чтоб он стыдился себя так уж очень и обвинял; может быть даже совсем напротив; но все же он чувствовал, что обедать-то уж неприлично. Но только было подали к крыльцу гостиницы его дребезжащую коляску, как он, уже влезая в нее, вдруг приостановился. Ему вспомнились его же собственные слова у старца: “Мне все так и кажется, когда я вхожу куда-нибудь, что я подлее всех и что меня все за шута принимают, – так вот давай же я и в самом деле сыграю шута, потому что вы все до единого глупее и подлее меня”. Ему захотелось всем отомстить за собственные пакости. Вспомнил он вдруг теперь кстати, как когда-то, еще прежде, спросили его раз: “За что вы такого-то так ненавидите?” И он ответил тогда, в припадке своего шутовского бесстыдства: “А вот за что: он, правда, мне ничего не сделал, но зато я сделал ему одну бессовестнейшую пакость, и только что сделал, тотчас же за то и возненавидел его”. Припомнив это теперь, он тихо и злобно усмехнулся в минутном раздумьи. Глаза его сверкнули, и даже губы затряслись. “А коль начал, так и кончить”, решил он вдруг. Сокровеннейшее ощущение его в этот миг можно было бы выразить такими словами: “Ведь уж теперь себя не реабилитируешь, так давай-ка я им еще наплюю до бесстыдства: не стыжусь, дескать, вас, да и только!” Кучеру он велел подождать, а сам скорыми шагами воротился в монастырь и прямо к игумену. Он еще не знал хорошо, что сделает, но знал, что уже не владеет собою и – чуть толчек – мигом дойдет теперь до последнего предела какой-нибудь мерзости, – впрочем только мерзости, а отнюдь не какого-нибудь преступления или такой выходки, за которую может суд наказать. В последнем случае он всегда умел себя сдерживать и даже сам себе дивился насчет этого в иных случаях. Он показался в столовой игумена ровно в тот миг, когда кончилась молитва, и все двинулись к столу. Остановившись на пороге, оглядел компанию и засмеялся длинным, наглым, злым смешком, всем отважно глядя в глаза. | It was at this moment that Fyodor Pavlovitch played his last prank. It must be noted that he really had meant to go home, and really had felt the impossibility of going to dine with the Father Superior as though nothing had happened, after his disgraceful behavior in the elder’s cell. Not that he was so very much ashamed of himself—quite the contrary perhaps. But still he felt it would be unseemly to go to dinner. Yet his creaking carriage had hardly been brought to the steps of the hotel, and he had hardly got into it, when he suddenly stopped short. He remembered his own words at the elder’s: “I always feel when I meet people that I am lower than all, and that they all take me for a buffoon; so I say let me play the buffoon, for you are, every one of you, stupider and lower than I.” He longed to revenge himself on every one for his own unseemliness. He suddenly recalled how he had once in the past been asked, “Why do you hate so and so, so much?” And he had answered them, with his shameless impudence, “I’ll tell you. He has done me no harm. But I played him a dirty trick, and ever since I have hated him.” Remembering that now, he smiled quietly and malignantly, hesitating for a moment. His eyes gleamed, and his lips positively quivered. “Well, since I have begun, I may as well go on,” he decided. His predominant sensation at that moment might be expressed in the following words, “Well, there is no rehabilitating myself now. So let me shame them for all I am worth. I will show them I don’t care what they think—that’s all!” He told the coachman to wait, while with rapid steps he returned to the monastery and straight to the Father Superior’s. He had no clear idea what he would do, but he knew that he could not control himself, and that a touch might drive him to the utmost limits of obscenity, but only to obscenity, to nothing criminal, nothing for which he could be legally punished. In the last resort, he could always restrain himself, and had marveled indeed at himself, on that score, sometimes. He appeared in the Father Superior’s dining‐room, at the moment when the prayer was over, and all were moving to the table. Standing in the doorway, he scanned the company, and laughing his prolonged, impudent, malicious chuckle, looked them all boldly in the face. |
| – А они-то думали, я уехал, а я вот он! – вскричал он на всю залу. | “They thought I had gone, and here I am again,” he cried to the whole room. |
| Одно мгновение все смотрели на него в упор и молчали, и вдруг все почувствовали, что выйдет сейчас что-нибудь отвратительное, нелепое, с несомненным скандалом. Петр Александрович из самого благодушного настроения перешел немедленно в самое свирепое. Все, что угасло было в его сердце и затихло, разом воскресло и поднялось. | For one moment every one stared at him without a word; and at once every one felt that something revolting, grotesque, positively scandalous, was about to happen. Miüsov passed immediately from the most benevolent frame of mind to the most savage. All the feelings that had subsided and died down in his heart revived instantly. |
| – Нет, вынести этого я не могу! – вскричал он, – совсем не могу и… никак не могу! | “No! this I cannot endure!” he cried. “I absolutely cannot! and … I certainly cannot!” |
| Кровь бросилась ему в голову. Он даже спутался, но было уже не до слога, и он схватил свою шляпу. | The blood rushed to his head. He positively stammered; but he was beyond thinking of style, and he seized his hat. |
| – Чего такого он не может? – вскричал Федор Павлович, – “никак не может и ни за что не может?” Ваше преподобие, входить мне аль нет? Принимаете сотрапезника? | “What is it he cannot?” cried Fyodor Pavlovitch, “that he absolutely cannot and certainly cannot? Your reverence, am I to come in or not? Will you receive me as your guest?” |
| – Милости просим от всего сердца, – ответил игумен. – Господа! Позволю ли себе, – прибавил он вдруг, – просить вас от всей души, оставив случайные распри ваши, сойтись в любви и родственном согласии, с молитвой ко господу, за смиренною трапезою нашей… | “You are welcome with all my heart,” answered the Superior. “Gentlemen!” he added, “I venture to beg you most earnestly to lay aside your dissensions, and to be united in love and family harmony—with prayer to the Lord at our humble table.” |
| – Нет, нет, невозможно, – крикнул как бы не в себе Петр Александрович. | “No, no, it is impossible!” cried Miüsov, beside himself. |
| – А коли Петру Александровичу невозможно, так и мне невозможно, и я не останусь. Я с тем и шел. Я всюду теперь буду с Петром Александровичем: уйдете, Петр Александрович, и я пойду, останетесь и я останусь. Родственным-то согласием вы его наипаче кольнули, отец игумен: не признает он себя мне родственником? Так ли, фон-Зон? Вот и фон-Зон стоит. Здравствуй, фон-Зон. | “Well, if it is impossible for Pyotr Alexandrovitch, it is impossible for me, and I won’t stop. That is why I came. I will keep with Pyotr Alexandrovitch everywhere now. If you will go away, Pyotr Alexandrovitch, I will go away too, if you remain, I will remain. You stung him by what you said about family harmony, Father Superior, he does not admit he is my relation. That’s right, isn’t it, von Sohn? Here’s von Sohn. How are you, von Sohn?” |
| – Вы… это мне-с? – пробормотал изумленный помещик Максимов. | “Do you mean me?” muttered Maximov, puzzled. |
| – Конечно тебе, – крикнул Федор Павлович. – А то кому же? Не отцу же игумену быть фон-Зоном! | “Of course I mean you,” cried Fyodor Pavlovitch. “Who else? The Father Superior could not be von Sohn.” |
| – Да ведь и я не фон-Зон, я Максимов. | “But I am not von Sohn either. I am Maximov.” |
| – Нет, ты фон-Зон. Ваше преподобие, знаете вы что такое фон-Зон? Процесс такой уголовный был: его убили в блудилище – так кажется у вас сии места именуются – убили и ограбили, и несмотря на его почтенные лета, вколотили в ящик, закупорили и из Петербурга в Москву отослали в багажном вагоне, за нумером. А когда заколачивали, то блудные плясавицы пели песни и играли на гуслях, то-есть на фортоплясах. Так вот это тот самый фон-Зон и есть. Он из мертвых воскрес, так ли, фон-Зон? | “No, you are von Sohn. Your reverence, do you know who von Sohn was? It was a famous murder case. He was killed in a house of harlotry—I believe that is what such places are called among you—he was killed and robbed, and in spite of his venerable age, he was nailed up in a box and sent from Petersburg to Moscow in the luggage van, and while they were nailing him up, the harlots sang songs and played the harp, that is to say, the piano. So this is that very von Sohn. He has risen from the dead, hasn’t he, von Sohn?” |
| – Что же это такое? Как же это? – послышались голоса в группе иеромонахов. | “What is happening? What’s this?” voices were heard in the group of monks. |
| – Идем! – крикнул Петр Александрович, обращаясь к Калганову. | “Let us go,” cried Miüsov, addressing Kalganov. |
| – Нет-с, позвольте! – визгливо перебил Федор Павлович, шагнув еще шаг в комнату, – позвольте и мне довершить. Там в келье ославили меня, что я будто бы непочтительно вел себя, а именно тем, что про пискариков крикнул. Петр Александрович Миусов, родственник мой, любит, чтобы в речи было plus de noblesse que de sincerite, а я обратно люблю, чтобы в моей речи было plus de sincerite que de noblesse, и – наплевать на noblesse! Так ли, фон-Зон? Позвольте, отец игумен, я хоть и шут, и представляюсь шутом, но я рыцарь чести и хочу высказать. Да-с, я рыцарь чести, а в Петре Александровиче – прищемленное самолюбие и ничего больше. Я и приехал-то может быть сюда давеча, чтобы посмотреть да высказать. У меня здесь сын Алексей спасается; я отец, я об его участи забочусь и должен заботиться. Я все слушал да представлялся, да и смотрел потихоньку, а теперь хочу вам и последний акт представления проделать. У нас ведь как? У нас что падает, то уж и лежит. У нас что раз упало, то уж и вовеки лежи. Как бы не так-с! Я встать желаю. Отцы святые, я вами возмущен. Исповедь есть великое таинство, пред которым и я благоговею и готов повергнуться ниц, а тут вдруг там в келье все на коленках и исповедуются вслух. Разве вслух позволено исповедываться? Святыми отцами установлено исповедание на ухо, тогда только исповедь ваша будет таинством, и это издревле. А то как я ему объясню при всех, что я, например, то и то… ну то-есть то и то, понимаете? Иногда ведь и сказать неприлично. Так ведь это скандал! Нет, отцы, с вами тут пожалуй в хлыстовщину втянешься… Я при первом же случае напишу в Синод, а сына своего Алексея домой возьму… | “No, excuse me,” Fyodor Pavlovitch broke in shrilly, taking another step into the room. “Allow me to finish. There in the cell you blamed me for behaving disrespectfully just because I spoke of eating gudgeon, Pyotr Alexandrovitch. Miüsov, my relation, prefers to have plus de noblesse que de sincérité in his words, but I prefer in mine plus de sincérité que de noblesse, and—damn the noblesse! That’s right, isn’t it, von Sohn? Allow me, Father Superior, though I am a buffoon and play the buffoon, yet I am the soul of honor, and I want to speak my mind. Yes, I am the soul of honor, while in Pyotr Alexandrovitch there is wounded vanity and nothing else. I came here perhaps to have a look and speak my mind. My son, Alexey, is here, being saved. I am his father; I care for his welfare, and it is my duty to care. While I’ve been playing the fool, I have been listening and having a look on the sly; and now I want to give you the last act of the performance. You know how things are with us? As a thing falls, so it lies. As a thing once has fallen, so it must lie for ever. Not a bit of it! I want to get up again. Holy Father, I am indignant with you. Confession is a great sacrament, before which I am ready to bow down reverently; but there in the cell, they all kneel down and confess aloud. Can it be right to confess aloud? It was ordained by the holy Fathers to confess in secret: then only your confession will be a mystery, and so it was of old. But how can I explain to him before every one that I did this and that … well, you understand what—sometimes it would not be proper to talk about it—so it is really a scandal! No, Fathers, one might be carried along with you to the Flagellants, I dare say … at the first opportunity I shall write to the Synod, and I shall take my son, Alexey, home.” |
| Здесь нотабене. Федор Павлович слышал, где в колокола звонят. Были когда-то злые сплетни, достигшие даже до архиерея (не только по нашему, но и в других монастырях, где установилось старчество), что будто слишком уважаются старцы, в ущерб даже сану игуменскому, и что между прочим будто бы старцы злоупотребляют таинством исповеди и проч. и проч. Обвинения нелепые, которые и пали в свое время сами собой и у нас, и повсеместно. Но глупый дьявол, который подхватил и нес Федора Павловича на его собственных нервах куда-то все дальше и дальше в позорную глубину, подсказал ему это бывшее обвинение, в котором Федор Павлович сам не понимал первого слова. Да и высказать-то его грамотно не сумел, тем более, что на этот раз никто в кельи старца на коленях не стоял и вслух не исповедывался, так что Федор Павлович ничего не мог подобного сам видеть и говорил лишь по старым слухам и сплетням, которые кое-как припомнил. Но высказав свою глупость, он почувствовал, что сморозил нелепый вздор, и вдруг захотелось ему тотчас же доказать слушателям, а пуще всего себе самому, что сказал он вовсе не вздор. И хотя он отлично знал, что с каждым будущим словом все больше и нелепее будет прибавлять к сказанному уже вздору еще такого же, – но уж сдержать себя не мог и полетел как с горы. | We must note here that Fyodor Pavlovitch knew where to look for the weak spot. There had been at one time malicious rumors which had even reached the Archbishop (not only regarding our monastery, but in others where the institution of elders existed) that too much respect was paid to the elders, even to the detriment of the authority of the Superior, that the elders abused the sacrament of confession and so on and so on—absurd charges which had died away of themselves everywhere. But the spirit of folly, which had caught up Fyodor Pavlovitch, and was bearing him on the current of his own nerves into lower and lower depths of ignominy, prompted him with this old slander. Fyodor Pavlovitch did not understand a word of it, and he could not even put it sensibly, for on this occasion no one had been kneeling and confessing aloud in the elder’s cell, so that he could not have seen anything of the kind. He was only speaking from confused memory of old slanders. But as soon as he had uttered his foolish tirade, he felt he had been talking absurd nonsense, and at once longed to prove to his audience, and above all to himself, that he had not been talking nonsense. And, though he knew perfectly well that with each word he would be adding more and more absurdity, he could not restrain himself, and plunged forward blindly. |
| – Какая подлость! – крикнул Петр Александрович. | “How disgraceful!” cried Pyotr Alexandrovitch. |
| – Простите, – сказал вдруг игумен. – Было сказано издревле: “И начат глаголати на мя многая некая, даже и до скверных некиих вещей. Аз же вся слышав, глаголах в себе: се врачество Иисусово есть и послал исцелити тщеславную душу мою”. А потому и мы благодарим вас с покорностью, гость драгоценный! | “Pardon me!” said the Father Superior. “It was said of old, ‘Many have begun to speak against me and have uttered evil sayings about me. And hearing it I have said to myself: it is the correction of the Lord and He has sent it to heal my vain soul.’ And so we humbly thank you, honored guest!” |
| И он поклонился Федору Павловичу в пояс. | and he made Fyodor Pavlovitch a low bow. |
| – Те-те-те! Ханжество и старые фразы! Старые фразы и старые жесты! Старая ложь и казенщина земных поклонов! Знаем мы эти поклоны! “Поцелуй в губы и кинжал в сердце”, как в Разбойниках Шиллера. Не люблю, отцы, фальши, а хочу истины! Но не в пискариках истина, и я это провозгласил! Отцы монахи, зачем поститесь? Зачем вы ждете за это себе награды на небеси? Так ведь из-за этакой награды и я пойду поститься! Нет, монах святой, ты будь-ка добродетелен в жизни, принеси пользу обществу, не заключаясь в монастыре на готовые хлеба и не ожидая награды там на верху, – так это-то потруднее будет. Я тоже ведь, отец игумен, умею складно сказать. Что у них тут наготовлено? – подошел он к столу. – Портвейн старый Фактори, медок разлива братьев Елисеевых, ай да отцы! Не похоже ведь на пискариков. Ишь бутылочек-то отцы наставили, хе-хе-хе! А кто это все доставлял сюда? Это мужик русский, труженик, своими мозольными руками заработанный грош сюда несет, отрывая его от семейства и от нужд государственных! Ведь вы, отцы святые, народ сосете! | “Tut—tut—tut—sanctimoniousness and stock phrases! Old phrases and old gestures. The old lies and formal prostrations. We know all about them. A kiss on the lips and a dagger in the heart, as in Schiller’s Robbers. I don’t like falsehood, Fathers, I want the truth. But the truth is not to be found in eating gudgeon and that I proclaim aloud! Father monks, why do you fast? Why do you expect reward in heaven for that? Why, for reward like that I will come and fast too! No, saintly monk, you try being virtuous in the world, do good to society, without shutting yourself up in a monastery at other people’s expense, and without expecting a reward up aloft for it—you’ll find that a bit harder. I can talk sense, too, Father Superior. What have they got here?” He went up to the table. “Old port wine, mead brewed by the Eliseyev Brothers. Fie, fie, fathers! That is something beyond gudgeon. Look at the bottles the fathers have brought out, he he he! And who has provided it all? The Russian peasant, the laborer, brings here the farthing earned by his horny hand, wringing it from his family and the tax‐gatherer! You bleed the people, you know, holy fathers.” |
| – Это уж совсем недостойно с вашей стороны, – проговорил отец Иосиф. Отец Паисий упорно молчал. Миусов бросился бежать из комнаты, а за ним и Калганов. | “This is too disgraceful!” said Father Iosif. Father Païssy kept obstinately silent. Miüsov rushed from the room, and Kalganov after him. |
| – Ну, отцы, и я за Петром Александровичем! Больше я к вам не приду, просить будете на коленях, не приду. Тысячу рубликов я вам прислал, так вы опять глазки навострили, хе-хе-хе! Нет, еще не прибавлю. Мщу за мою прошедшую молодость, за все унижение мое! – застучал он кулаком по столу в припадке выделанного чувства. – Много значил этот монастырек в моей жизни! Много горьких слез я из-за него пролил! Вы жену мою, кликушу, восстановляли против меня. Вы меня на семи соборах проклинали, по околодку разнесли! Довольно, отцы, нынче век либеральный, век пароходов и железных дорог. Ни тысячи, ни ста рублей, ни ста копеек, ничего от меня не получите! | “Well, Father, I will follow Pyotr Alexandrovitch! I am not coming to see you again. You may beg me on your knees, I shan’t come. I sent you a thousand roubles, so you have begun to keep your eye on me. He he he! No, I’ll say no more. I am taking my revenge for my youth, for all the humiliation I endured.” He thumped the table with his fist in a paroxysm of simulated feeling. “This monastery has played a great part in my life! It has cost me many bitter tears. You used to set my wife, the crazy one, against me. You cursed me with bell and book, you spread stories about me all over the place. Enough, fathers! This is the age of Liberalism, the age of steamers and railways. Neither a thousand, nor a hundred roubles, no, nor a hundred farthings will you get out of me!” |
| Опять нотабене. Никогда и ничего такого особенного не значил наш монастырь в его жизни, и никаких горьких слез не проливал он из-за него. Но он до того увлекся выделанными слезами своими, что на одно мгновенье чуть было себе сам не поверил; даже заплакал было от умиления; но в тот же миг почувствовал, что пора поворачивать оглобли назад. Игумен на злобную ложь его наклонил голову и опять внушительно произнес: | It must be noted again that our monastery never had played any great part in his life, and he never had shed a bitter tear owing to it. But he was so carried away by his simulated emotion, that he was for one moment almost believing it himself. He was so touched he was almost weeping. But at that very instant, he felt that it was time to draw back. The Father Superior bowed his head at his malicious lie, and again spoke impressively: |
| < < < | > > > |
| Двуязычный текст, подготовленный Akirill.com , размещенные на сайте Akirill.com 19 июня 2022 года. 2022 года. Каждую из книг (на английском или русском языках) можно забрать отдельно и повторно использовать в личных и некоммерческих целях. Они свободны от авторского права. При любом совместном использовании двух книг должно быть указано их происхождение https://www.Akirill.com | Bilingual text prepared by Akirill.com , deposited on the site Akirill.com on June 19, 2022. Each of the books (English or French) can be taken back separately and reused for personal and non-commercial purposes. They are free of copyright. Any use of the two books side by side must mention their origin https://www.Akirill.com |
The Brothers Karamazov, by Fyodor Dostoyevsky
| If you liked this page, don’t forget to like and share. Si vous avez aimé cette page, n’oublier pas d’aimer et de partager. |
| Subscribe to not miss anything Abonnez-vous pour ne rien manquer |
| Check out our latest posts |
| Découvrez nos derniers articles |