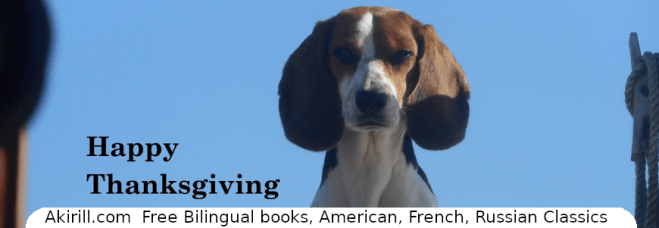Это не дословный перевод, а книга на двух языках, вышедшие бок о бок. Вы можете прочитать его на русском, английском или на обоих языках.
This is not a word-by-word translation but the books in the two languages put side by side. You can read it in Russian, in English or both.
Братья Карамазовы. Роман Федора Достоевского
| Братья Карамазовы. Роман Федора Достоевского | The Brothers Karamazov, by Fyodor Dostoyevsky |
| КНИГА ТРЕТЬЯ. | Book III. |
| Часть1 | Part 1 |
| < < < | > > > |
| Глава V | Chapter V |
| – Клянусь, Алеша, – воскликнул он со страшным и искренним гневом на себя, – верь – не верь, но вот как бог свят, и что Христос есть господь, клянусь, что, я хоть и усмехнулся сейчас ее высшим чувствам, но знаю, что я в миллион раз ничтожнее душой, чем она, и что эти лучшие чувства ее – искренни, как у небесного ангела! В том и трагедия, что я знаю это наверно. Что в том, что человек капельку декламирует? Разве я не декламирую? А ведь искренен же я, искренен. Что же касается Ивана, то ведь я же понимаю, с каким проклятием должен он смотреть теперь на природу, да еще при его-то уме! Кому, чему отдано предпочтение? Отдано извергу, который и здесь, уже женихом будучи, и когда на него все глядели, удержать свои дебоширства не мог, – я это при невесте-то, при невесте-то! И вот такой как я предпочтен, а он отвергается. Но для чего же? А для того, что девица из благодарности жизнь и судьбу свою изнасиловать хочет! Нелепость! Я Ивану в этом смысле ничего и никогда не говорил, Иван разумеется мне тоже об этом никогда ни полслова, ни малейшего намека; но судьба свершится и достойный станет на место, а недостойный скроется в переулок навеки, – в грязный свой переулок, в возлюбленный и свойственный ему переулок, и там, в грязи и вони, погибнет добровольно и с наслаждением. Заврался я что-то, слова у меня все износились, точно наобум ставлю, но так как я определил, так тому и быть. Потону в переулке, а она выйдет за Ивана. | “I swear, Alyosha,” he cried, with intense and genuine anger at himself; “you may not believe me, but as God is holy, and as Christ is God, I swear that though I smiled at her lofty sentiments just now, I know that I am a million times baser in soul than she, and that these lofty sentiments of hers are as sincere as a heavenly angel’s. That’s the tragedy of it—that I know that for certain. What if any one does show off a bit? Don’t I do it myself? And yet I’m sincere, I’m sincere. As for Ivan, I can understand how he must be cursing nature now—with his intellect, too! To see the preference given—to whom, to what? To a monster who, though he is betrothed and all eyes are fixed on him, can’t restrain his debaucheries—and before the very eyes of his betrothed! And a man like me is preferred, while he is rejected. And why? Because a girl wants to sacrifice her life and destiny out of gratitude. It’s ridiculous! I’ve never said a word of this to Ivan, and Ivan of course has never dropped a hint of the sort to me. But destiny will be accomplished, and the best man will hold his ground while the undeserving one will vanish into his back‐ alley for ever—his filthy back‐alley, his beloved back‐alley, where he is at home and where he will sink in filth and stench at his own free will and with enjoyment. I’ve been talking foolishly. I’ve no words left. I use them at random, but it will be as I have said. I shall drown in the back‐ alley, and she will marry Ivan.” |
| – Брат, постой, – с чрезвычайным беспокойством опять прервал Алеша, – ведь тут все-таки одно дело ты мне до сих пор не разъяснил: ведь ты жених, ведь ты все-таки жених? Как же ты хочешь порвать, если она, невеста, не хочет? | “Stop, Dmitri,” Alyosha interrupted again with great anxiety. “There’s one thing you haven’t made clear yet: you are still betrothed all the same, aren’t you? How can you break off the engagement if she, your betrothed, doesn’t want to?” |
| – Я жених, формальный и благословленный, произошло все в Москве, по моем приезде, с парадом, с образами, и в лучшем виде. Генеральша благословила и – веришь ли, поздравила даже Катю: ты выбрала, говорит, хорошо, я вижу его насквозь. И веришь ли, Ивана она не взлюбила и не поздравила. В Москве же я много и с Катей переговорил, я ей всего себя расписал, благородно, в точности, в искренности. Все выслушала: | “Yes, formally and solemnly betrothed. It was all done on my arrival in Moscow, with great ceremony, with ikons, all in fine style. The general’s wife blessed us, and—would you believe it?—congratulated Katya. ‘You’ve made a good choice,’ she said, ‘I see right through him.’ And—would you believe it?—she didn’t like Ivan, and hardly greeted him. I had a lot of talk with Katya in Moscow. I told her about myself—sincerely, honorably. She listened to everything. |
| “Было милое смущенье, | There was sweet confusion, |
| Были нежные слова”… Ну, слова-то были и гордые. Она вынудила у меня тогда великое обещание исправиться. Я дал обещание. И вот… | There were tender words. Though there were proud words, too. She wrung out of me a mighty promise to reform. I gave my promise, and here—” |
| – Что же? | “What?” |
| – И вот я тебя кликнул и перетащил сюда сегодня, сегодняшнего числа, – запомни! – с тем, чтобы послать тебя, и опять-таки сегодня же, к Катерине Ивановне, и… | “Why, I called to you and brought you out here to‐day, this very day—remember it—to send you—this very day again—to Katerina Ivanovna, and—” |
| – Что? | “What?” |
| – Сказать ей, что я больше к ней не приду никогда, приказал дескать кланяться. | “To tell her that I shall never come to see her again. Say, ‘He sends you his compliments.’ ” |
| – Да разве это возможно? | “But is that possible?” |
| – Да я потому-то тебя и посылаю вместо себя, что это невозможно, а то как же я сам-то ей это скажу? | “That’s just the reason I’m sending you, in my place, because it’s impossible. And, how could I tell her myself?” |
| – Да куда же ты пойдешь? | “And where are you going?” |
| – В переулок. | “To the back‐alley.” |
| – Так это к Грушеньке! – горестно воскликнул Алеша, всплеснув руками. – Да неужто же Ракитин в самом деле правду сказал? А я думал, что ты только так к ней походил и кончил. | “To Grushenka, then!” Alyosha exclaimed mournfully, clasping his hands. “Can Rakitin really have told the truth? I thought that you had just visited her, and that was all.” |
| – Это жениху-то ходить? Да разве это возможно, да еще при такой невесте, и на глазах у людей? Ведь честь-то у меня есть небось. Только что я стал ходить к Грушеньке, так тотчас же и перестал быть женихом и честным человеком, ведь это я понимаю же. Что ты смотришь? Я, видишь ли, сперва всего пошел ее бить. Я узнал и знаю теперь достоверно, что Грушеньке этой был этим штабс-капитаном, отцовским поверенным, вексель на меня передан, чтобы взыскала, чтоб я унялся и кончил. Испугать хотели. Я Грушеньку и двинулся бить. Видал я ее и прежде мельком. Она не поражает. Про старика купца знал, который теперь вдобавок и болен, расслаблен лежит, но ей куш все-таки оставит знатный. Знал тоже, что деньгу нажить любит, наживает, на злые проценты дает, пройдоха, шельма, без жалости. Пошел я бить ее, да у ней и остался. Грянула гроза, ударила чума, заразился и заражен доселе, и знаю, что уж все кончено, что ничего другого и никогда не будет. Цикл времен совершен. Вот мое дело. А тогда вдруг как нарочно у меня в кармане, у нищего, очутились три тысячи. Мы отсюда с ней в Мокрое, это двадцать пять отсюда верст, цыган туда добыл, цыганок, шампанского, всех мужиков там шампанским перепоил, всех баб и девок, двинул тысячами. Через три дня гол, но сокол. Ты думал достиг чего сокол-то? Даже издали не показала. Я говорю тебе: изгиб. У Грушеньки, шельмы, есть такой один изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался. Видел и целовал, но и только – клянусь! Говорит: “хочешь, выйду замуж, ведь ты нищий. Скажи, что бить не будешь и позволишь все мне делать, что я захочу, тогда может и выйду”, – смеется. И теперь смеется! Akirill.com | “Can a betrothed man pay such visits? Is such a thing possible and with such a betrothed, and before the eyes of all the world? Confound it, I have some honor! As soon as I began visiting Grushenka, I ceased to be betrothed, and to be an honest man. I understand that. Why do you look at me? You see, I went in the first place to beat her. I had heard, and I know for a fact now, that that captain, father’s agent, had given Grushenka an I.O.U. of mine for her to sue me for payment, so as to put an end to me. They wanted to scare me. I went to beat her. I had had a glimpse of her before. She doesn’t strike one at first sight. I knew about her old merchant, who’s lying ill now, paralyzed; but he’s leaving her a decent little sum. I knew, too, that she was fond of money, that she hoarded it, and lent it at a wicked rate of interest, that she’s a merciless cheat and swindler. I went to beat her, and I stayed. The storm broke—it struck me down like the plague. I’m plague‐stricken still, and I know that everything is over, that there will never be anything more for me. The cycle of the ages is accomplished. That’s my position. And though I’m a beggar, as fate would have it, I had three thousand just then in my pocket. I drove with Grushenka to Mokroe, a place twenty‐five versts from here. I got gypsies there and champagne and made all the peasants there drunk on it, and all the women and girls. I sent the thousands flying. In three days’ time I was stripped bare, but a hero. Do you suppose the hero had gained his end? Not a sign of it from her. I tell you that rogue, Grushenka, has a supple curve all over her body. You can see it in her little foot, even in her little toe. I saw it, and kissed it, but that was all, I swear! ‘I’ll marry you if you like,’ she said, ‘you’re a beggar, you know. Say that you won’t beat me, and will let me do anything I choose, and perhaps I will marry you.’ She laughed, and she’s laughing still!” |
| Дмитрий Федорович почти с какою-то яростью поднялся с места, он вдруг стал как пьяный. Глаза его вдруг налились кровью. | Dmitri leapt up with a sort of fury. He seemed all at once as though he were drunk. His eyes became suddenly bloodshot. |
| – И ты в самом деле хочешь на ней жениться? | “And do you really mean to marry her?” |
| – Коль захочет, так тотчас же, а не захочет, и так останусь; у нее на дворе буду дворником. Ты… ты, Алеша… – остановился он вдруг пред ним и, схватив его за плечи, стал вдруг с силою трясти его: – да знаешь ли ты, невинный ты мальчик, что все это бред, немыслимый бред, ибо тут трагедия! Узнай же, Алексей, что я могу быть низким человеком, со страстями низкими и погибшими, но вором, карманным вором, воришкой по передним, Дмитрий Карамазов не может быть никогда. Ну так узнай же теперь, что я воришка, я вор по карманам и по передним! Как раз пред тем как я Грушеньку пошел бить, призывает меня в то самое утро Катерина Ивановна, и в ужасном секрете, чтобы покамест никто не знал (для чего не знаю, видно так ей было нужно), просит меня съездить в губернский город и там по почте послать три тысячи Агафье Ивановне, в Москву, потому в город, чтобы здесь и не знали. Вот с этими-то тремя тысячами в кармане я и очутился тогда у Грушеньки, на них и в Мокрое съездили. Потом я сделал вид, что слетал в город, но расписки почтовой ей не представил, сказал, что послал, расписку принесу, и до сих пор не несу, забыл-с. Теперь, как ты думаешь, вот ты сегодня пойдешь и ей скажешь: “приказали вам кланяться”, а она тебе: “А деньги?” Ты еще мог бы сказать ей: “это низкий сладострастник, и с неудержимыми чувствами подлое существо. Он тогда не послал ваши деньги, а растратил, потому что удержаться не мог как низкое животное, но все-таки ты мог бы прибавить: зато он не вор, вот ваши три тысячи, посылает обратно, пошлите сами Агафье Ивановне, а сам велел кланяться. А теперь вдруг она: “а где деньги?” | “At once, if she will. And if she won’t, I shall stay all the same. I’ll be the porter at her gate. Alyosha!” he cried. He stopped short before him, and taking him by the shoulders began shaking him violently. “Do you know, you innocent boy, that this is all delirium, senseless delirium, for there’s a tragedy here. Let me tell you, Alexey, that I may be a low man, with low and degraded passions, but a thief and a pickpocket Dmitri Karamazov never can be. Well, then; let me tell you that I am a thief and a pickpocket. That very morning, just before I went to beat Grushenka, Katerina Ivanovna sent for me, and in strict secrecy (why I don’t know, I suppose she had some reason) asked me to go to the chief town of the province and to post three thousand roubles to Agafya Ivanovna in Moscow, so that nothing should be known of it in the town here. So I had that three thousand roubles in my pocket when I went to see Grushenka, and it was that money we spent at Mokroe. Afterwards I pretended I had been to the town, but did not show her the post office receipt. I said I had sent the money and would bring the receipt, and so far I haven’t brought it. I’ve forgotten it. Now what do you think you’re going to her to‐day to say? ‘He sends his compliments,’ and she’ll ask you, ‘What about the money?’ You might still have said to her, ‘He’s a degraded sensualist, and a low creature, with uncontrolled passions. He didn’t send your money then, but wasted it, because, like a low brute, he couldn’t control himself.’ But still you might have added, ‘He isn’t a thief though. Here is your three thousand; he sends it back. Send it yourself to Agafya Ivanovna. But he told me to say “he sends his compliments.” ’ But, as it is, she will ask, ‘But where is the money?’ ” |
| – Митя, ты несчастен, да! Но все же не столько, сколько ты думаешь, – не убивай себя отчаянием, не убивай! | “Mitya, you are unhappy, yes! But not as unhappy as you think. Don’t worry yourself to death with despair.” Akirill.com |
| – А что ты думаешь, застрелюсь, как не достану трех тысяч отдать? В том-то и дело, что не застрелюсь. Не в силах теперь, потом может быть, а теперь я к Грушеньке пойду… Пропадай мое сало! | “What, do you suppose I’d shoot myself because I can’t get three thousand to pay back? That’s just it. I shan’t shoot myself. I haven’t the strength now. Afterwards, perhaps. But now I’m going to Grushenka. I don’t care what happens.” |
| – А у ней? | “And what then?” |
| – Буду мужем ее, в супруги удостоюсь, а коль придет любовник, выйду в другую комнату. У ее приятелей буду калоши грязные обчищать, самовар раздувать, на посылках бегать… | “I’ll be her husband if she deigns to have me, and when lovers come, I’ll go into the next room. I’ll clean her friends’ goloshes, blow up their samovar, run their errands.” |
| – Катерина Ивановна все поймет, – торжественно проговорил вдруг Алеша, – поймет всю глубину во всем этом горе и примирится. У нее высший ум, потому что нельзя быть несчастнее тебя, она увидит сама. | “Katerina Ivanovna will understand it all,” Alyosha said solemnly. “She’ll understand how great this trouble is and will forgive. She has a lofty mind, and no one could be more unhappy than you. She’ll see that for herself.” |
| – Не помирится она со всем, – осклабился Митя. – Тут, брат, есть нечто, с чем нельзя никакой женщине примириться. А знаешь что всего лучше сделать? | “She won’t forgive everything,” said Dmitri, with a grin. “There’s something in it, brother, that no woman could forgive. Do you know what would be the best thing to do?” |
| – Что? | “What?” |
| – Три тысячи ей отдать. | “Pay back the three thousand.” |
| – Где же взять-то? Слушай, у меня есть две тысячи, Иван даст тоже тысячу, вот и три, возьми и отдай. | “Where can we get it from? I say, I have two thousand. Ivan will give you another thousand—that makes three. Take it and pay it back.” |
| – А когда они прибудут, твои три тысячи? Ты еще и несовершеннолетний вдобавок, а надо непременно, непременно, чтобы ты сегодня уже ей откланялся, с деньгами или без денег, потому что я дальше тянуть не могу, дело на такой точке стало. Завтра уже поздно, поздно. Я тебя к отцу пошлю. | “And when would you get it, your three thousand? You’re not of age, besides, and you must—you absolutely must—take my farewell to her to‐day, with the money or without it, for I can’t drag on any longer, things have come to such a pass. To‐morrow is too late. I shall send you to father.” |
| – К отцу? | “To father?” |
| – Да. к отцу прежде нее. У него три тысячи и спроси. | “Yes, to father first. Ask him for three thousand.” |
| – Да ведь он, Митя, не даст. | “But, Mitya, he won’t give it.” |
| – Еще бы дал, знаю, что не даст. Знаешь ты, Алексей, что значит отчаяние? | “As though he would! I know he won’t. Do you know the meaning of despair, Alexey?” |
| – Знаю. | “Yes.” |
| – Слушай: юридически он мне ничего не должен. Все я у него выбрал, все, я это знаю. Но ведь нравственно-то должен он мне. так иль не так? Ведь он с материных двадцати восьми тысяч пошел и сто тысяч нажил. Пусть он мне даст только три тысячи из двадцати восьми, только три, и душу мою из ада извлечет, и зачтется это ему за многие грехи! Я же на этих трех тысячах, вот тебе великое слово, – покончу, и не услышит он ничего обо мне более вовсе. В последний раз случай ему даю быть отцом. Скажи ему, что сам бог ему этот случай посылает. | “Listen. Legally he owes me nothing. I’ve had it all from him, I know that. But morally he owes me something, doesn’t he? You know he started with twenty‐eight thousand of my mother’s money and made a hundred thousand with it. Let him give me back only three out of the twenty‐eight thousand, and he’ll draw my soul out of hell, and it will atone for many of his sins. For that three thousand—I give you my solemn word—I’ll make an end of everything, and he shall hear nothing more of me. For the last time I give him the chance to be a father. Tell him God Himself sends him this chance.” |
| – Митя, он ни за что не даст. | “Mitya, he won’t give it for anything.” |
| – Знаю, что не даст, в совершенстве знаю. А теперь особенно. Мало того, я вот что еще знаю: теперь, на-днях только, всего только может быть вчера, он в первый раз узнал серьезно (подчеркни серьезно), что Грушенька-то в самом деле может быть не шутит и за меня замуж захочет прыгнуть. Знает он этот характер, знает эту кошку. Ну так неужто уж он мне в добавок и деньги даст, чтоб этакому случаю способствовать, тогда как сам он от нее без памяти? Но и этого еще мало, я еще больше тебе могу привесть: я знаю, что у него уж дней пять как вынуты три тысячи рублей, разменены в сотенные кредитки и упакованы в большой пакет, под пятью печатями, а сверху красною тесемочкой накрест перевязаны. Видишь, как подробно знаю! На пакете же надписано: “Ангелу моему Грушеньке, коли захочет придти”, сам нацарапал, в тишине и в тайне, и никто-то не знает, что у него деньги лежат, кроме лакея Смердякова, в честность которого он верит как в себя самого. Вот он уж третий аль четвертый день Грушеньку ждет, надеется, что придет за пакетом, дал он ей знать, а та знать дала, что “может-де и приду”. Так ведь если она придет к старику, разве я могу тогда жениться на ней? Понимаешь теперь, зачем значит я здесь на секрете сижу и что именно сторожу? | “I know he won’t. I know it perfectly well. Now, especially. That’s not all. I know something more. Now, only a few days ago, perhaps only yesterday he found out for the first time in earnest (underline in earnest) that Grushenka is really perhaps not joking, and really means to marry me. He knows her nature; he knows the cat. And do you suppose he’s going to give me money to help to bring that about when he’s crazy about her himself? And that’s not all, either. I can tell you more than that. I know that for the last five days he has had three thousand drawn out of the bank, changed into notes of a hundred roubles, packed into a large envelope, sealed with five seals, and tied across with red tape. You see how well I know all about it! On the envelope is written: ‘To my angel, Grushenka, when she will come to me.’ He scrawled it himself in silence and in secret, and no one knows that the money’s there except the valet, Smerdyakov, whom he trusts like himself. So now he has been expecting Grushenka for the last three or four days; he hopes she’ll come for the money. He has sent her word of it, and she has sent him word that perhaps she’ll come. And if she does go to the old man, can I marry her after that? You understand now why I’m here in secret and what I’m on the watch for.” |
| – Ее? | “For her?” |
| – Ее. У этих шлюх, здешних хозяек, нанимает каморку Фома. Фома из наших мест, наш бывший солдат. Он у них прислуживает, ночью сторожит, а днем тетеревей ходит стрелять, да тем и живет. Я у него тут и засел; ни ему ни хозяйкам секрет неизвестен, то-есть что я здесь сторожу. | “Yes, for her. Foma has a room in the house of these sluts here. Foma comes from our parts; he was a soldier in our regiment. He does jobs for them. He’s watchman at night and goes grouse‐shooting in the day‐time; and that’s how he lives. I’ve established myself in his room. Neither he nor the women of the house know the secret—that is, that I am on the watch here.” |
| – Один Смердяков знает? | “No one but Smerdyakov knows, then?” |
| – Он один. Он мне и знать даст, коль та к старику придет. | “No one else. He will let me know if she goes to the old man.” |
| – Это он тебе про пакет рассказал? | “It was he told you about the money, then?” |
| – Он. Величайший секрет. Даже Иван не знает ни о деньгах, ни о чем. А старик Ивана в Чермашню посылает на два, на три дня прокатиться: объявился покупщик на рощу срубить ее за восемь тысяч, вот и упрашивает старик Ивана: “помоги, дескать, съезди сам” денька на два, на три, значит. Это он хочет, чтобы Грушенька без него пришла. | “Yes. It’s a dead secret. Even Ivan doesn’t know about the money, or anything. The old man is sending Ivan to Tchermashnya on a two or three days’ journey. A purchaser has turned up for the copse: he’ll give eight thousand for the timber. So the old man keeps asking Ivan to help him by going to arrange it. It will take him two or three days. That’s what the old man wants, so that Grushenka can come while he’s away.” |
| – Стало быть он и сегодня ждет Грушеньку? | “Then he’s expecting Grushenka to‐day?” |
| – Нет, сегодня она не придет, есть приметы. Наверно не придет! – крикнул вдруг Митя. – Так и Смердяков полагает. Отец теперь пьянствует, сидит за столом с братом Иваном. Сходи, Алексей, спроси у него эти три тысячи… | “No, she won’t come to‐day; there are signs. She’s certain not to come,” cried Mitya suddenly. “Smerdyakov thinks so, too. Father’s drinking now. He’s sitting at table with Ivan. Go to him, Alyosha, and ask for the three thousand.” |
| – Митя, милый, что с тобой! – воскликнул Алеша, вскакивая с места и всматриваясь в исступленного Дмитрия Федоровича. Одно мгновение он думал, что тот помешался. | “Mitya, dear, what’s the matter with you?” cried Alyosha, jumping up from his place, and looking keenly at his brother’s frenzied face. For one moment the thought struck him that Dmitri was mad. |
| – Что ты? Я не помешан в уме, – пристально и даже как-то торжественно смотря, произнес Дмитрий Федорович. – Не бось, я тебя посылаю к отцу и знаю, что говорю: я чуду верю. | “What is it? I’m not insane,” said Dmitri, looking intently and earnestly at him. “No fear. I am sending you to father, and I know what I’m saying. I believe in miracles.” |
| – Чуду? | “In miracles?” |
| – Чуду промысла божьего. Богу известно мое сердце, он видит все мое отчаяние. Он всю эту картину видит. Неужели он попустит совершиться ужасу? Алеша, я чуду верю, иди! | “In a miracle of Divine Providence. God knows my heart. He sees my despair. He sees the whole picture. Surely He won’t let something awful happen. Alyosha, I believe in miracles. Go!” |
| – Я пойду. Скажи, ты здесь будешь ждать? | “I am going. Tell me, will you wait for me here?” |
| – Буду, понимаю, что не скоро, что нельзя этак придти и прямо бух! Он теперь пьян. Буду ждать и три часа, и четыре, и пять, и шесть, и семь, но только знай, что сегодня, хотя бы даже в полночь, ты явишься к Катерине Ивановне, с деньгами или без денег, и скажешь: велел вам кланяться. Я именно хочу, чтобы ты этот стих сказал: “велел дескать кланяться”. | “Yes. I know it will take some time. You can’t go at him point blank. He’s drunk now. I’ll wait three hours—four, five, six, seven. Only remember you must go to Katerina Ivanovna to‐day, if it has to be at midnight, with the money or without the money, and say, ‘He sends his compliments to you.’ I want you to say that verse to her: ‘He sends his compliments to you.’ ” |
| – Митя! а вдруг Грушенька придет сегодня… не сегодня, так завтра, аль послезавтра? | “Mitya! And what if Grushenka comes to‐day—if not to‐day, to‐morrow, or the next day?” |
| – Грушенька? Подсмотрю, ворвусь и помешаю… | “Grushenka? I shall see her. I shall rush out and prevent it.” |
| – А если… | “And if—” |
| – А коль если, так убью. Так не переживу. | “If there’s an if, it will be murder. I couldn’t endure it.” |
| – Кого убьешь? | “Who will be murdered?” |
| – Старика. Ее не убью. | “The old man. I shan’t kill her.” |
| – Брат, что ты говоришь! | “Brother, what are you saying?” |
| – Я ведь не знаю, не знаю… Может быть не убью, а может убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь. Вот и не удержусь… | “Oh, I don’t know…. I don’t know. Perhaps I shan’t kill, and perhaps I shall. I’m afraid that he will suddenly become so loathsome to me with his face at that moment. I hate his ugly throat, his nose, his eyes, his shameless snigger. I feel a physical repulsion. That’s what I’m afraid of. That’s what may be too much for me.” |
| – Я пойду, Митя. Я верю, что бог устроит, как знает лучше, чтобы не было ужаса. | “I’ll go, Mitya. I believe that God will order things for the best, that nothing awful may happen.” |
| – А я буду сидеть и чуда ждать. Но если не свершится, то… | “And I will sit and wait for the miracle. And if it doesn’t come to pass—” |
| Алеша задумчивый направился к отцу. | Alyosha went thoughtfully towards his father’s house. |
| VI. СМЕРДЯКОВ. | Chapter VI. Smerdyakov |
| Он и вправду застал еще отца за столом. Стол же был по всегдашнему обыкновению накрыт в зале, хотя в доме находилась и настоящая столовая. Эта зала была самая большая в доме комната, с какою-то старинною претензией меблированная. Мебель была древнейшая, белая, с красною, ветхою, полушелковою обивкой. В простенках между окон вставлены были зеркала в вычурных рамах старинной резьбы, тоже белых с золотом. На стенах, обитых белыми бумажными и во многих местах уже треснувшими обоями, красовались два большие портрета, – одного какого-то князя, лет тридцать назад бывшего генерал-губернатором местного края, и какого-то архиерея давно уже тоже почившего. В переднем углу помещалось несколько икон, пред которыми на ночь зажигалась лампадка… не столько из благоговения, сколько для того, чтобы комната на ночь была освещена. Федор Павлович ложился по ночам очень поздно, часа в три, в четыре утра, а до тех пор все бывало ходит по комнате или сидит в креслах и думает. Такую привычку сделал. Ночевал он нередко совсем один в доме, отсылая слуг во флигель, но большею частью с ним оставался по ночам слуга Смердяков, спавший в передней на залавке. Когда вошел Алеша, весь обед был уже покончен, но подано было варенье и кофе. Федор Павлович любил после обеда сладости с коньячком. Иван Федорович находился тут же за столом и тоже кушал кофе. Слуги Григорий и Смердяков стояли у стола. И господа, и слуги были в видимом и необыкновенно веселом одушевлении. Федор Павлович громко хохотал и смеялся; Алеша еще из сеней услышал его визгливый, столь знакомый ему прежде смех, и тотчас же заключил, по звукам смеха, что отец еще далеко не пьян, а пока лишь всего благодушествует. | He did in fact find his father still at table. Though there was a dining‐ room in the house, the table was laid as usual in the drawing‐room, which was the largest room, and furnished with old‐fashioned ostentation. The furniture was white and very old, upholstered in old, red, silky material. In the spaces between the windows there were mirrors in elaborate white and gilt frames, of old‐fashioned carving. On the walls, covered with white paper, which was torn in many places, there hung two large portraits—one of some prince who had been governor of the district thirty years before, and the other of some bishop, also long since dead. In the corner opposite the door there were several ikons, before which a lamp was lighted at nightfall … not so much for devotional purposes as to light the room. Fyodor Pavlovitch used to go to bed very late, at three or four o’clock in the morning, and would wander about the room at night or sit in an arm‐chair, thinking. This had become a habit with him. He often slept quite alone in the house, sending his servants to the lodge; but usually Smerdyakov remained, sleeping on a bench in the hall. When Alyosha came in, dinner was over, but coffee and preserves had been served. Fyodor Pavlovitch liked sweet things with brandy after dinner. Ivan was also at table, sipping coffee. The servants, Grigory and Smerdyakov, were standing by. Both the gentlemen and the servants seemed in singularly good spirits. Fyodor Pavlovitch was roaring with laughter. Before he entered the room, Alyosha heard the shrill laugh he knew so well, and could tell from the sound of it that his father had only reached the good‐humored stage, and was far from being completely drunk. |
| – Вот и он, вот и он! – завопил Федор Павлович, вдруг страшно обрадовавшись Алеше. – Присоединяйся к нам, садись, кофейку, – постный, ведь, постный, да горячий, да славный! Коньячку не приглашаю, ты постник, а хочешь, хочешь? Нет, я лучше тебе ликерцу дам, знатный! – Смердяков, сходи в шкаф, на второй полке направо, вот ключи, живей! | “Here he is! Here he is!” yelled Fyodor Pavlovitch, highly delighted at seeing Alyosha. “Join us. Sit down. Coffee is a lenten dish, but it’s hot and good. I don’t offer you brandy, you’re keeping the fast. But would you like some? No; I’d better give you some of our famous liqueur. Smerdyakov, go to the cupboard, the second shelf on the right. Here are the keys. Look sharp!” |
| Алеша стал было от ликера отказываться. | Alyosha began refusing the liqueur. |
| – Все равно подадут не для тебя, так для нас, – сиял Федор Павлович. – Да постой, ты обедал аль нет? | “Never mind. If you won’t have it, we will,” said Fyodor Pavlovitch, beaming. “But stay—have you dined?” |
| – Обедал, – сказал Алеша, съевший, по правде, всего только ломоть хлеба и выпивший стакан квасу на игуменской кухне. – Вот я кофе горячего выпью с охотой. | “Yes,” answered Alyosha, who had in truth only eaten a piece of bread and drunk a glass of kvas in the Father Superior’s kitchen. “Though I should be pleased to have some hot coffee.” |
| – Милый! Молодец! Он кофейку выпьет. Не подогреть ли? Да нет, и теперь кипит. Кофе знатный, Смердяковский. На кофе, да на кулебяки Смердяков у меня артист, да на уху еще, правда. Когда-нибудь на уху приходи, заранее дай знать… Да постой, постой, ведь я тебе давеча совсем велел сегодня же переселиться с тюфяком и подушками? Тюфяк-то притащил? хе-хе-хе!.. | “Bravo, my darling! He’ll have some coffee. Does it want warming? No, it’s boiling. It’s capital coffee: Smerdyakov’s making. My Smerdyakov’s an artist at coffee and at fish patties, and at fish soup, too. You must come one day and have some fish soup. Let me know beforehand…. But, stay; didn’t I tell you this morning to come home with your mattress and pillow and all? Have you brought your mattress? He he he!” |
| – Нет, не принес, – усмехнулся и Алеша. | “No, I haven’t,” said Alyosha, smiling, too. |
| – А, испугался, испугался-таки давеча, испугался? Ах ты, голубчик, да я ль тебя обидеть могу. Слушай, Иван, не могу я видеть, как он этак смотрит в глаза и смеется, не могу. Утроба у меня вся начинает на него смеяться, люблю его! Алешка, дай я тебе благословение родительское дам. Алеша встал, но Федор Павлович успел одуматься. | “Ah, but you were frightened, you were frightened this morning, weren’t you? There, my darling, I couldn’t do anything to vex you. Do you know, Ivan, I can’t resist the way he looks one straight in the face and laughs? It makes me laugh all over. I’m so fond of him. Alyosha, let me give you my blessing—a father’s blessing.” Alyosha rose, but Fyodor Pavlovitch had already changed his mind. |
| – Нет, нет, я только теперь перекрещу тебя, вот так, садись. Ну, теперь тебе удовольствие будет, и именно на твою тему. Насмеешься. У нас Валаамова ослица заговорила, да как говорит-то, как говорит! | “No, no,” he said. “I’ll just make the sign of the cross over you, for now. Sit still. Now we’ve a treat for you, in your own line, too. It’ll make you laugh. Balaam’s ass has begun talking to us here—and how he talks! How he talks!” |
| Валаамовою ослицей оказался лакей Смердяков. Человек еще молодой, всего лет двадцати четырех, он был страшно нелюдим и молчалив. Не то чтобы дик или чего-нибудь стыдился, нет, характером он был напротив надменен и как будто всех презирал. Но вот и нельзя миновать, чтобы не сказать о нем хотя двух слов, и именно теперь. Воспитали его Марфа Игнатьевна и Григорий Васильевич, но мальчик рос “безо всякой благодарности”, как выражался о нем Григорий, мальчиком диким и смотря на свет из угла. В детстве он очень любил вешать кошек и потом хоронить их с церемонией. Он надевал для этого простыню, что составляло в роде как бы ризы, и пел и махал чем-нибудь над мертвою кошкой, как будто кадил. Все это потихоньку, в величайшей тайне. Григорий поймал его однажды на этом упражнении и больно наказал розгой. Тот ушел в угол и косился оттуда с неделю. “Не любит он нас с тобой, этот изверг”, говорил Григорий Марфе Игнатьевне, “да и никого не любит. Ты разве человек”, обращался он вдруг прямо к Смердякову, – “ты не человек, ты из банной мокроты завелся, вот ты кто”… Смердяков, как оказалось впоследствии, никогда не мог простить ему этих слов. Григорий выучил его грамоте и, когда минуло ему лет двенадцать, стал учить священной истории. Но дело кончилось тотчас же ничем. Как-то однажды, всего только на втором иль на третьем уроке, мальчик вдруг усмехнулся. | Balaam’s ass, it appeared, was the valet, Smerdyakov. He was a young man of about four and twenty, remarkably unsociable and taciturn. Not that he was shy or bashful. On the contrary, he was conceited and seemed to despise everybody. But we must pause to say a few words about him now. He was brought up by Grigory and Marfa, but the boy grew up “with no sense of gratitude,” as Grigory expressed it; he was an unfriendly boy, and seemed to look at the world mistrustfully. In his childhood he was very fond of hanging cats, and burying them with great ceremony. He used to dress up in a sheet as though it were a surplice, and sang, and waved some object over the dead cat as though it were a censer. All this he did on the sly, with the greatest secrecy. Grigory caught him once at this diversion and gave him a sound beating. He shrank into a corner and sulked there for a week. “He doesn’t care for you or me, the monster,” Grigory used to say to Marfa, “and he doesn’t care for any one. Are you a human being?” he said, addressing the boy directly. “You’re not a human being. You grew from the mildew in the bath‐house.[2] That’s what you are.” Smerdyakov, it appeared afterwards, could never forgive him those words. Grigory taught him to read and write, and when he was twelve years old, began teaching him the Scriptures. But this teaching came to nothing. At the second or third lesson the boy suddenly grinned. |
| – Чего ты? – спросил Григорий, грозно выглядывая на него из-под очков. | “What’s that for?” asked Grigory, looking at him threateningly from under his spectacles. |
| – Ничего-с. Свет создал господь бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день? | “Oh, nothing. God created light on the first day, and the sun, moon, and stars on the fourth day. Where did the light come from on the first day?” |
| Григорий остолбенел. Мальчик насмешливо глядел на учителя. Даже было во взгляде его что-то высокомерное. Григорий не выдержал. “А вот откуда!” крикнул он и неистово ударил ученика по щеке. Мальчик вынес пощечину, не возразив ни слова, но забился опять в угол на несколько дней. Как раз случилось так, что через неделю у него объявилась падучая болезнь в первый раз в жизни, не покидавшая его потом во всю жизнь. Узнав об этом, Федор Павлович как будто вдруг изменил на мальчика свой взгляд. Прежде он как-то равнодушно глядел на него, хотя никогда не бранил и встречая всегда давал копеечку. В благодушном настроении иногда посылал со стола мальчишке чего-нибудь сладенького. Но тут, узнав о болезни, решительно стал о нем заботиться, пригласил доктора, стал было лечить, но оказалось, что вылечить невозможно. Средним числом припадки приходили по разу в месяц, и в разные сроки. Припадки тоже бывали разной силы, – иные легкие, другие очень жестокие. Федор Павлович запретил наистрожайше Григорию наказывать мальчишку телесно и стал пускать его к себе на верх. Учить его чему бы то ни было тоже пока запретил. Но раз, когда мальчику было уже лет пятнадцать, заметил Федор Павлович, что тот бродит около шкафа с книгами, и сквозь стекло читает их названия. У Федора Павловича водилось книг довольно, томов сотня слишком, но никто никогда не видал его самого за книгой. Он тотчас же передал ключ от шкафа Смердякову: “Ну и читай, будешь библиотекарем, чем по двору шляться, садись да читай. Вот прочти эту”, и Федор Павлович вынул ему Вечера на хуторе близ Диканьки. | Grigory was thunderstruck. The boy looked sarcastically at his teacher. There was something positively condescending in his expression. Grigory could not restrain himself. “I’ll show you where!” he cried, and gave the boy a violent slap on the cheek. The boy took the slap without a word, but withdrew into his corner again for some days. A week later he had his first attack of the disease to which he was subject all the rest of his life—epilepsy. When Fyodor Pavlovitch heard of it, his attitude to the boy seemed changed at once. Till then he had taken no notice of him, though he never scolded him, and always gave him a copeck when he met him. Sometimes, when he was in good humor, he would send the boy something sweet from his table. But as soon as he heard of his illness, he showed an active interest in him, sent for a doctor, and tried remedies, but the disease turned out to be incurable. The fits occurred, on an average, once a month, but at various intervals. The fits varied too, in violence: some were light and some were very severe. Fyodor Pavlovitch strictly forbade Grigory to use corporal punishment to the boy, and began allowing him to come upstairs to him. He forbade him to be taught anything whatever for a time, too. One day when the boy was about fifteen, Fyodor Pavlovitch noticed him lingering by the bookcase, and reading the titles through the glass. Fyodor Pavlovitch had a fair number of books—over a hundred—but no one ever saw him reading. He at once gave Smerdyakov the key of the bookcase. “Come, read. You shall be my librarian. You’ll be better sitting reading than hanging about the courtyard. Come, read this,” and Fyodor Pavlovitch gave him Evenings in a Cottage near Dikanka. |
| Малый прочел, но остался недоволен, ни разу не усмехнулся, напротив кончил нахмурившись. | He read a little but didn’t like it. He did not once smile, and ended by frowning. |
| – Что ж? Не смешно? – спросил Федор Павлович. Смердяков молчал. | “Why? Isn’t it funny?” asked Fyodor Pavlovitch. Smerdyakov did not speak. |
| – Отвечай, дурак. | “Answer, stupid!” |
| – Про неправду все написано, – ухмыляясь прошамкал Смердяков. | “It’s all untrue,” mumbled the boy, with a grin. |
| – Ну и убирайся к чорту, лакейская ты душа. Стой, вот тебе Всеобщая История Смарагдова, тут уж все правда, читай. | “Then go to the devil! You have the soul of a lackey. Stay, here’s Smaragdov’s Universal History. That’s all true. Read that.” |
| Но Смердяков не прочел и десяти страниц из Смарагдова, показалось скучно. Так и закрылся опять шкаф с книгами. В скорости Марфа и Григорий доложили Федору Павловичу, что в Смердякове мало-по-малу проявилась вдруг ужасная какая-то брезгливость: сидит за супом, возьмет ложку и ищет-ищет в супе, нагибается, высматривает, почерпнет ложку и подымет на свет. | But Smerdyakov did not get through ten pages of Smaragdov. He thought it dull. So the bookcase was closed again. Shortly afterwards Marfa and Grigory reported to Fyodor Pavlovitch that Smerdyakov was gradually beginning to show an extraordinary fastidiousness. He would sit before his soup, take up his spoon and look into the soup, bend over it, examine it, take a spoonful and hold it to the light. |
| – Таракан, что ли? – спросит бывало Григорий. | “What is it? A beetle?” Grigory would ask. |
| – Муха, может, – заметит Марфа. | “A fly, perhaps,” observed Marfa. |
| Чистоплотный юноша никогда не отвечал, но и с хлебом, и с мясом, и со всеми кушаньями оказалось то же самое: подымет бывало кусок на вилке на свет, рассматривает точно в микроскоп, долго бывало решается и наконец-то решится в рот отправить. “Вишь барченок какой объявился”, бормотал на него глядя Григорий. Федор Павлович, услышав о новом качестве Смердякова, решил немедленно, что быть ему поваром, и отдал его в ученье в Москву. В ученьи он пробыл несколько лет и воротился сильно переменившись лицом. Он вдруг как-то необычайно постарел, совсем даже несоразмерно с возрастом сморщился, пожелтел, стал походить на скопца. Нравственно же воротился почти тем же самым как и до отъезда в Москву: все так же был нелюдим и ни в чьем обществе не ощущал ни малейшей надобности. Он и в Москве, как передавали потом, все молчал; сама же Москва его как-то чрезвычайно мало заинтересовала, так что он узнал в ней разве кое-что, на все остальное и внимания не обратил. Был даже раз в театре, но молча и с неудовольствием воротился. Зато прибыл к нам из Москвы в хорошем платье, в чистом сюртуке и белье, очень тщательно вычищал сам щеткой свое платье неизменно по два раза в день, а сапоги свои опойковые, щегольские, ужасно любил чистить особенною английскою ваксой так чтоб они сверкали как зеркало. Поваром он оказался превосходным. Федор Павлович положил ему жалованье, и это жалованье Смердяков употреблял чуть не в целости на платье, на помаду, на духи и проч. Но женский пол он, кажется, так же презирал, как и мужской, держал себя с ним степенно, почти недоступно. Федор Павлович стал поглядывать на него и с некоторой другой точки зрения. Дело в том, что припадки его падучей болезни усилились, и в те дни кушанье готовилось уже Марфой Игнатьевной, что было Федору Павловичу вовсе не на руку. | The squeamish youth never answered, but he did the same with his bread, his meat, and everything he ate. He would hold a piece on his fork to the light, scrutinize it microscopically, and only after long deliberation decide to put it in his mouth. “Ach! What fine gentlemen’s airs!” Grigory muttered, looking at him. When Fyodor Pavlovitch heard of this development in Smerdyakov he determined to make him his cook, and sent him to Moscow to be trained. He spent some years there and came back remarkably changed in appearance. He looked extraordinarily old for his age. His face had grown wrinkled, yellow, and strangely emasculate. In character he seemed almost exactly the same as before he went away. He was just as unsociable, and showed not the slightest inclination for any companionship. In Moscow, too, as we heard afterwards, he had always been silent. Moscow itself had little interest for him; he saw very little there, and took scarcely any notice of anything. He went once to the theater, but returned silent and displeased with it. On the other hand, he came back to us from Moscow well dressed, in a clean coat and clean linen. He brushed his clothes most scrupulously twice a day invariably, and was very fond of cleaning his smart calf boots with a special English polish, so that they shone like mirrors. He turned out a first‐rate cook. Fyodor Pavlovitch paid him a salary, almost the whole of which Smerdyakov spent on clothes, pomade, perfumes, and such things. But he seemed to have as much contempt for the female sex as for men; he was discreet, almost unapproachable, with them. Fyodor Pavlovitch began to regard him rather differently. His fits were becoming more frequent, and on the days he was ill Marfa cooked, which did not suit Fyodor Pavlovitch at all. |
| – С чего у тебя припадки-то чаще? – косился он иногда на нового повара, всматриваясь в его лицо. – Хоть бы ты женился на какой-нибудь, хочешь женю?.. | “Why are your fits getting worse?” asked Fyodor Pavlovitch, looking askance at his new cook. “Would you like to get married? Shall I find you a wife?” |
| Но Смердяков на эти речи только бледнел от досады, но ничего не отвечал. Федор Павлович отходил, махнув рукой. Главное, в честности его он был уверен и это раз навсегда, в том, что он не возьмет ничего и не украдет. Раз случилось, что Федор Павлович, пьяненький, обронил на собственном дворе в грязи, три радужные бумажки, которые только что получил и хватился их на другой только день: только что бросился искать по карманам, а радужные вдруг уже лежат у него все три на столе. Откуда? Смердяков поднял и еще вчера принес. “Ну, брат, я таких как ты не видывал”, отрезал тогда Федор Павлович и подарил ему десять рублей. Надо прибавить, что не только в честности его он был уверен, но почему-то даже и любил его, хотя малый и на него глядел так же косо, как и на других, и все молчал. Редко бывало заговорит. Если бы в то время кому-нибудь вздумалось спросить, глядя на него: чем этот парень интересуется и что всего чаще у него на уме, то право невозможно было бы решить это, на него глядя. А между тем он иногда в доме же, аль хоть на дворе или на улице случалось останавливался, задумывался и стоял так по десятку даже минут. Физиономист, вглядевшись в него, сказал бы, что тут ни думы, ни мысли нет. а так какое-то созерцание. У живописца Крамского есть одна замечательная картина, под названием Созерцатель: изображен лес зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинешенек, в глубочайшем уединении забредший мужиченко, стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то “созерцает”. Если б его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чем он это стоял и думал, то наверно бы ничего не припомнил, но зато наверно бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время своего созерцания. Впечатления же эти ему дороги, и он наверно их копит, неприметно и даже не сознавая, – для чего и зачем, конечно, тоже не знает: может вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим скитаться и спасаться, а, может, и село родное вдруг спалит, а может быть случится и то и другое вместе. Созерцателей в народе довольно. Вот одним из таких созерцателей был наверно и Смердяков, и наверно тоже копил впечатления свои с жадностью, почти сам еще не зная зачем. | But Smerdyakov turned pale with anger, and made no reply. Fyodor Pavlovitch left him with an impatient gesture. The great thing was that he had absolute confidence in his honesty. It happened once, when Fyodor Pavlovitch was drunk, that he dropped in the muddy courtyard three hundred‐rouble notes which he had only just received. He only missed them next day, and was just hastening to search his pockets when he saw the notes lying on the table. Where had they come from? Smerdyakov had picked them up and brought them in the day before. “Well, my lad, I’ve never met any one like you,” Fyodor Pavlovitch said shortly, and gave him ten roubles. We may add that he not only believed in his honesty, but had, for some reason, a liking for him, although the young man looked as morosely at him as at every one and was always silent. He rarely spoke. If it had occurred to any one to wonder at the time what the young man was interested in, and what was in his mind, it would have been impossible to tell by looking at him. Yet he used sometimes to stop suddenly in the house, or even in the yard or street, and would stand still for ten minutes, lost in thought. A physiognomist studying his face would have said that there was no thought in it, no reflection, but only a sort of contemplation. There is a remarkable picture by the painter Kramskoy, called “Contemplation.” There is a forest in winter, and on a roadway through the forest, in absolute solitude, stands a peasant in a torn kaftan and bark shoes. He stands, as it were, lost in thought. Yet he is not thinking; he is “contemplating.” If any one touched him he would start and look at one as though awakening and bewildered. It’s true he would come to himself immediately; but if he were asked what he had been thinking about, he would remember nothing. Yet probably he has, hidden within himself, the impression which had dominated him during the period of contemplation. Those impressions are dear to him and no doubt he hoards them imperceptibly, and even unconsciously. How and why, of course, he does not know either. He may suddenly, after hoarding impressions for many years, abandon everything and go off to Jerusalem on a pilgrimage for his soul’s salvation, or perhaps he will suddenly set fire to his native village, and perhaps do both. There are a good many “contemplatives” among the peasantry. Well, Smerdyakov was probably one of them, and he probably was greedily hoarding up his impressions, hardly knowing why. |
| VII. КОНТРОВЕРЗА. | Chapter VII. The Controversy |
| Но Валаамова ослица вдруг заговорила. Тема случилась странная: Григорий поутру, забирая в лавке у купца Лукьянова товар, услышал от него об одном русском солдате, что тот, где-то далеко на границе, у азиятов, попав к ним в плен и будучи принуждаем ими под страхом мучительной и немедленной смерти отказаться от христианства и перейти в ислам, не согласился изменить своей вере и принял муки, дал содрать с себя кожу и умер, славя и хваля Христа, – о каковом подвиге и было напечатано как раз в полученной в тот день газете. Об этом вот и заговорил за столом Григорий. Федор Павлович любил и прежде, каждый раз после стола, за дессертом, посмеяться и поговорить хотя бы даже с Григорием. В этот же раз был в легком и приятно раскидывающемся настроении. Попивая коньячок и выслушав сообщенное известие, он заметил, что такого солдата следовало бы произвести сейчас же во святые и снятую кожу его препроводить в какой-нибудь монастырь: “То-то народу повалит и денег”. Григорий поморщился, видя, что Федор Павлович нисколько не умилился, а по всегдашней привычке своей начинает кощунствовать. Как вдруг Смердяков, стоявший у двери, усмехнулся. Смердяков весьма часто и прежде допускался стоять у стола, то-есть под конец обеда. С самого же прибытия в наш город Ивана Федоровича стал являться к обеду почти каждый раз. | But Balaam’s ass had suddenly spoken. The subject was a strange one. Grigory had gone in the morning to make purchases, and had heard from the shopkeeper Lukyanov the story of a Russian soldier which had appeared in the newspaper of that day. This soldier had been taken prisoner in some remote part of Asia, and was threatened with an immediate agonizing death if he did not renounce Christianity and follow Islam. He refused to deny his faith, and was tortured, flayed alive, and died, praising and glorifying Christ. Grigory had related the story at table. Fyodor Pavlovitch always liked, over the dessert after dinner, to laugh and talk, if only with Grigory. This afternoon he was in a particularly good‐humored and expansive mood. Sipping his brandy and listening to the story, he observed that they ought to make a saint of a soldier like that, and to take his skin to some monastery. “That would make the people flock, and bring the money in.” Grigory frowned, seeing that Fyodor Pavlovitch was by no means touched, but, as usual, was beginning to scoff. At that moment Smerdyakov, who was standing by the door, smiled. Smerdyakov often waited at table towards the end of dinner, and since Ivan’s arrival in our town he had done so every day. |
| – Ты чего? – спросил Федор Павлович, мигом заметив усмешку и поняв конечно, что относится она к Григорию. | “What are you grinning at?” asked Fyodor Pavlovitch, catching the smile instantly, and knowing that it referred to Grigory. |
| – А я насчет того-с, – заговорил вдруг громко и неожиданно Смердяков, – что если этого похвального солдата подвиг был и очень велик-с, то никакого опять-таки по-моему не было бы греха и в том, если б и отказаться при этой случайности от Христова примерно имени и от собственного крещения своего, чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить малодушие. | “Well, my opinion is,” Smerdyakov began suddenly and unexpectedly in a loud voice, “that if that laudable soldier’s exploit was so very great there would have been, to my thinking, no sin in it if he had on such an emergency renounced, so to speak, the name of Christ and his own christening, to save by that same his life, for good deeds, by which, in the course of years to expiate his cowardice.” |
| – Это как же не будет греха? Врешь, за это тебя прямо в ад и там как баранину поджаривать станут, – подхватил Федор Павлович. | “How could it not be a sin? You’re talking nonsense. For that you’ll go straight to hell and be roasted there like mutton,” put in Fyodor Pavlovitch. |
| И вот тут-то и вошел Алеша. Федор Павлович, как мы видели, ужасно обрадовался Алеше. | It was at this point that Alyosha came in, and Fyodor Pavlovitch, as we have seen, was highly delighted at his appearance. |
| – На твою тему, на твою тему! – радостно хихикал он, усаживая Алешу слушать. | “We’re on your subject, your subject,” he chuckled gleefully, making Alyosha sit down to listen. |
| – Насчет баранины это не так-с, да и ничего там за это не будет-с, да и не должно быть такого, если по всей справедливости, – солидно заметил Смердяков. | “As for mutton, that’s not so, and there’ll be nothing there for this, and there shouldn’t be either, if it’s according to justice,” Smerdyakov maintained stoutly. |
| – Как так по всей справедливости, – крикнул еще веселей Федор Павлович, подталкивая коленом Алешу. | “How do you mean ‘according to justice’?” Fyodor Pavlovitch cried still more gayly, nudging Alyosha with his knee. |
| – Подлец он, вот он кто! – вырвалось вдруг у Григория. Гневно посмотрел он Смердякову прямо в глаза. | “He’s a rascal, that’s what he is!” burst from Grigory. He looked Smerdyakov wrathfully in the face. |
| – Насчет подлеца повремените-с, Григорий Васильевич, – спокойно и сдержанно отразил Смердяков, – а лучше рассудите сами, что раз я попал к мучителям рода христианского в плен и требуют они от меня имя божие проклясть и от святого крещения своего отказаться, то я вполне уполномочен в том собственным рассудком, ибо никакого тут и греха не будет. | “As for being a rascal, wait a little, Grigory Vassilyevitch,” answered Smerdyakov with perfect composure. “You’d better consider yourself that, once I am taken prisoner by the enemies of the Christian race, and they demand from me to curse the name of God and to renounce my holy christening, I am fully entitled to act by my own reason, since there would be no sin in it.” |
| – Да ты уж это говорил, ты не расписывай, а докажи!- кричал Федор Павлович. | “But you’ve said that before. Don’t waste words. Prove it,” cried Fyodor Pavlovitch. |
| – Бульйонщик! – прошептал Григорий презрительно. | “Soup‐maker!” muttered Grigory contemptuously. |
| – Насчет бульйонщика тоже повремените-с, а не ругаясь рассудите сами, Григорий Васильевич. Ибо едва только я скажу мучителям: “Нет, я не христианин и истинного бога моего проклинаю”, как тотчас же я самым высшим божьим судом немедленно и специально становлюсь анафема проклят и от церкви святой отлучен совершенно как бы иноязычником, так даже, что в тот же миг-с, – не то что как только произнесу, а только что помыслю произнести, так что даже самой четверти секунды тут не пройдет-с, как я отлучен, – так или не так, Григорий Васильевич? | “As for being a soup‐maker, wait a bit, too, and consider for yourself, Grigory Vassilyevitch, without abusing me. For as soon as I say to those enemies, ‘No, I’m not a Christian, and I curse my true God,’ then at once, by God’s high judgment, I become immediately and specially anathema accursed, and am cut off from the Holy Church, exactly as though I were a heathen, so that at that very instant, not only when I say it aloud, but when I think of saying it, before a quarter of a second has passed, I am cut off. Is that so or not, Grigory Vassilyevitch?” |
| Он с видимым удовольствием обращался к Григорию, отвечая в сущности на одни лишь вопросы Федора Павловича и очень хорошо понимая это, но нарочно делая вид, что вопросы эти как будто задает ему Григорий. | He addressed Grigory with obvious satisfaction, though he was really answering Fyodor Pavlovitch’s questions, and was well aware of it, and intentionally pretending that Grigory had asked the questions. |
| – Иван! – крикнул вдруг Федор Павлович, – нагнись ко мне к самому уху. Это он для тебя все это устроил, хочет, чтобы ты его похвалил. Ты похвали. | “Ivan,” cried Fyodor Pavlovitch suddenly, “stoop down for me to whisper. He’s got this all up for your benefit. He wants you to praise him. Praise him.” |
| Иван Федорович выслушал совершенно серьезно восторженное сообщение папаши. | Ivan listened with perfect seriousness to his father’s excited whisper. |
| – Стой, Смердяков, помолчи на время, – крикнул опять Федор Павлович: – Иван, опять ко мне к самому уху нагнись. Иван Федорович вновь с самым серьезнейшим видом нагнулся. | “Stay, Smerdyakov, be quiet a minute,” cried Fyodor Pavlovitch once more. “Ivan, your ear again.” Ivan bent down again with a perfectly grave face. |
| – Люблю тебя так же как и Алешку. Ты не думай, что я тебя не люблю. Коньячку? | “I love you as I do Alyosha. Don’t think I don’t love you. Some brandy?” |
| – Дайте. “Однако сам-то ты порядочно нагрузился”, пристально поглядел на отца Иван Федорович. Смердякова же он наблюдал с чрезвычайным любопытством, | “Yes.—But you’re rather drunk yourself,” thought Ivan, looking steadily at his father. He was watching Smerdyakov with great curiosity. |
| – Анафема ты проклят и теперь, – разразился вдруг Григорий, – и как же ты после того, подлец, рассуждать смеешь, если… | “You’re anathema accursed, as it is,” Grigory suddenly burst out, “and how dare you argue, you rascal, after that, if—” |
| – Не бранись, Григорий, не бранись! – прервал Федор Павлович. | “Don’t scold him, Grigory, don’t scold him,” Fyodor Pavlovitch cut him short. |
| – Вы переждите, Григорий Васильевич, хотя бы самое даже малое время-с, и прослушайте дальше, потому что я всего не окончил. Потому в самое то время, как я богом стану немедленно проклят-с, в самый, тот самый высший момент-с, я уже стал все равно, как бы иноязычником, и крещение мое с меня снимается и ни во что вменяется, – так ли хоть это-с? | “You should wait, Grigory Vassilyevitch, if only a short time, and listen, for I haven’t finished all I had to say. For at the very moment I become accursed, at that same highest moment, I become exactly like a heathen, and my christening is taken off me and becomes of no avail. Isn’t that so?” |
| – Заключай, брат, скорей, заключай, – поторопил Федор Павлович, с наслаждением хлебнув из рюмки. | “Make haste and finish, my boy,” Fyodor Pavlovitch urged him, sipping from his wine‐glass with relish. |
| – А коли я уж не христианин, то значит я и не солгал мучителям, когда они спрашивали: “Христианин я или не христианин”, ибо я уже был самим богом совлечен моего христианства, по причине одного лишь замысла и прежде чем даже слово успел мое молвить мучителям. А коли я уже разжалован, то каким же манером и по какой справедливости станут спрашивать с меня на том свете, как с христианина, за то, что я отрекся Христа, тогда как я за помышление только одно, еще до отречения, был уже крещения моего совлечен? Коли я уж не христианин, значит я и не могу от Христа отрекнуться, ибо не от чего тогда мне и отрекаться будет. С татарина поганого кто же станет спрашивать, Григорий Васильевич, хотя бы и в небесах за то, что он не христианином родился и кто же станет его за это наказывать, рассуждая, что с одного вола двух шкур не дерут. Да и сам бог вседержитель с татарина если и будет спрашивать, когда тот помрет, полагаю каким-нибудь самым малым наказанием (так как нельзя же совсем не наказать его), рассудив, что ведь не повинен же он в том, если от поганых родителей поганым на свет произошел. Не может же господь бог насильно взять татарина и говорить про него, что и он был христианином? Ведь значило бы тогда, что господь вседержитель скажет сущую неправду. А разве может господь вседержитель неба и земли произнести ложь, хотя бы в одном только каком-нибудь слове-с? | “And if I’ve ceased to be a Christian, then I told no lie to the enemy when they asked whether I was a Christian or not a Christian, seeing I had already been relieved by God Himself of my Christianity by reason of the thought alone, before I had time to utter a word to the enemy. And if I have already been discharged, in what manner and with what sort of justice can I be held responsible as a Christian in the other world for having denied Christ, when, through the very thought alone, before denying Him I had been relieved from my christening? If I’m no longer a Christian, then I can’t renounce Christ, for I’ve nothing then to renounce. Who will hold an unclean Tatar responsible, Grigory Vassilyevitch, even in heaven, for not having been born a Christian? And who would punish him for that, considering that you can’t take two skins off one ox? For God Almighty Himself, even if He did make the Tatar responsible, when he dies would give him the smallest possible punishment, I imagine (since he must be punished), judging that he is not to blame if he has come into the world an unclean heathen, from heathen parents. The Lord God can’t surely take a Tatar and say he was a Christian? That would mean that the Almighty would tell a real untruth. And can the Lord of Heaven and earth tell a lie, even in one word?” |
| Григорий остолбенел и смотрел на оратора, выпучив глаза. Он хоть и не понимал хорошо, что говорят, но что-то из всей этой дребедени вдруг понял, и остановился с видом человека, вдруг стукнувшегося лбом об стену. Федор Павлович допил рюмку и залился визгливым смехом. | Grigory was thunderstruck and looked at the orator, his eyes nearly starting out of his head. Though he did not clearly understand what was said, he had caught something in this rigmarole, and stood, looking like a man who has just hit his head against a wall. Fyodor Pavlovitch emptied his glass and went off into his shrill laugh. |
| – Алешка, Алешка, каково! Ах ты казуист! Это он был у иезуитов где-нибудь, Иван. Ах ты иезуит смердящий; да кто же тебя научил? Но только ты врешь, казуист, врешь, врешь и врешь. Не плачь, Григорий, мы его сею же минутой разобьем в дым и прах. Ты мне вот что скажи, ослица: пусть ты пред мучителями прав, но ведь ты сам-то в себе все же отрекся от веры своей и сам же говоришь, что в тот же час был анафема проклят, а коли раз уж анафема, так тебя за эту анафему по головке в аду не погладят. Об этом ты как полагаешь, иезуит ты мой прекрасный? | “Alyosha! Alyosha! What do you say to that! Ah, you casuist! He must have been with the Jesuits, somewhere, Ivan. Oh, you stinking Jesuit, who taught you? But you’re talking nonsense, you casuist, nonsense, nonsense, nonsense. Don’t cry, Grigory, we’ll reduce him to smoke and ashes in a moment. Tell me this, O ass; you may be right before your enemies, but you have renounced your faith all the same in your own heart, and you say yourself that in that very hour you became anathema accursed. And if once you’re anathema they won’t pat you on the head for it in hell. What do you say to that, my fine Jesuit?” |
| – Это сумления нет-с, что сам в себе я отрекся, а все же никакого и тут специально греха не было-с, а коли был грешок, то самый обыкновенный весьма-с. | “There is no doubt that I have renounced it in my own heart, but there was no special sin in that. Or if there was sin, it was the most ordinary.” |
| – Как так обыкновенный весьма-с! | “How’s that the most ordinary?” |
| – Врешь, пр-р-роклятый, – прошипел Григорий, | “You lie, accursed one!” hissed Grigory. |
| – Рассудите сами, Григорий Васильевич, – ровно и степенно, сознавая победу, но как бы и великодушничая с разбитым противником, продолжал Смердяков, – рассудите сами, Григорий Васильевич: ведь сказано же в писании, что коли имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно и при том скажете сей горе, чтобы съехала в море, то и съедет ни мало не медля, по первому же вашему приказанию. Что же, Григорий Васильевич, коли я неверующий, а вы столь верующий, что меня беспрерывно даже ругаете, то попробуйте сами-с сказать сей горе, чтобы не то чтобы в море (потому что до моря отсюда далеко-с), но даже хоть в речку нашу вонючую съехала, вот что у нас за садом течет, то и увидите сами в тот же момент, что ничего не съедет-с, а все останется в прежнем порядке и целости, сколько бы вы ни кричали-с. А это означает, что и вы не веруете, Григорий Васильевич, надлежащим манером, а лишь других за то всячески ругаете. Опять-таки и то взямши, что никто в наше время, не только вы-с, но и решительно никто, начиная с самых даже высоких лиц до самого последнего мужика-с, не сможет спихнуть горы в море, кроме разве какого-нибудь одного человека на всей земле, много двух, да и то может где-нибудь там в пустыне египетской в секрете спасаются, так что их и не найдешь вовсе, – то коли так-с, коли все остальные выходят неверующие, то неужели же всех сих остальных, то-есть население всей земли-с, кроме каких-нибудь тех двух пустынников, проклянет господь и при милосердии своем, столь известном, никому из них не простит? А потому и я уповаю, что, раз усомнившись, буду прощен, когда раскаяния слезы пролью. | “Consider yourself, Grigory Vassilyevitch,” Smerdyakov went on, staid and unruffled, conscious of his triumph, but, as it were, generous to the vanquished foe. “Consider yourself, Grigory Vassilyevitch; it is said in the Scripture that if you have faith, even as a mustard seed, and bid a mountain move into the sea, it will move without the least delay at your bidding. Well, Grigory Vassilyevitch, if I’m without faith and you have so great a faith that you are continually swearing at me, you try yourself telling this mountain, not to move into the sea for that’s a long way off, but even to our stinking little river which runs at the bottom of the garden. You’ll see for yourself that it won’t budge, but will remain just where it is however much you shout at it, and that shows, Grigory Vassilyevitch, that you haven’t faith in the proper manner, and only abuse others about it. Again, taking into consideration that no one in our day, not only you, but actually no one, from the highest person to the lowest peasant, can shove mountains into the sea—except perhaps some one man in the world, or, at most, two, and they most likely are saving their souls in secret somewhere in the Egyptian desert, so you wouldn’t find them—if so it be, if all the rest have no faith, will God curse all the rest? that is, the population of the whole earth, except about two hermits in the desert, and in His well‐known mercy will He not forgive one of them? And so I’m persuaded that though I may once have doubted I shall be forgiven if I shed tears of repentance.” Akirill.com |
| – Стой! – завизжал Федор Павлович в апофеозе восторга: – так двух-то таких, что горы могут сдвигать, ты все-таки полагаешь, что есть они? Иван, заруби черту, запиши: весь русский человек тут сказался! | “Stay!” cried Fyodor Pavlovitch, in a transport of delight. “So you do suppose there are two who can move mountains? Ivan, make a note of it, write it down. There you have the Russian all over!” |
| – Вы совершенно верно заметили, что это народная в вере черта, – с одобрительною улыбкой согласился Иван Федорович. | “You’re quite right in saying it’s characteristic of the people’s faith,” Ivan assented, with an approving smile. |
| – Соглашаешься! Значит, так, коли уж ты соглашаешься! Алешка, ведь правда? Ведь совершенно русская вера такая? | “You agree. Then it must be so, if you agree. It’s true, isn’t it, Alyosha? That’s the Russian faith all over, isn’t it?” |
| – Нет, у Смердякова совсем не русская вера, – серьезно и твердо проговорил Алеша. | “No, Smerdyakov has not the Russian faith at all,” said Alyosha firmly and gravely. |
| – Я не про веру его, я про эту черту, про этих двух пустынников, про эту одну только черточку: ведь это же по-русски, по-русски? | “I’m not talking about his faith. I mean those two in the desert, only that idea. Surely that’s Russian, isn’t it?” |
| – Да, черта эта совсем русская, – улыбнулся Алеша. | “Yes, that’s purely Russian,” said Alyosha smiling. |
| – Червонца стоит твое слово, ослица, и пришлю тебе его сегодня же, но в остальном ты все-таки врешь, врешь и врешь: знай, дурак, что здесь мы все от легкомыслия лишь не веруем, потому что нам некогда: во-первых, дела одолели, а во-вторых, времени бог мало дал, всего во дню определил только двадцать четыре часа, так что некогда и выспаться, не только покаяться. А ты-то там пред мучителями отрекся, когда больше не о чем и думать-то было тебе как о вере и когда именно надо было веру свою показать! Так ведь это, брат, составляет, я думаю? | “Your words are worth a gold piece, O ass, and I’ll give it to you to‐day. But as to the rest you talk nonsense, nonsense, nonsense. Let me tell you, stupid, that we here are all of little faith, only from carelessness, because we haven’t time; things are too much for us, and, in the second place, the Lord God has given us so little time, only twenty‐four hours in the day, so that one hasn’t even time to get sleep enough, much less to repent of one’s sins. While you have denied your faith to your enemies when you’d nothing else to think about but to show your faith! So I consider, brother, that it constitutes a sin.” |
| – Составляет-то оно составляет, но рассудите сами, Григорий Васильевич, что ведь тем более и облегчает, что составляет. Ведь коли бы я тогда веровал в самую во истину, как веровать надлежит, то тогда действительно было бы грешно, если бы муки за свою веру не принял и в поганую Магометову веру перешел. Но ведь до мук и не дошло бы тогда-с, потому стоило бы мне в тот же миг сказать сей горе: двинься и подави мучителя, то она бы двинулась и в тот же миг его придавила как таракана, и пошел бы я как ни в чем не бывало прочь, воспевая и славя бога. А коли я именно в тот же самый момент это все и испробовал и нарочно уже кричал сей горе: подави сих мучителей, а та не давила, то как же скажите, я бы в то время не усомнился, да еще в такой страшный час смертного, великого страха? И без того уж знаю, что царствия небесного в полноте не достигну (ибо не двинулась же по слову моему гора, значит не очень-то вере моей там верят, и не очень уж большая награда меня на том свете ждет), для чего же я еще сверх того и безо всякой уже пользы кожу с себя дам содрать? Ибо если бы даже кожу мою уже до половины содрали со спины, то и тогда по слову моему или крику не двинулась бы сия гора. Да в этакую минуту не только что сумление может найти, но даже от страха и самого рассудка решиться можно, так что и рассуждать-то будет совсем невозможно. А стало быть чем я тут выйду особенно виноват, если, не видя ни там, ни тут своей выгоды, ни награды, хоть кожу-то по крайней мере свою сберегу? А потому на милость господню весьма уповая, питаюсь надеждой, что и совсем прощен буду-с… | “Constitute a sin it may, but consider yourself, Grigory Vassilyevitch, that it only extenuates it, if it does constitute. If I had believed then in very truth, as I ought to have believed, then it really would have been sinful if I had not faced tortures for my faith, and had gone over to the pagan Mohammedan faith. But, of course, it wouldn’t have come to torture then, because I should only have had to say at that instant to the mountain, ‘Move and crush the tormentor,’ and it would have moved and at the very instant have crushed him like a black‐beetle, and I should have walked away as though nothing had happened, praising and glorifying God. But, suppose at that very moment I had tried all that, and cried to that mountain, ‘Crush these tormentors,’ and it hadn’t crushed them, how could I have helped doubting, pray, at such a time, and at such a dread hour of mortal terror? And apart from that, I should know already that I could not attain to the fullness of the Kingdom of Heaven (for since the mountain had not moved at my word, they could not think very much of my faith up aloft, and there could be no very great reward awaiting me in the world to come). So why should I let them flay the skin off me as well, and to no good purpose? For, even though they had flayed my skin half off my back, even then the mountain would not have moved at my word or at my cry. And at such a moment not only doubt might come over one but one might lose one’s reason from fear, so that one would not be able to think at all. And, therefore, how should I be particularly to blame if not seeing my advantage or reward there or here, I should, at least, save my skin. And so trusting fully in the grace of the Lord I should cherish the hope that I might be altogether forgiven.” |
| VIII. ЗА КОНЬЯЧКОМ. | Chapter VIII. Over The Brandy |
| Спор кончился, но странное дело, столь развеселившийся Федор Павлович под конец вдруг нахмурился. Нахмурился и хлопнул коньячку, и это уже была совсем лишняя рюмка. | The controversy was over. But, strange to say, Fyodor Pavlovitch, who had been so gay, suddenly began frowning. He frowned and gulped brandy, and it was already a glass too much. |
| – А убирайтесь вы, иезуиты, вон, – крикнул он на слуг.- Пошел, Смердяков. Сегодня обещанный червонец пришлю, а ты пошел. Не плачь, Григорий, ступай к Марфе, она утешит, спать уложит. Не дают канальи после обеда в тишине посидеть, – досадливо отрезал он вдруг, когда тотчас же по приказу его удалились слуги. – Смердяков за обедом теперь каждый раз сюда лезет, это ты ему столь любопытен, чем ты его так заласкал? – прибавил он Ивану Федоровичу. | “Get along with you, Jesuits!” he cried to the servants. “Go away, Smerdyakov. I’ll send you the gold piece I promised you to‐day, but be off! Don’t cry, Grigory. Go to Marfa. She’ll comfort you and put you to bed. The rascals won’t let us sit in peace after dinner,” he snapped peevishly, as the servants promptly withdrew at his word. “Smerdyakov always pokes himself in now, after dinner. It’s you he’s so interested in. What have you done to fascinate him?” he added to Ivan. |
| – Ровно ничем, – ответил тот, – уважать меня вздумал; это лакей и хам. Передовое мясо, впрочем, когда срок наступит. | “Nothing whatever,” answered Ivan. “He’s pleased to have a high opinion of me; he’s a lackey and a mean soul. Raw material for revolution, however, when the time comes.” |
| – Передовое? | “For revolution?” |
| – Будут другие и получше, но будут и такие. Сперва будут такие, а за ними получше. | “There will be others and better ones. But there will be some like him as well. His kind will come first, and better ones after.” |
| – А когда срок наступит? | “And when will the time come?” |
| – Загорится ракета, да и не догорит может быть. Народ этих бульйонщиков пока не очень-то любит и слушать. | “The rocket will go off and fizzle out, perhaps. The peasants are not very fond of listening to these soup‐makers, so far.” |
| – То-то, брат, вот этакая Валаамова ослица думает, думает, да и чорт знает про себя там до чего додумается. | “Ah, brother, but a Balaam’s ass like that thinks and thinks, and the devil knows where he gets to.” |
| – Мыслей накопит, – усмехнулся Иван. | “He’s storing up ideas,” said Ivan, smiling. |
| – Видишь, я вот знаю, что он и меня терпеть не может, равно как и всех, и тебя точно так же, хотя тебе и кажется, что он тебя “уважать вздумал”. Алешку подавно, Алешку он презирает. Да не украдет он, вот что, не сплетник он, молчит, из дому copy не вынесет, кулебяки славно печет, да к тому же ко всему и чорт с ним по правде-то, так стоит ли об нем говорить? | “You see, I know he can’t bear me, nor any one else, even you, though you fancy that he has a high opinion of you. Worse still with Alyosha, he despises Alyosha. But he doesn’t steal, that’s one thing, and he’s not a gossip, he holds his tongue, and doesn’t wash our dirty linen in public. He makes capital fish pasties too. But, damn him, is he worth talking about so much?” |
| – Конечно, не стоит. | “Of course he isn’t.” |
| – А что до того, что он там про себя надумает, то русского мужика, вообще говоря, надо пороть. Я это всегда утверждал. Мужик наш мошенник, его жалеть не стоит, и хорошо еще, что дерут его иной раз и теперь. Русская земля крепка березой. Истребят леса, пропадет земля русская. Я за умных людей стою. Мужиков мы драть перестали, с большого ума, а те сами себя пороть продолжают. И хорошо делают. В ту же меру мерится, в ту же и возмерится, или как это там… Одним словом, возмерится. А Россия свинство. Друг мой, если бы ты знал, как я ненавижу Россию… то-есть не Россию, а все эти пороки… а пожалуй, что и Россию. Tout cela c’est de la cochonnerie. Знаешь, что люблю? Я люблю остроумие. | “And as for the ideas he may be hatching, the Russian peasant, generally speaking, needs thrashing. That I’ve always maintained. Our peasants are swindlers, and don’t deserve to be pitied, and it’s a good thing they’re still flogged sometimes. Russia is rich in birches. If they destroyed the forests, it would be the ruin of Russia. I stand up for the clever people. We’ve left off thrashing the peasants, we’ve grown so clever, but they go on thrashing themselves. And a good thing too. ‘For with what measure ye mete it shall be measured to you again,’ or how does it go? Anyhow, it will be measured. But Russia’s all swinishness. My dear, if you only knew how I hate Russia…. That is, not Russia, but all this vice! But maybe I mean Russia. Tout cela c’est de la cochonnerie…. Do you know what I like? I like wit.” |
| – Вы опять рюмку выпили. Довольно бы вам. | “You’ve had another glass. That’s enough.” |
| – Подожди, я еще одну, и еще одну, а там и покончу. Нет, постой, ты меня перебил. В Мокром я проездом спрашиваю старика, а он мне: “Мы оченно, говорит, любим пуще всего девок по приговору пороть, и пороть даем все парням. После эту же, которую ноне порол, завтра парень в невесты берет, так что оно самим девкам, говорит, у нас повадно”. Каковы маркизы де-Сады, а? А как хочешь, оно остроумно. Съездить бы и нам поглядеть, а? Алешка, ты покраснел? Не стыдись, детка. Жаль, что давеча я у игумена за обед не сел да монахам про мокрых девок не рассказал. Алешка, не сердись, что я твоего игумена давеча разобидел. Меня, брат, зло берет. Ведь коли бог есть. существует, – ну конечно я тогда виноват и отвечу, а коли нет его вовсе то, так ли их еще надо, твоих отцов-то? Ведь с них мало тогда головы срезать, потому что они развитие задерживают. Веришь ты, Иван, что это меня в моих чувствах терзает. Нет, ты не веришь, потому я вижу по твоим глазам. Ты веришь людям, что я всего только шут. Алеша, веришь, что я не всего только шут? | “Wait a bit. I’ll have one more, and then another, and then I’ll stop. No, stay, you interrupted me. At Mokroe I was talking to an old man, and he told me: ‘There’s nothing we like so much as sentencing girls to be thrashed, and we always give the lads the job of thrashing them. And the girl he has thrashed to‐day, the young man will ask in marriage to‐morrow. So it quite suits the girls, too,’ he said. There’s a set of de Sades for you! But it’s clever, anyway. Shall we go over and have a look at it, eh? Alyosha, are you blushing? Don’t be bashful, child. I’m sorry I didn’t stay to dinner at the Superior’s and tell the monks about the girls at Mokroe. Alyosha, don’t be angry that I offended your Superior this morning. I lost my temper. If there is a God, if He exists, then, of course, I’m to blame, and I shall have to answer for it.But if there isn’t a God at all, what do they deserve, your fathers? It’s not enough to cut their heads off, for they keep back progress. Would you believe it, Ivan, that that lacerates my sentiments? No, you don’t believe it as I see from your eyes. You believe what people say, that I’m nothing but a buffoon. Alyosha, do you believe that I’m nothing but a buffoon?” |
| – Верю, что не всего только шут. | “No, I don’t believe it.” |
| – И верю, что веришь, и искренно говоришь. Искренно смотришь и искренно говоришь. А Иван нет. Иван высокомерен… А все-таки я бы с твоим монастырьком покончил. Взять бы всю эту мистику да разом по всей русской земле и упразднить, чтоб окончательно всех дураков обрезонить. А серебра-то, золота сколько бы на монетный двор поступило! | “And I believe you don’t, and that you speak the truth. You look sincere and you speak sincerely. But not Ivan. Ivan’s supercilious…. I’d make an end of your monks, though, all the same. I’d take all that mystic stuff and suppress it, once for all, all over Russia, so as to bring all the fools to reason. And the gold and the silver that would flow into the mint!” |
| – Да зачем упразднять, – сказал Иван. | “But why suppress it?” asked Ivan. |
| – А чтоб истина скорей воссияла, вот зачем. | “That Truth may prevail. That’s why.” |
| – Да ведь коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом… упразднят. | “Well, if Truth were to prevail, you know, you’d be the first to be robbed and suppressed.” |
| < < < | > > > |
| Двуязычный текст, подготовленный Akirill.com , размещенные на сайте Akirill.com 19 июня 2022 года. 2022 года. Каждую из книг (на английском или русском языках) можно забрать отдельно и повторно использовать в личных и некоммерческих целях. Они свободны от авторского права. При любом совместном использовании двух книг должно быть указано их происхождение https://www.Akirill.com | Bilingual text prepared by Akirill.com , deposited on the site Akirill.com on June 19, 2022. Each of the books (English or French) can be taken back separately and reused for personal and non-commercial purposes. They are free of copyright. Any use of the two books side by side must mention their origin https://www.Akirill.com |
The Brothers Karamazov, by Fyodor Dostoyevsky
| If you liked this page, don’t forget to like and share. Si vous avez aimé cette page, n’oublier pas d’aimer et de partager. |
| Subscribe to not miss anything Abonnez-vous pour ne rien manquer |
| Check out our latest posts |
| Découvrez nos derniers articles |