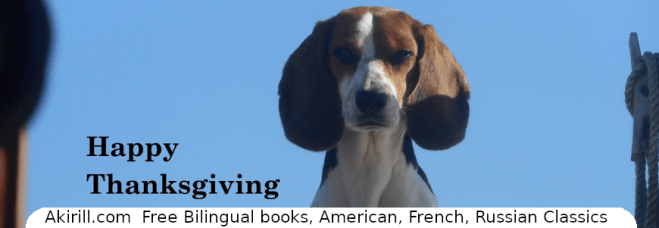Это не дословный перевод, а книга на двух языках, вышедшие бок о бок. Вы можете прочитать его на русском, английском или на обоих языках.
This is not a word-by-word translation but the books in the two languages put side by side. You can read it in Russian, in English or both.
Братья Карамазовы. Роман Федора Достоевского
| Братья Карамазовы. Роман Федора Достоевского | The Brothers Karamazov, by Fyodor Dostoyevsky |
| ЧАСТЬ ВТОРАЯ. | Part 2 |
| КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ | Book IV. |
| < < < | > > > |
| Глава IV | Chapter IV |
| – Я вас сам буду в кресле возить, но я уверен, что вы к тому сроку выздоровеете. | “I’ll wheel you about myself, but I’m sure you’ll get well by then.” |
| – Но вы сумасшедший, – нервно проговорила Лиза, – из такой шутки и вдруг вывели такой вздор!.. Ах, вот и мамаша, может быть, очень кстати. Мама, как вы всегда запоздаете, можно ли так долго! Вот уж Юлия и лед несет! | “But you are mad,” said Lise, nervously, “to make all this nonsense out of a joke! Here’s mamma, very à propos, perhaps. Mamma, how slow you always are, how can you be so long! And here’s Yulia with the ice!” |
| – Ax, Lise, не кричи, главное, – ты не кричи. У меня от этого крику… Что ж делать, коли ты сама корпию в другое место засунула… Я искала, искала… Я подозреваю, что ты это нарочно сделала. | “Oh, Lise, don’t scream, above all things don’t scream. That scream drives me … How can I help it when you put the lint in another place? I’ve been hunting and hunting—I do believe you did it on purpose.” |
| – Да ведь не могла же я знать, что он придет с укушенным пальцем, а то может быть вправду нарочно бы сделала. Ангел мама, вы начинаете говорить чрезвычайно остроумные вещи. | “But I couldn’t tell that he would come with a bad finger, or else perhaps I might have done it on purpose. My darling mamma, you begin to say really witty things.” Akirill.com |
| – Пусть остроумные, но какие чувства, Lise, насчет пальца Алексея Федоровича и всего этого! Ох, милый Алексей Федорович, меня убивают не частности, не Герценштубе какой-нибудь, а все вместе, все в целом, вот чего я не могу вынести. | “Never mind my being witty, but I must say you show nice feeling for Alexey Fyodorovitch’s sufferings! Oh, my dear Alexey Fyodorovitch, what’s killing me is no one thing in particular, not Herzenstube, but everything together, that’s what is too much for me.” |
| – Довольно, мама, довольно о Герценштубе, – весело смеялась Лиза, – давайте же скорей корпию, мама, и воду. Это просто свинцовая примочка, Алексей Федорович, я теперь вспомнила имя, но это прекрасная примочка. Мама, вообразите себе, он с мальчишками дорогой подрался на улице, и это мальчишка ему укусил, ну не маленький ли, не маленький ли он сам человек, и можно ли ему, мама, после этого жениться, потому что он, вообразите себе, он хочет жениться, мама. Представьте себе, что он женат, ну не смех ли, не ужасно ли это? | “That’s enough, mamma, enough about Herzenstube,” Lise laughed gayly. “Make haste with the lint and the lotion, mamma. That’s simply Goulard’s water, Alexey Fyodorovitch, I remember the name now, but it’s a splendid lotion. Would you believe it, mamma, on the way here he had a fight with the boys in the street, and it was a boy bit his finger, isn’t he a child, a child himself? Is he fit to be married after that? For only fancy, he wants to be married, mamma. Just think of him married, wouldn’t it be funny, wouldn’t it be awful?” |
| И Lise все смеялась своим нервным мелким смешком, лукаво смотря на Алешу. | And Lise kept laughing her thin hysterical giggle, looking slyly at Alyosha. |
| – Ну, как же жениться, Lise, и с какой стати это, и совсем это тебе некстати… тогда как этот мальчик может быть бешеный | “But why married, Lise? What makes you talk of such a thing? It’s quite out of place—and perhaps the boy was rabid.” |
| – Ах, мама! Разве бывают бешеные мальчики? | “Why, mamma! As though there were rabid boys!” |
| – Почему ж не бывают, Lise, точно я глупость сказала. Вашего мальчика укусила бешеная собака, и он стал бешеный мальчик и вот кого-нибудь и укусит около себя в свою очередь. Как она вам хорошо перевязала, Алексей Федорович, я бы никогда так не сумела. Чувствуете вы теперь боль? | “Why not, Lise, as though I had said something stupid! Your boy might have been bitten by a mad dog and he would become mad and bite any one near him. How well she has bandaged it, Alexey Fyodorovitch! I couldn’t have done it. Do you still feel the pain?” |
| – Теперь очень небольшую. | “It’s nothing much now.” |
| – А не боитесь ли вы воды? – спросила Lise. | “You don’t feel afraid of water?” asked Lise. |
| – Ну, довольно, Lise, я может быть в самом деле очень поспешно сказала про бешеного мальчика, а ты уж сейчас и вывела. Катерина Ивановна только что узнала, что вы пришли, Алексей Федорович, так и бросилась ко мне, она вас жаждет, жаждет. | “Come, that’s enough, Lise, perhaps I really was rather too quick talking of the boy being rabid, and you pounced upon it at once Katerina Ivanovna has only just heard that you are here, Alexey Fyodorovitch, she simply rushed at me, she’s dying to see you, dying!” |
| – Ах, мама! Подите одна туда, а он не может пойти сейчас, он слишком страдает. | “Ach, mamma, go to them yourself. He can’t go just now, he is in too much pain.” |
| – Совсем не страдаю, я очень могу пойти… – сказал Алеша. | “Not at all, I can go quite well,” said Alyosha. |
| – Как! Вы уходите? Так-то вы? Так-то вы? | “What! You are going away? Is that what you say?” |
| – Что ж? Ведь я когда кончу там, то опять приду, и мы опять можем говорить сколько вам будет угодно. А мне очень хотелось бы видеть поскорее Катерину Ивановну, потому что я во всяком случае очень хочу, как можно скорей воротиться сегодня в монастырь. | “Well, when I’ve seen them, I’ll come back here and we can talk as much as you like. But I should like to see Katerina Ivanovna at once, for I am very anxious to be back at the monastery as soon as I can.” Akirill.com |
| – Мама, возьмите его и скорее уведите. Алексей Федорович, не трудитесь заходить ко мне после Катерины Ивановны, а ступайте прямо в ваш монастырь, туда вам и дорога! А я спать хочу, я всю ночь не спала. | “Mamma, take him away quickly. Alexey Fyodorovitch, don’t trouble to come and see me afterwards, but go straight back to your monastery and a good riddance. I want to sleep, I didn’t sleep all night.” |
| – Ах, Lise, это только шутки с твоей стороны, но что если бы ты в самом деле заснула! – воскликнула г-жа Хохлакова. | “Ah, Lise, you are only making fun, but how I wish you would sleep!” cried Madame Hohlakov. |
| – Я не знаю, чем я… Я останусь еще минуты три, если хотите, даже пять, – пробормотал Алеша. | “I don’t know what I’ve done…. I’ll stay another three minutes, five if you like,” muttered Alyosha. |
| – Даже пять! Да уведите же его скорее, мама, это монстр! | “Even five! Do take him away quickly, mamma, he is a monster.” |
| – Lise, ты с ума сошла. Уйдемте, Алексей Федорович, она слишком капризна сегодня, я ее раздражать боюсь. О, горе с нервною женщиной, Алексей Федорович! А ведь в самом деле она может быть при вас спать захотела. Как это вы так скоро нагнали на нее сон, и как это счастливо! | “Lise, you are crazy. Let us go, Alexey Fyodorovitch, she is too capricious to‐day. I am afraid to cross her. Oh, the trouble one has with nervous girls! Perhaps she really will be able to sleep after seeing you. How quickly you have made her sleepy, and how fortunate it is!” |
| – Ах мама, как вы мило стали говорить, целую вас, мамочка, за это. | “Ah, mamma, how sweetly you talk! I must kiss you for it, mamma.” |
| – И я тебя тоже, Lise. Послушайте, Алексей Федорович, – таинственно и важно быстрым шепотом заговорила г-жа Хохлакова. уходя с Алешей, – я вам ничего не хочу внушать, ни подымать этой завесы, но вы войдите и сами увидите все, что там происходит, это ужас, это самая фантастическая комедия: она любит вашего брата Ивана Федоровича и уверяет себя изо всех сил, что любит вашего брата Дмитрия Федоровича. Это ужасно! Я войду вместе с вами и, если не прогонят меня, дождусь конца. | “And I kiss you too, Lise. Listen, Alexey Fyodorovitch,” Madame Hohlakov began mysteriously and importantly, speaking in a rapid whisper. “I don’t want to suggest anything, I don’t want to lift the veil, you will see for yourself what’s going on. It’s appalling. It’s the most fantastic farce. She loves your brother, Ivan, and she is doing her utmost to persuade herself she loves your brother, Dmitri. It’s appalling! I’ll go in with you, and if they don’t turn me out, I’ll stay to the end.” |
| V. НАДРЫВ В ГОСТИНОЙ. | Chapter V. A Laceration In The Drawing‐Room |
| Но в гостиной беседа уже оканчивалась; Катерина Ивановна была в большом возбуждении, хотя и имела вид решительный. В минуту когда вошли Алеша и г-жа Хохлакова, Иван Федорович вставал, чтоб уходить. Лицо его было несколько бледно, и Алеша с беспокойством поглядел на него. Дело в том, что тут для Алеши разрешалось теперь одно из его сомнений, одна беспокойная загадка, с некоторого времени его мучившая. Еще с месяц назад ему уже несколько раз, и с разных сторон внушали, что брат Иван любит Катерину Ивановну и, главное, действительно намерен “отбить” ее у Мити. До самого последнего времени это казалось Алеше чудовищным хотя и беспокоило его очень. Он любил обоих братьев и страшился между ними такого соперничества. Между тем сам Дмитрий Федорович вдруг прямо объявил ему вчера, что даже рад соперничеству брата Ивана и что это ему же, Дмитрию во многом поможет. Чему же поможет? Жениться ему на Грушеньке? Но дело это считал Алеша отчаянным и последним. Кроме всего этого, Алеша несомненно верил до самого вчерашнего вечера, что Катерина Ивановна сама до страсти и упорно любит брата его Дмитрия, – но лишь до вчерашнего вечера верил. Сверх того ему почему-то все мерещилось. что она не может любить такого, как Иван, а любит его брата Дмитрия, и именно таким, каким он есть, несмотря на всю чудовищность такой любви. Вчера же в сцене с Грушенькой ему вдруг как бы померещилось иное. Слово “надрыв”, только что произнесенное г-жой Хохлаковой, заставило его почти вздрогнуть, потому что именно в эту ночь, полупроснувшись на рассвете, он вдруг, вероятно отвечая своему сновидению, произнес: “Надрыв, надрыв!” Снилась же ему всю ночь вчерашняя сцена у Катерины Ивановны. Теперь вдруг прямое и упорное уверение г-жи Хохлаковой, что Катерина Ивановна любит брата Ивана и только сама, нарочно, из какой-то игры, из “надрыва”, обманывает себя и сама себя мучит напускною любовью своею к Дмитрию из какой-то будто бы благодарности, – поразило Алешу: “Да, может быть и в самом деле полная правда именно в этих словах!” Но в таком случае, каково же положение брата Ивана? Алеша чувствовал каким-то инстинктом, что такому характеру как Катерина Ивановна надо было властвовать, а властвовать она могла бы лишь над таким, как Дмитрий, и отнюдь не над таким как Иван. Ибо Дмитрий только (положим, хоть в долгий срок) мог бы смириться наконец пред нею “к своему же счастию” (чего даже желал бы Алеша), но Иван нет, Иван не мог бы пред нею смириться, да и смирение это не дало бы ему счастия. Такое уж понятие Алеша почему-то невольно составил себе об Иване. И вот все эти колебания и соображения пролетели и мелькнули в его уме в тот миг, когда он вступал теперь в гостиную. Промелькнула и еще одна мысль: вдруг и неудержимо: “А что, если она и никого не любит, ни того ни другого?” Замечу, что Алеша как бы стыдился таких своих мыслей и упрекал себя в них, когда они в последний месяц, случалось, приходили ему: “Ну что я понимаю в любви и в женщинах и как могу я заключать такие решения”, с упреком себе думал он после каждой подобной своей мысли или догадки. А между тем нельзя было не думать. Он понимал инстинктом, что теперь, например, в судьбе двух братьев его это соперничество слишком важный вопрос и от которого слишком много зависит. “Один гад съест другую гадину”, произнес вчера брат Иван, говоря в раздражении про отца и брата Дмитрия. Стало быть брат Дмитрий в глазах его гад и может быть давно уже гад? Не с тех ли пор, как узнал брат Иван Катерину Ивановну? Слова эти конечно вырвались у Ивана вчера невольно, но тем важнее, что невольно. Если так, то какой же тут мир? Не новые ли, напротив, поводы к ненависти и вражде в их семействе? А главное, кого ему, Алеше, жалеть? И что каждому пожелать? Он любит их обоих, но что каждому из них пожелать среди таких страшных противоречий? В этой путанице можно было совсем потеряться, а сердце Алеши не могло выносить неизвестности, потому что характер любви его был всегда деятельный. Любить пассивно он не мог, возлюбив, он тотчас же принимался и помогать. А для этого надо было поставить цель, надо твердо было знать, что каждому из них хорошо и нужно, а утвердившись в верности цели, естественно каждому из них и помочь. Но вместо твердой цели во всем была лишь неясность и путаница. “Надрыв” произнесено теперь! Но что он мог понять хотя бы даже в этом надрыве? Первого даже слова во всей этой путанице он не понимает! | But in the drawing‐room the conversation was already over. Katerina Ivanovna was greatly excited, though she looked resolute. At the moment Alyosha and Madame Hohlakov entered, Ivan Fyodorovitch stood up to take leave. His face was rather pale, and Alyosha looked at him anxiously. For this moment was to solve a doubt, a harassing enigma which had for some time haunted Alyosha. During the preceding month it had been several times suggested to him that his brother Ivan was in love with Katerina Ivanovna, and, what was more, that he meant “to carry her off” from Dmitri. Until quite lately the idea seemed to Alyosha monstrous, though it worried him extremely. He loved both his brothers, and dreaded such rivalry between them. Meantime, Dmitri had said outright on the previous day that he was glad that Ivan was his rival, and that it was a great assistance to him, Dmitri. In what way did it assist him? To marry Grushenka? But that Alyosha considered the worst thing possible. Besides all this, Alyosha had till the evening before implicitly believed that Katerina Ivanovna had a steadfast and passionate love for Dmitri; but he had only believed it till the evening before. He had fancied, too, that she was incapable of loving a man like Ivan, and that she did love Dmitri, and loved him just as he was, in spite of all the strangeness of such a passion. But during yesterday’s scene with Grushenka another idea had struck him. The word “lacerating,” which Madame Hohlakov had just uttered, almost made him start, because half waking up towards daybreak that night he had cried out “Laceration, laceration,” probably applying it to his dream. He had been dreaming all night of the previous day’s scene at Katerina Ivanovna’s. Now Alyosha was impressed by Madame Hohlakov’s blunt and persistent assertion that Katerina Ivanovna was in love with Ivan, and only deceived herself through some sort of pose, from “self‐laceration,” and tortured herself by her pretended love for Dmitri from some fancied duty of gratitude. “Yes,” he thought, “perhaps the whole truth lies in those words.” But in that case what was Ivan’s position? Alyosha felt instinctively that a character like Katerina Ivanovna’s must dominate, and she could only dominate some one like Dmitri, and never a man like Ivan. For Dmitri might at last submit to her domination “to his own happiness” (which was what Alyosha would have desired), but Ivan—no, Ivan could not submit to her, and such submission would not give him happiness. Alyosha could not help believing that of Ivan. And now all these doubts and reflections flitted through his mind as he entered the drawing‐room. Another idea, too, forced itself upon him: “What if she loved neither of them—neither Ivan nor Dmitri?” It must be noted that Alyosha felt as it were ashamed of his own thoughts and blamed himself when they kept recurring to him during the last month. “What do I know about love and women and how can I decide such questions?” he thought reproachfully, after such doubts and surmises. And yet it was impossible not to think about it. He felt instinctively that this rivalry was of immense importance in his brothers’ lives and that a great deal depended upon it. “One reptile will devour the other,” Ivan had pronounced the day before, speaking in anger of his father and Dmitri. So Ivan looked upon Dmitri as a reptile, and perhaps had long done so. Was it perhaps since he had known Katerina Ivanovna? That phrase had, of course, escaped Ivan unawares yesterday, but that only made it more important. If he felt like that, what chance was there of peace? Were there not, on the contrary, new grounds for hatred and hostility in their family? And with which of them was Alyosha to sympathize? And what was he to wish for each of them? He loved them both, but what could he desire for each in the midst of these conflicting interests? He might go quite astray in this maze, and Alyosha’s heart could not endure uncertainty, because his love was always of an active character. He was incapable of passive love. If he loved any one, he set to work at once to help him. And to do so he must know what he was aiming at; he must know for certain what was best for each, and having ascertained this it was natural for him to help them both. But instead of a definite aim, he found nothing but uncertainty and perplexity on all sides. “It was lacerating,” as was said just now. But what could he understand even in this “laceration”? He did not understand the first word in this perplexing maze. |
| Увидав Алешу, Катерина Ивановна быстро и с радостью проговорила Ивану Федоровичу, уже вставшему со своего места, чтоб уходить: | Seeing Alyosha, Katerina Ivanovna said quickly and joyfully to Ivan, who had already got up to go, |
| – На минутку! Останьтесь еще на одну минуту. Я хочу услышать мнение вот этого человека, которому я всем существом моим доверяю. Катерина Осиповна, не уходите и вы, – прибавила она, обращаясь к г-же Хохлаковой. Она усадила Алешу подле себя, а Хохлакова села напротив, рядом с Иваном Федоровичем. | “A minute! Stay another minute! I want to hear the opinion of this person here whom I trust absolutely. Don’t go away,” she added, addressing Madame Hohlakov. She made Alyosha sit down beside her, and Madame Hohlakov sat opposite, by Ivan. |
| – Здесь все друзья мои, все, кого я имею в мире, милые друзья мои, – горячо начала она голосом, в котором дрожали искренние страдальческие слезы, и сердце Алеши опять разом повернулось к ней. – Вы, Алексей Федорович, вы были вчера свидетелем этого… ужаса и видели, какова я была. Вы не видали этого, Иван Федорович, он видел. Что он подумал обо мне вчера – не знаю, знаю только одно, что повторись то же самое сегодня, сейчас, и я высказала бы такие же чувства, какие вчера, – такие же чувства, такие же слова и такие же движения. Вы помните мои движения, Алексей Федорович, вы сами удержали меня в одном из них… (Говоря это, она покраснела, и глаза ее засверкали.) Объявляю вам, Алексей Федорович, что я не могу ни с чем примириться. Слушайте, Алексей Федорович, я даже не знаю, люблю ли я его теперь. Он мне стал жалок, это плохое свидетельство любви. Если б я любила его, продолжала любить, то я может быть не жалела бы его теперь, а напротив ненавидела… | “You are all my friends here, all I have in the world, my dear friends,” she began warmly, in a voice which quivered with genuine tears of suffering, and Alyosha’s heart warmed to her at once. “You, Alexey Fyodorovitch, were witness yesterday of that abominable scene, and saw what I did. You did not see it, Ivan Fyodorovitch, he did. What he thought of me yesterday I don’t know. I only know one thing, that if it were repeated to‐day, this minute, I should express the same feelings again as yesterday—the same feelings, the same words, the same actions. You remember my actions, Alexey Fyodorovitch; you checked me in one of them” … (as she said that, she flushed and her eyes shone). “I must tell you that I can’t get over it. Listen, Alexey Fyodorovitch. I don’t even know whether I still love him. I feel pity for him, and that is a poor sign of love. If I loved him, if I still loved him, perhaps I shouldn’t be sorry for him now, but should hate him.” |
| Голос ее задрожал, и слезинки блеснули на ее ресницах. Алеша вздрогнул внутри себя: эта девушка правдива и искренна. – подумал он, – и… и она более не любит Дмитрия! | Her voice quivered, and tears glittered on her eyelashes. Alyosha shuddered inwardly. “That girl is truthful and sincere,” he thought, “and she does not love Dmitri any more.” |
| – Это так! так! – воскликнула-было г-жа Хохлакова. | “That’s true, that’s true,” cried Madame Hohlakov. |
| – Подождите, милая Катерина Осиповна, я не сказала главного, не сказала окончательного, что решила в эту ночь. Я чувствую, что может быть решение мое ужасно, – для меня, но предчувствую, что я уже не переменю его ни за что, ни за что, во всю жизнь мою, так и будет. Мой милый, мой добрый, мой всегдашний и великодушный советник и глубокий сердцеведец, и единственный друг мой, какого я только имею в мире, Иван Федорович, одобряет меня во всем и хвалит мое решение… Он его знает. | “Wait, dear. I haven’t told you the chief, the final decision I came to during the night. I feel that perhaps my decision is a terrible one—for me, but I foresee that nothing will induce me to change it—nothing. It will be so all my life. My dear, kind, ever‐faithful and generous adviser, the one friend I have in the world, Ivan Fyodorovitch, with his deep insight into the heart, approves and commends my decision. He knows it.” |
| – Да, я одобряю его, – тихим, но твердым голосом произнес Иван Федорович. | “Yes, I approve of it,” Ivan assented, in a subdued but firm voice. |
| – Но я желаю, чтоб и Алеша (ах, Алексей Федорович простите, что я вас назвала Алешей просто), – я желаю, чтоб и Алексей Федорович сказал мне теперь же при обоих друзьях моих – права я или нет? У меня инстинктивное предчувствие, что вы, Алеша, брат мой милый (потому что вы брат мой милый), – восторженно проговорила она опять, схватив его холодную руку своею горячею рукой, – я предчувствую, что ваше решение, ваше одобрение, несмотря на все муки мои, подаст мне спокойствие, потому что после ваших слов я затихну и примирюсь, – я это предчувствую! | “But I should like Alyosha, too (Ah! Alexey Fyodorovitch, forgive my calling you simply Alyosha), I should like Alexey Fyodorovitch, too, to tell me before my two friends whether I am right. I feel instinctively that you, Alyosha, my dear brother (for you are a dear brother to me),” she said again ecstatically, taking his cold hand in her hot one, “I foresee that your decision, your approval, will bring me peace, in spite of all my sufferings, for, after your words, I shall be calm and submit—I feel that.” |
| – Я не знаю, о чем вы спросите меня, – выговорил с зардевшимся лицом Алеша, – я только знаю, что я вас люблю и желаю вам в эту минуту счастья больше, чем себе самому!.. Но ведь я ничего не знаю в этих делах… – вдруг зачем-то поспешил он прибавить. | “I don’t know what you are asking me,” said Alyosha, flushing. “I only know that I love you and at this moment wish for your happiness more than my own!… But I know nothing about such affairs,” something impelled him to add hurriedly. |
| – В этих делах, Алексей Федорович, в этих делах теперь главное – честь и долг, и не знаю что еще, но нечто высшее. даже может быть высшее самого долга. Мне сердце сказывает про это непреодолимое чувство и оно непреодолимо влечет меня. Все впрочем в двух словах, я уже решилась: Если даже он и женится на той… твари (начала она торжественно), которой я никогда, никогда простить не могу, то я все-таки не оставлю его! От этих пор я уже никогда, никогда не оставлю его! – произнесла она с каким-то надрывом какого-то бледного вымученного восторга. – То-есть не то, чтоб я таскалась за ним, попадалась ему поминутно на глаза, мучила его – о нет, я уеду в другой город, куда хотите, но я всю жизнь, всю жизнь мою буду следить за ним не уставая. Когда же он станет с тою несчастен, а это непременно и сейчас же будет, то пусть придет ко мне и он встретит друга, сестру… Только сестру конечно и это навеки так, но он убедится наконец, что эта сестра действительно сестра его, любящая и всю жизнь ему пожертвовавшая. Я добьюсь того, я настою на том, что наконец он узнает меня и будет передавать мне все не стыдясь! – воскликнула она как бы в исступлении. – Я буду богом его, которому он будет молиться, – и это по меньшей мере он должен мне за измену свою и за то, что я перенесла чрез него вчера. И пусть же он видит во всю жизнь свою, что я всю жизнь мою буду верна ему и моему данному ему раз слову, несмотря на то, что он был неверен и изменил. Я буду… Я обращусь лишь в средство к его счастию (или как это сказать), в инструмент, в машину для его счастия, и это на всю жизнь, на всю жизнь, и чтоб он видел это впредь всю жизнь свою! Вот все мое решение! Иван Федорович в высшей степени одобряет меня. | “In such affairs, Alexey Fyodorovitch, in such affairs, the chief thing is honor and duty and something higher—I don’t know what—but higher perhaps even than duty. I am conscious of this irresistible feeling in my heart, and it compels me irresistibly. But it may all be put in two words. I’ve already decided, even if he marries that—creature,” she began solemnly, “whom I never, never can forgive, even then I will not abandon him. Henceforward I will never, never abandon him!” she cried, breaking into a sort of pale, hysterical ecstasy. “Not that I would run after him continually, get in his way and worry him. Oh, no! I will go away to another town—where you like—but I will watch over him all my life—I will watch over him all my life unceasingly. When he becomes unhappy with that woman, and that is bound to happen quite soon, let him come to me and he will find a friend, a sister…. Only a sister, of course, and so for ever; but he will learn at least that that sister is really his sister, who loves him and has sacrificed all her life to him. I will gain my point. I will insist on his knowing me and confiding entirely in me, without reserve,” she cried, in a sort of frenzy. “I will be a god to whom he can pray—and that, at least, he owes me for his treachery and for what I suffered yesterday through him. And let him see that all my life I will be true to him and the promise I gave him, in spite of his being untrue and betraying me. I will—I will become nothing but a means for his happiness, or—how shall I say?—an instrument, a machine for his happiness, and that for my whole life, my whole life, and that he may see that all his life! That’s my decision. Ivan Fyodorovitch fully approves me.” |
| Она задыхалась. Она может быть гораздо достойнее, искуснее и натуральнее хотела бы выразить свою мысль, но вышло слишком поспешно и слишком обнаженно. Много было молодой невыдержки, многое отзывалось лишь вчерашним раздражением, потребностью погордиться, это она почувствовала сама. Лицо ее как-то вдруг омрачилось, выражение глаз стало нехорошо. Алеша тотчас же заметил все это и в сердце его шевельнулось сострадание. А тут как раз подбавил и брат Иван. | She was breathless. She had perhaps intended to express her idea with more dignity, art and naturalness, but her speech was too hurried and crude. It was full of youthful impulsiveness, it betrayed that she was still smarting from yesterday’s insult, and that her pride craved satisfaction. She felt this herself. Her face suddenly darkened, an unpleasant look came into her eyes. Alyosha at once saw it and felt a pang of sympathy. His brother Ivan made it worse by adding: |
| – Я высказал только мою мысль, – сказал он. – У всякой другой вышло бы все это надломленно, вымученно, а у вас – нет. Другая была бы неправа, а вы правы. Я не знаю, как это мотивировать, но я вижу, что вы искренни в высшей степени, а потому вы и правы… | “I’ve only expressed my own view,” he said. “From any one else, this would have been affected and overstrained, but from you—no. Any other woman would have been wrong, but you are right. I don’t know how to explain it, but I see that you are absolutely genuine and, therefore, you are right.” |
| – Но ведь это только в эту минуту… А что такое эта минута? Всего лишь вчерашнее оскорбление, – вот что значит эта минута! – не выдержала вдруг г-жа Хохлакова, очевидно не желавшая вмешиваться, но не удержавшаяся и вдруг сказавшая очень верную мысль. | “But that’s only for the moment. And what does this moment stand for? Nothing but yesterday’s insult.” Madame Hohlakov obviously had not intended to interfere, but she could not refrain from this very just comment. |
| – Так, так, – перебил Иван, с каким-то вдруг азартом и видимо озлясь, что его перебили, – так, но у другой эта минута лишь вчерашнее впечатление, и только минута, а с характером Катерины Ивановны эта минута – протянется всю ее жизнь. Что для других лишь обещание, то для нее вековечный, тяжелый, угрюмый может быть, но неустанный долг. И она будет питаться чувством этого исполненного долга! Ваша жизнь, Катерина Ивановна, будет проходить теперь, в страдальческом созерцании собственных чувств, собственного подвига и собственного горя, но впоследствии страдание это смягчится, и жизнь ваша обратится уже в сладкое созерцание раз навсегда исполненного твердого и гордого замысла, действительно в своем роде гордого, во всяком случае отчаянного, но побежденного вами, и это сознание доставит вам наконец самое полное удовлетворение и примирит вас со всем остальным… | “Quite so, quite so,” cried Ivan, with peculiar eagerness, obviously annoyed at being interrupted, “in any one else this moment would be only due to yesterday’s impression and would be only a moment. But with Katerina Ivanovna’s character, that moment will last all her life. What for any one else would be only a promise is for her an everlasting burdensome, grim perhaps, but unflagging duty. And she will be sustained by the feeling of this duty being fulfilled. Your life, Katerina Ivanovna, will henceforth be spent in painful brooding over your own feelings, your own heroism, and your own suffering; but in the end that suffering will be softened and will pass into sweet contemplation of the fulfillment of a bold and proud design. Yes, proud it certainly is, and desperate in any case, but a triumph for you. And the consciousness of it will at last be a source of complete satisfaction and will make you resigned to everything else.” |
| Проговорил он это решительно с какою-то злобой, видимо нарочно, и даже может быть не желая скрыть своего намерения, то-есть, что говорит нарочно и в насмешку. | This was unmistakably said with some malice and obviously with intention; even perhaps with no desire to conceal that he spoke ironically and with intention. |
| – О боже, как это все не так! – воскликнула опять г-жа Хохлакова. | “Oh, dear, how mistaken it all is!” Madame Hohlakov cried again. |
| – Алексей Федорович, скажите же вы! Мне мучительно надо знать, что вы мне скажете! – воскликнула Катерина Ивановна и вдруг залилась слезами. Алеша встал с дивана. | “Alexey Fyodorovitch, you speak. I want dreadfully to know what you will say!” cried Katerina Ivanovna, and burst into tears. Alyosha got up from the sofa. |
| – Это ничего, ничего! – с плачем продолжала она, – это от расстройства, от сегодняшней ночи, но подле таких двух друзей, как вы и брат ваш, я еще чувствую себя крепко… потому что знаю… вы оба меня никогда не оставите. | “It’s nothing, nothing!” she went on through her tears. “I’m upset, I didn’t sleep last night. But by the side of two such friends as you and your brother I still feel strong—for I know—you two will never desert me.” |
| – К несчастью, я завтра же может быть должен уехать в Москву и надолго оставить вас… И это к несчастию неизменимо… – проговорил вдруг Иван Федорович. | “Unluckily I am obliged to return to Moscow—perhaps to‐morrow—and to leave you for a long time—And, unluckily, it’s unavoidable,” Ivan said suddenly. |
| – Завтра, в Москву! – перекосилось вдруг все лицо Катерины Ивановны, – но… но боже мой, как это счастливо!- вскричала она в один миг совсем изменившимся голосом, и в один миг прогнав свои слезы, так что и следа не осталось. Именно в один миг произошла в ней удивительная перемена чрезвычайно изумившая Алешу: вместо плакавшей сейчас в каком-то надрыве своего чувства бедной оскорбленной девушки, явилась вдруг женщина, совершенно владеющая собой и даже чем-то чрезвычайно довольная, точно вдруг чему-то обрадовавшаяся. | “To‐morrow—to Moscow!” her face was suddenly contorted; “but—but, dear me, how fortunate!” she cried in a voice suddenly changed. In one instant there was no trace left of her tears. She underwent an instantaneous transformation, which amazed Alyosha. Instead of a poor, insulted girl, weeping in a sort of “laceration,” he saw a woman completely self‐ possessed and even exceedingly pleased, as though something agreeable had just happened. |
| – О, не то счастливо, что я вас покидаю, уж разумеется нет, – как бы поправилась она вдруг с милою светскою улыбкой, – такой друг как вы не может этого подумать; я слишком напротив несчастна, что вас лишусь (она вдруг стремительно бросилась к Ивану Федоровичу и, схватив его за обе руки, с горячим чувством пожала их); но вот что счастливо, это то, что вы сами, лично, в состоянии будете передать теперь в Москве, тетушке и Агаше, все мое положение, весь теперешний ужас мой, в полной откровенности с Агашей и щадя милую тетушку, так как сами сумеете это сделать. Вы не можете себе представить, как я была вчера и сегодня утром несчастна, недоумевая, как я напишу им это ужасное письмо… потому что в письме этого никак, ни за что не передашь… Теперь же мне легко будет написать, потому что вы там у них будете налицо и все объясните. О, как я рада! Но я только этому рада, опять-таки поверьте мне. Сами вы мне конечно незаменимы… Сейчас же бегу напишу письмо, – заключила она вдруг и даже шагнула уже, чтобы выйти из комнаты. | “Oh, not fortunate that I am losing you, of course not,” she corrected herself suddenly, with a charming society smile. “Such a friend as you are could not suppose that. I am only too unhappy at losing you.” She rushed impulsively at Ivan, and seizing both his hands, pressed them warmly. “But what is fortunate is that you will be able in Moscow to see auntie and Agafya and to tell them all the horror of my present position. You can speak with complete openness to Agafya, but spare dear auntie. You will know how to do that. You can’t think how wretched I was yesterday and this morning, wondering how I could write them that dreadful letter—for one can never tell such things in a letter…. Now it will be easy for me to write, for you will see them and explain everything. Oh, how glad I am! But I am only glad of that, believe me. Of course, no one can take your place…. I will run at once to write the letter,” she finished suddenly, and took a step as though to go out of the room. |
| – А Алеша-то? А мнение-то Алексея Федоровича, которое вам так непременно желалось выслушать? – вскричала г-жа Хохлакова. Язвительная и гневливая нотка прозвучала в ее словах. | “And what about Alyosha and his opinion, which you were so desperately anxious to hear?” cried Madame Hohlakov. There was a sarcastic, angry note in her voice. |
| – Я не забыла этого, – приостановилась вдруг Катерина Ивановна, – и почему вы так враждебны ко мне в такую минуту, Катерина Осиповна? – с горьким, горячим упреком произнесла она. – Что я сказала, то я и подтверждаю. Мне необходимо мнение его, мало того: мне надо решение его! Что он скажет, так и будет – вот до какой степени, напротив, я жажду ваших слов, Алексей Федорович… Но что с вами? | “I had not forgotten that,” cried Katerina Ivanovna, coming to a sudden standstill, “and why are you so antagonistic at such a moment?” she added, with warm and bitter reproachfulness. “What I said, I repeat. I must have his opinion. More than that, I must have his decision! As he says, so it shall be. You see how anxious I am for your words, Alexey Fyodorovitch…. But what’s the matter?” |
| – Я никогда не думал, я не могу этого представить! – воскликнул вдруг Алеша горестно. | “I couldn’t have believed it. I can’t understand it!” Alyosha cried suddenly in distress. |
| – Чего, чего? | “What? What?” |
| – Он едет в Москву, а вы вскрикнули, что рады. – это вы нарочно вскрикнули! А потом тотчас стали объяснять, что вы не тому рады, а что напротив жалеете, что… теряете друга, – но и это вы нарочно сыграли… как на театре, в комедии сыграли! | “He is going to Moscow, and you cry out that you are glad. You said that on purpose! And you begin explaining that you are not glad of that but sorry to be—losing a friend. But that was acting, too—you were playing a part—as in a theater!” |
| – На театре? Как?.. Что это такое? – воскликнула Катерина Ивановна в глубоком изумлении, вся вспыхнув и нахмурив брови. | “In a theater? What? What do you mean?” exclaimed Katerina Ivanovna, profoundly astonished, flushing crimson, and frowning. |
| – Да как ни уверяйте его, что вам жалко в нем друга, а все-таки вы настаиваете ему в глаза, что счастье в том, что он уезжает… – проговорил как-то совсем уже задыхаясь Алеша. Он стоял за столом и не садился. | “Though you assure him you are sorry to lose a friend in him, you persist in telling him to his face that it’s fortunate he is going,” said Alyosha breathlessly. He was standing at the table and did not sit down. |
| – О чем вы, я не понимаю… | “What are you talking about? I don’t understand.” |
| – Да я и сам не знаю… У меня вдруг как будто озарение… Я знаю, что я не хорошо это говорю, но я все-таки все скажу, – продолжал Алеша тем же дрожащим и пересекающимся голосом: – озарение мое в том, что вы брата Дмитрия может быть совсем не любите… с самого начала… Да и Дмитрий может быть не любит вас тоже вовсе… с самого начала… а только чтит… Я право не знаю, как я все это теперь смею, но надо же кому-нибудь правду сказать… потому что никто здесь правды не хочет сказать… | “I don’t understand myself…. I seemed to see in a flash … I know I am not saying it properly, but I’ll say it all the same,” Alyosha went on in the same shaking and broken voice. “What I see is that perhaps you don’t love Dmitri at all … and never have, from the beginning…. And Dmitri, too, has never loved you … and only esteems you…. I really don’t know how I dare to say all this, but somebody must tell the truth … for nobody here will tell the truth.” |
| – Какой правды? – вскричала Катерина Ивановна, и что-то истерическое зазвенело в ее голосе. | “What truth?” cried Katerina Ivanovna, and there was an hysterical ring in her voice. |
| – А вот какой, – пролепетал Алеша, как будто полетев с крыши; – позовите сейчас Дмитрия – я его найду, – и пусть он придет сюда и возьмет вас за руку, потом возьмет за руку брата Ивана и соединит ваши руки. Потому что вы мучаете Ивана, потому только, что его любите… а мучите потому, что Дмитрия надрывом любите… в неправду любите… потому что вверили себя так… | “I’ll tell you,” Alyosha went on with desperate haste, as though he were jumping from the top of a house. “Call Dmitri; I will fetch him—and let him come here and take your hand and take Ivan’s and join your hands. For you’re torturing Ivan, simply because you love him—and torturing him, because you love Dmitri through ‘self‐laceration’—with an unreal love—because you’ve persuaded yourself.” |
| Алеша оборвался и замолчал. | Alyosha broke off and was silent. |
| – Вы… вы… вы маленький юродивый, вот вы кто!- и побледневшим уже лицом и скривившимися от злобы губами отрезала вдруг Катерина Ивановна. Иван Федорович вдруг засмеялся и встал с места. Шляпа была в руках его. | “You … you … you are a little religious idiot—that’s what you are!” Katerina Ivanovna snapped. Her face was white and her lips were moving with anger. |
| – Ты ошибся, мой добрый Алеша, – проговорил он с выражением лица, которого никогда еще Алеша у него не видел, – с выражением какой-то молодой искренности и сильного неудержимо откровенного чувства: – никогда Катерина Ивановна не любила меня! Она знала все время, что я ее люблю, хоть я и никогда не говорил ей ни слова о моей любви, – знала, но меня не любила. Другом тоже я ее не был ни разу, ни одного дня: гордая женщина в моей дружбе не нуждалась. Она держала меня при себе для беспрерывного мщения. Она мстила мне и на мне за все оскорбления, которые постоянно и всякую минуту выносила во весь этот срок от Дмитрия, оскорбления с первой встречи их… Потому что и самая первая встреча их осталась у ней на сердце как оскорбление. Вот каково ее сердце! Я все время только и делал, что выслушивал о любви ее к нему. Я теперь еду, но знайте, Катерина Ивановна, что вы действительно любите только его. И по мере оскорблений его все больше и больше. Вот это и есть ваш надрыв. Вы именно любите его таким, каким он есть, вас оскорбляющим его любите. Если б он исправился, вы его тотчас забросили бы и разлюбили вовсе. Но вам он нужен, чтобы созерцать беспрерывно ваш подвиг верности и упрекать его в неверности. И все это от вашей гордости. О, тут много принижения и унижения, но все это от гордости… Я слишком молод и слишком сильно любил вас. Я знаю, что это бы не надо мне вам говорить, что было бы больше достоинства с моей стороны просто выйти от вас; было бы и не так для вас оскорбительно. Но ведь я еду далеко и не приеду никогда. Это ведь навеки… Я не хочу сидеть подле надрыва… Впрочем я уже не умею говорить, все сказал… Прощайте, Катерина Ивановна, вам нельзя на меня сердиться, потому что я во сто раз более вас наказан: наказан уже тем одним, что никогда вас не увижу. Прощайте. Мне не надобно руки вашей. Вы слишком сознательно меня мучили, чтоб я вам в эту минуту мог простить.. Потом прощу, а теперь не надо руки. | Ivan suddenly laughed and got up. His hat was in his hand. “You are mistaken, my good Alyosha,” he said, with an expression Alyosha had never seen in his face before—an expression of youthful sincerity and strong, irresistibly frank feeling. “Katerina Ivanovna has never cared for me! She has known all the time that I cared for her—though I never said a word of my love to her—she knew, but she didn’t care for me. I have never been her friend either, not for one moment; she is too proud to need my friendship. She kept me at her side as a means of revenge. She revenged with me and on me all the insults which she has been continually receiving from Dmitri ever since their first meeting. For even that first meeting has rankled in her heart as an insult—that’s what her heart is like! She has talked to me of nothing but her love for him. I am going now; but, believe me, Katerina Ivanovna, you really love him. And the more he insults you, the more you love him—that’s your ‘laceration.’ You love him just as he is; you love him for insulting you. If he reformed, you’d give him up at once and cease to love him. But you need him so as to contemplate continually your heroic fidelity and to reproach him for infidelity. And it all comes from your pride. Oh, there’s a great deal of humiliation and self‐abasement about it, but it all comes from pride…. I am too young and I’ve loved you too much. I know that I ought not to say this, that it would be more dignified on my part simply to leave you, and it would be less offensive for you. But I am going far away, and shall never come back…. It is for ever. I don’t want to sit beside a ‘laceration.’… But I don’t know how to speak now. I’ve said everything…. Good‐by, Katerina Ivanovna; you can’t be angry with me, for I am a hundred times more severely punished than you, if only by the fact that I shall never see you again. Good‐by! I don’t want your hand. You have tortured me too deliberately for me to be able to forgive you at this moment. I shall forgive you later, but now I don’t want your hand. |
| Den Dank, Dame, begehr ich nicht, | ‘Den Dank, Dame, begehr ich nicht,’” |
| прибавил он с искривленною улыбкой, доказав впрочем совершенно неожиданно, что и он может читать Шиллера до заучивания наизусть, чему прежде не поверил бы Алеша. Он вышел из комнаты, даже не простившись и с хозяйкой, г-жой Хохлаковой. Алеша всплеснул руками. | he added, with a forced smile, showing, however, that he could read Schiller, and read him till he knew him by heart—which Alyosha would never have believed. He went out of the room without saying good‐by even to his hostess, Madame Hohlakov. Alyosha clasped his hands. |
| – Иван, – крикнул он ему, как потерянный вслед, – воротись, Иван! Нет, нет, он теперь ни за что не воротится! – воскликнул он опять в горестном озарении, – но это я, я виноват, я начал! Иван говорил злобно, нехорошо. Несправедливо и злобно… Он должен опять придти сюда, воротиться, воротиться… – Алеша восклицал как полоумный. | “Ivan!” he cried desperately after him. “Come back, Ivan! No, nothing will induce him to come back now!” he cried again, regretfully realizing it; “but it’s my fault, my fault. I began it! Ivan spoke angrily, wrongly. Unjustly and angrily. He must come back here, come back,” Alyosha kept exclaiming frantically. |
| Катерина Ивановна вдруг вышла в другую комнату. | Katerina Ivanovna went suddenly into the next room. |
| – Вы ничего не наделали, вы действовали прелестно, как ангел, – быстро и восторженно зашептала горестному Алеше г-жа Хохлакова. – Я употреблю все усилия, чтоб Иван Федорович не уехал… | “You have done no harm. You behaved beautifully, like an angel,” Madame Hohlakov whispered rapidly and ecstatically to Alyosha. “I will do my utmost to prevent Ivan Fyodorovitch from going.” |
| Радость сияла на ее лице к величайшему огорчению Алеши; но Катерина Ивановна вдруг вернулась. В руках ее были два радужные кредитные билета. | Her face beamed with delight, to the great distress of Alyosha, but Katerina Ivanovna suddenly returned. She had two hundred‐rouble notes in her hand. |
| – Я имею к вам одну большую просьбу, Алексей Федорович, – начала она, прямо обращаясь к Алеше повидимому спокойным и ровным голосом, точно и в самом деле ничего сейчас не случилось. – Неделю, – да, кажется неделю назад, – Дмитрий Федорович сделал один горячий и несправедливый поступок, очень безобразный. Тут есть одно нехорошее место, один трактир. В нем он встретил этого отставного офицера, штабс-капитана этого, которого ваш батюшка употреблял по каким-то своим делам. Рассердившись почему-то на этого штабс-капитана, Дмитрий Федорович схватил его за бороду и при всех вывел в этом унизительном виде на улицу и на улице еще долго вел, и, говорят, что мальчик, сын этого штабс-капитана. который учится в здешнем училище, еще ребенок, увидав это, бежал все подле и плакал вслух и просил за отца и бросался ко всем и просил, чтобы защитили, а все смеялись. Простите, Алексей Федорович, я не могу вспомнить без негодования этого позорного его поступка… одного из таких поступков, на которые может решиться только один Дмитрий Федорович в своем гневе… и в страстях своих! Я и рассказать этого не могу, не в состоянии… Я сбиваюсь в словах. Я справлялась об этом обиженном и узнала, что он очень бедный человек. Фамилия его Снигирев. Он за что-то провинился на службе, его выключили, я не умею вам это рассказать, и теперь он с своим семейством, с несчастным семейством больных детей и жены, сумасшедшей кажется, впал в страшную нищету. Он уже давно здесь в городе, он что-то делает, писарем где-то был, а ему вдруг теперь ничего не платят. Я бросила взгляд на вас… то-есть я думала, – я не знаю, я как-то путаюсь, – видите, я хотела вас просить, Алексей Федорович, – добрейший мой Алексей Федорович, сходить к нему, отыскать предлог, войти к ним, то-есть к этому штабс-капитану, – о боже! как я сбиваюсь, – и деликатно, осторожно, – именно как только вы один сумеете сделать (Алеша вдруг покраснел) – суметь отдать ему это вспоможение, вот, двести рублей. Он наверно примет… то-есть уговорить его принять… Или нет, как это? Видите ли, это не то, что плата ему за примирение, чтоб он не жаловался (потому что он кажется хотел жаловаться), а просто сочувствие, желание помочь, от меня, от меня, от невесты Дмитрия Федоровича, а не от него самого… Одним словом, вы сумеете… Я бы сама поехала, но вы сумеете гораздо лучше меня. Он живет в Озерной улице, в доме мещанки Калмыковой… Ради бога, Алексей Федорович, сделайте мне это, а теперь… теперь я несколько… устала. До свиданья… | “I have a great favor to ask of you, Alexey Fyodorovitch,” she began, addressing Alyosha with an apparently calm and even voice, as though nothing had happened. “A week—yes, I think it was a week ago—Dmitri Fyodorovitch was guilty of a hasty and unjust action—a very ugly action. There is a low tavern here, and in it he met that discharged officer, that captain, whom your father used to employ in some business. Dmitri Fyodorovitch somehow lost his temper with this captain, seized him by the beard and dragged him out into the street and for some distance along it, in that insulting fashion. And I am told that his son, a boy, quite a child, who is at the school here, saw it and ran beside them crying and begging for his father, appealing to every one to defend him, while every one laughed. You must forgive me, Alexey Fyodorovitch, I cannot think without indignation of that disgraceful action of his … one of those actions of which only Dmitri Fyodorovitch would be capable in his anger … and in his passions! I can’t describe it even…. I can’t find my words. I’ve made inquiries about his victim, and find he is quite a poor man. His name is Snegiryov. He did something wrong in the army and was discharged. I can’t tell you what. And now he has sunk into terrible destitution, with his family—an unhappy family of sick children, and, I believe, an insane wife. He has been living here a long time; he used to work as a copying clerk, but now he is getting nothing. I thought if you … that is I thought … I don’t know. I am so confused. You see, I wanted to ask you, my dear Alexey Fyodorovitch, to go to him, to find some excuse to go to them—I mean to that captain—oh, goodness, how badly I explain it!—and delicately, carefully, as only you know how to” (Alyosha blushed), “manage to give him this assistance, these two hundred roubles. He will be sure to take it…. I mean, persuade him to take it…. Or, rather, what do I mean? You see it’s not by way of compensation to prevent him from taking proceedings (for I believe he meant to), but simply a token of sympathy, of a desire to assist him from me, Dmitri Fyodorovitch’s betrothed, not from himself…. But you know…. I would go myself, but you’ll know how to do it ever so much better. He lives in Lake Street, in the house of a woman called Kalmikov…. For God’s sake, Alexey Fyodorovitch, do it for me, and now … now I am rather … tired. Good‐ by!” |
| Она вдруг так быстро повернулась и скрылась опять за портьеру, что Алеша не успел и слова сказать, – а ему хотелось сказать. Ему хотелось просить прощения, обвинить себя, – ну что-нибудь сказать, потому что сердце его было полно, и выйти из комнаты он решительно не хотел без этого. Но г-жа Хохлакова схватила его за руку и вывела сама. В прихожей она опять остановила его, как и давеча. | She turned and disappeared behind the portière so quickly that Alyosha had not time to utter a word, though he wanted to speak. He longed to beg her pardon, to blame himself, to say something, for his heart was full and he could not bear to go out of the room without it. But Madame Hohlakov took him by the hand and drew him along with her. In the hall she stopped him again as before. |
| – Гордая, себя борет, но добрая, прелестная, великодушная! – полушепотом восклицала г-жа Хохлакова. – О как я ее люблю, особенно иногда, и как я всему, всему теперь вновь опять рада! Милый Алексей Федорович, вы ведь не знали этого: знайте же, что мы все, все – я, обе ее тетки, – ну все, даже Lise, вот уже целый месяц как мы только того и желаем, и молим, чтоб она разошлась с вашим любимцем Дмитрием Федоровичем, который ее знать не хочет и нисколько не любит, и вышла бы за Ивана Федоровича, образованного и превосходного молодого человека, который ее любит больше всего на свете. Мы ведь целый заговор тут составили, и я даже может быть не уезжаю лишь из-за этого… | “She is proud, she is struggling with herself; but kind, charming, generous,” she exclaimed, in a half‐whisper. “Oh, how I love her, especially sometimes, and how glad I am again of everything! Dear Alexey Fyodorovitch, you didn’t know, but I must tell you, that we all, all—both her aunts, I and all of us, Lise, even—have been hoping and praying for nothing for the last month but that she may give up your favorite Dmitri, who takes no notice of her and does not care for her, and may marry Ivan Fyodorovitch—such an excellent and cultivated young man, who loves her more than anything in the world. We are in a regular plot to bring it about, and I am even staying on here perhaps on that account.” |
| – Но ведь она же плакала, опять оскорбленная! – вскричал Алеша. | “But she has been crying—she has been wounded again,” cried Alyosha. |
| – Не верьте слезам женщины, Алексей Федорович, – я всегда против женщин в этом случае, я за мужчин. | “Never trust a woman’s tears, Alexey Fyodorovitch. I am never for the women in such cases. I am always on the side of the men.” |
| – Мама, вы его портите и губите, – послышался тоненький голосок Lise из-за двери. | “Mamma, you are spoiling him,” Lise’s little voice cried from behind the door. |
| – Нет, это я всему причиной, я ужасно виноват! – повторял неутешный Алеша в порыве мучительного стыда за свою выходку и даже закрывая руками лицо от стыда. | “No, it was all my fault. I am horribly to blame,” Alyosha repeated unconsoled, hiding his face in his hands in an agony of remorse for his indiscretion. |
| – Напротив вы поступили, как ангел, как ангел, я это тысячи тысяч раз повторить готова. | “Quite the contrary; you behaved like an angel, like an angel. I am ready to say so a thousand times over.” |
| – Мама, почему он поступил как ангел, – послышался опять голосок Lise. | “Mamma, how has he behaved like an angel?” Lise’s voice was heard again. |
| – Мне вдруг почему-то вообразилось, на все это глядя,- продолжал Алеша, как бы и не слыхав Лизы, – что она любит Ивана, вот я и сказал эту глупость… и что теперь будет! | “I somehow fancied all at once,” Alyosha went on as though he had not heard Lise, “that she loved Ivan, and so I said that stupid thing…. What will happen now?” |
| – Да с кем, с кем? – воскликнула Lise, – мама, вы верно хотите умертвить меня. Я вас спрашиваю – вы мне не отвечаете. | “To whom, to whom?” cried Lise. “Mamma, you really want to be the death of me. I ask you and you don’t answer.” |
| В эту минуту вбежала горничная. | At the moment the maid ran in. |
| – С Катериной Ивановной худо… Оне плачут… истерика, бьются. | “Katerina Ivanovna is ill…. She is crying, struggling … hysterics.” |
| – Что такое, – закричала Lise, уже тревожным голосом. – Мама, это со мной будет истерика, а не с ней! | “What is the matter?” cried Lise, in a tone of real anxiety. “Mamma, I shall be having hysterics, and not she!” |
| – Lise, ради бога не кричи, не убивай меня. Ты еще в таких летах, что тебе нельзя всего знать, что большие знают, прибегу все расскажу, что можно тебе сообщить. О боже мой! Я бегу, бегу… Истерика – это добрый знак, Алексей Федорович, это превосходно, что с ней истерика. Это именно так и надо. Я в этом случае всегда против женщин, против всех этих истерик и женских слез. Юлия, беги и скажи, что я лечу. А что Иван Федорович так вышел, так она сама виновата. Но он не уедет. Lise, ради бога не кричи! Ах да, ты не кричишь, это я кричу, прости свою мамашу, но я в восторге, в восторге, в восторге! А заметили вы, Алексей Федорович, каким молодым, молодым человеком Иван Федорович давеча вышел, сказал это все и вышел! Я думала, он такой ученый, академик, а он вдруг так горячо-горячо, откровенно и молодо, неопытно и молодо, и так это все прекрасно, прекрасно, точно вы… И этот стишок немецкий сказал, ну точно как вы! Но бегу, бегу. Алексей Федорович, спешите скорей по этому поручению и поскорей вернитесь. Lise, не надобно ли тебе чего? Ради бога не задерживай ни минуты Алексея Федоровича, он сейчас к тебе вернется… | “Lise, for mercy’s sake, don’t scream, don’t persecute me. At your age one can’t know everything that grown‐up people know. I’ll come and tell you everything you ought to know. Oh, mercy on us! I am coming, I am coming…. Hysterics is a good sign, Alexey Fyodorovitch; it’s an excellent thing that she is hysterical. That’s just as it ought to be. In such cases I am always against the woman, against all these feminine tears and hysterics. Run and say, Yulia, that I’ll fly to her. As for Ivan Fyodorovitch’s going away like that, it’s her own fault. But he won’t go away. Lise, for mercy’s sake, don’t scream! Oh, yes; you are not screaming. It’s I am screaming. Forgive your mamma; but I am delighted, delighted, delighted! Did you notice, Alexey Fyodorovitch, how young, how young Ivan Fyodorovitch was just now when he went out, when he said all that and went out? I thought he was so learned, such a savant, and all of a sudden he behaved so warmly, openly, and youthfully, with such youthful inexperience, and it was all so fine, like you…. And the way he repeated that German verse, it was just like you! But I must fly, I must fly! Alexey Fyodorovitch, make haste to carry out her commission, and then make haste back. Lise, do you want anything now? For mercy’s sake, don’t keep Alexey Fyodorovitch a minute. He will come back to you at once.” |
| Г-жа Хохлакова наконец убежала. Алеша, прежде чем идти, хотел было отворить дверь к Lise. | Madame Hohlakov at last ran off. Before leaving, Alyosha would have opened the door to see Lise. |
| – Ни за что! – вскричала Lise, – теперь уж ни за что! Говорите так, сквозь дверь. За что вы в ангелы попали? Я только это одно и хочу знать. | “On no account,” cried Lise. “On no account now. Speak through the door. How have you come to be an angel? That’s the only thing I want to know.” |
| – За ужасную глупость, Lise! Прощайте. | “For an awful piece of stupidity, Lise! Good‐by!” |
| – Не смейте так уходить! – вскричала было Lise. | “Don’t dare to go away like that!” Lise was beginning. |
| – Lise, у меня серьезное горе! Я сейчас ворочусь, но у меня большое, большое горе! И он выбежал из комнаты. | “Lise, I have a real sorrow! I’ll be back directly, but I have a great, great sorrow!” And he ran out of the room. |
| VI. НАДРЫВ В ИЗБЕ. | Chapter VI. A Laceration In The Cottage |
| У него было действительно серьезное горе, из таких, какие он доселе редко испытывал. Он выскочил и “наглупил”,- и в каком же деле: в любовных чувствах! “Но что я в этом понимаю, что я в этих делах разбирать могу?” – в сотый раз повторял он про себя, краснея, – “ох, стыд бы ничего, стыд только должное мне наказание, – беда в том, что несомненно теперь я буду причиною новых несчастий… А старец посылал меня, чтобы примирить и соединить. Так ли соединяют?” Тут он вдруг опять припомнил, как он “соединил руки”, и страшно стыдно стало ему опять. “Хоть я сделал это все и искренно, но вперед надо быть умнее”, заключил он вдруг и даже не улыбнулся своему заключению. | He certainly was really grieved in a way he had seldom been before. He had rushed in like a fool, and meddled in what? In a love‐affair. “But what do I know about it? What can I tell about such things?” he repeated to himself for the hundredth time, flushing crimson. “Oh, being ashamed would be nothing; shame is only the punishment I deserve. The trouble is I shall certainly have caused more unhappiness…. And Father Zossima sent me to reconcile and bring them together. Is this the way to bring them together?” Then he suddenly remembered how he had tried to join their hands, and he felt fearfully ashamed again. “Though I acted quite sincerely, I must be more sensible in the future,” he concluded suddenly, and did not even smile at his conclusion. |
| Поручение Катерины Ивановны было дано в Озерную улицу, а брат Дмитрий жил как раз тут по дороге, недалеко от Озерной улицы в переулке. Алеша решил зайти к нему во всяком случае прежде, чем к штабс-капитану, хоть и предчувствовал, что не застанет брата. Он подозревал, что тот может быть как-нибудь нарочно будет прятаться от него теперь, – но во что бы то ни стало надо было его разыскать. Время же уходило: мысль об отходившем старце ни на минуту, ни на секунду не оставляла его с того часа, как он вышел из монастыря. | Katerina Ivanovna’s commission took him to Lake Street, and his brother Dmitri lived close by, in a turning out of Lake Street. Alyosha decided to go to him in any case before going to the captain, though he had a presentiment that he would not find his brother. He suspected that he would intentionally keep out of his way now, but he must find him anyhow. Time was passing: the thought of his dying elder had not left Alyosha for one minute from the time he set off from the monastery. |
| В поручении Катерины Ивановны промелькнуло одно обстоятельство, чрезвычайно тоже его заинтересовавшее: когда Катерина Ивановна упомянула о маленьком мальчике, школьнике, сыне того штабс-капитана, который бежал, плача в голос, подле отца, – то у Алеши и тогда уже вдруг мелькнула мысль, что этот мальчик есть наверное тот давешний школьник, укусивший его за палец, когда он, Алеша, допрашивал его, чем он его обидел. Теперь уж Алеша был почти уверен в этом, сам не зная еще почему. Таким образом, увлекшись посторонними соображениями, он развлекся и решил не “думать” о сейчас наделанной им “беде”, не мучить себя раскаянием. а делать дело, а там что будет, то и выйдет. На этой мысли он окончательно ободрился. Кстати завернув в переулок к брату Дмитрию и чувствуя голод, он вынул из кармана взятую у отца булку и съел дорогой. Это подкрепило его силы. | There was one point which interested him particularly about Katerina Ivanovna’s commission; when she had mentioned the captain’s son, the little schoolboy who had run beside his father crying, the idea had at once struck Alyosha that this must be the schoolboy who had bitten his finger when he, Alyosha, asked him what he had done to hurt him. Now Alyosha felt practically certain of this, though he could not have said why. Thinking of another subject was a relief, and he resolved to think no more about the “mischief” he had done, and not to torture himself with remorse, but to do what he had to do, let come what would. At that thought he was completely comforted. Turning to the street where Dmitri lodged, he felt hungry, and taking out of his pocket the roll he had brought from his father’s, he ate it. It made him feel stronger. |
| Дмитрия дома не оказалось. Хозяева домишка – старик столяр, его сын и старушка жена его – даже подозрительно посмотрели на Алешу. “Уж третий день, как не ночует, может куда и выбыл”, – ответил старик на усиленные вопросы Алеши. Алеша понял, что он отвечает по данной инструкции. На вопрос его: “Не у Грушеньки ли он, и не у Фомы ли опять прячется” (Алеша нарочно пустил в ход эти откровенности), все хозяева даже пугливо на него посмотрели. “Любят его стало быть, руку его держат”, подумал Алеша, “это хорошо”. | Dmitri was not at home. The people of the house, an old cabinet‐maker, his son, and his old wife, looked with positive suspicion at Alyosha. “He hasn’t slept here for the last three nights. Maybe he has gone away,” the old man said in answer to Alyosha’s persistent inquiries. Alyosha saw that he was answering in accordance with instructions. When he asked whether he were not at Grushenka’s or in hiding at Foma’s (Alyosha spoke so freely on purpose), all three looked at him in alarm. “They are fond of him, they are doing their best for him,” thought Alyosha. “That’s good.” |
| Наконец он разыскал в Озерной улице дом мещанки Калмыковой, ветхий домишко, перекосившийся, всего в три окна на улицу, с грязным двором, посреди которого уединенно стояла корова. Вход был со двора в сени – налево из сеней жила старая хозяйка со старухою дочерью и кажется обе глухие. На вопрос его о штабс-капитане, несколько раз повторенный, одна из них, поняв наконец, что спрашивают жильцов, ткнула ему пальцем чрез сени, указывая на дверь в чистую избу. Квартира штабс-капитана действительно оказалась только простою избой. Алеша взялся было рукой за железную скобу, чтоб отворить дверь, как вдруг необыкновенная тишина за дверями поразила его. Он знал однако со слов Катерины Ивановны, что отставной штабс-капитан человек семейный: “Или спят все они, или может быть услыхали, что я пришел и ждут, пока я отворю; лучше я сперва постучусь к ним”, – и он постучал. Ответ послышался, но не сейчас, а секунд даже может быть десять спустя. | At last he found the house in Lake Street. It was a decrepit little house, sunk on one side, with three windows looking into the street, and with a muddy yard, in the middle of which stood a solitary cow. He crossed the yard and found the door opening into the passage. On the left of the passage lived the old woman of the house with her old daughter. Both seemed to be deaf. In answer to his repeated inquiry for the captain, one of them at last understood that he was asking for their lodgers, and pointed to a door across the passage. The captain’s lodging turned out to be a simple cottage room. Alyosha had his hand on the iron latch to open the door, when he was struck by the strange hush within. Yet he knew from Katerina Ivanovna’s words that the man had a family. “Either they are all asleep or perhaps they have heard me coming and are waiting for me to open the door. I’d better knock first,” and he knocked. An answer came, but not at once, after an interval of perhaps ten seconds. |
| – Кто таков! – прокричал кто-то громким и усиленно сердитым голосом. | “Who’s there?” shouted some one in a loud and very angry voice. |
| Алеша отворил тогда дверь, и шагнул чрез порог. Он очутился в избе, хотя и довольно просторной, но чрезвычайно загроможденной и людьми и всяким домашним скарбом. Налево была большая русская печь. От печи к левому окну чрез всю комнату была протянута веревка, на которой было развешено разное тряпье. По обеим стенам налево и направо помещалось по кровати, покрытых вязанными одеялами. На одной из них, на левой, была воздвигнута горка из четырех ситцевых подушек, одна другой меньше. На другой же кровати справа виднелась лишь одна очень маленькая подушечка. Далее в переднем углу было небольшое место, отгороженное занавеской или простыней, тоже перекинутою чрез веревку, протянутую поперек угла. За этою занавеской тоже примечалась сбоку устроенная на лавке и на приставленном к ней стуле постель. Простой деревянный, четырехугольный мужицкий стол был отодвинут из переднего угла к серединному окошку. Все три окна, каждое в четыре мелкие, зеленые заплесневевшие стекла, были очень тусклы и наглухо заперты, так что в комнате было довольно душно и не так светло. На столе стояла сковорода с остатками глазной яичницы, лежал надъеденный ломоть хлеба и сверх того находился полуштоф со слабыми остатками земных благ лишь на донушке. Возле левой кровати на стуле помещалась женщина, похожая на даму, одетая в ситцевое платье. Она была очень худа лицом, желтая; чрезвычайно впалые щеки ее свидетельствовали с первого раза о ее болезненном состоянии. Но всего более поразил Алешу взгляд бедной дамы, – взгляд чрезвычайно вопросительный и в то же время ужасно надменный. И до тех пор пока дама не заговорила сама и пока объяснялся Алеша с хозяином, она все время так же надменно и вопросительно переводила свои большие карие глаза с одного говорившего на другого. Подле этой дамы у левого окошка стояла молодая девушка с довольно некрасивым лицом, с рыженькими жиденькими волосами, бедно, хотя и весьма опрятно одетая. Она брезгливо осмотрела вошедшего Алешу. Направо, тоже у постели, сидело и еще одно женское существо. Это было очень жалкое создание, молодая тоже девушка, лет двадцати, но горбатая и безногая, с отсохшими, как сказали потом Алеше, ногами. Костыли ее стояли подле, в углу, между кроватью и стеной. Замечательно прекрасные и добрые глаза бедной девушки с какою-то спокойною кротостью поглядели на Алешу. За столом, кончая яичницу, сидел господин лет сорока пяти, невысокого роста, сухощавый, слабого сложения, рыжеватый, с рыженькою редкою бородкой, весьма похожею на растрепанную мочалку (это сравнение и особенно слово “мочалка” так и сверкнули почему-то с первого же взгляда в уме Алеши, он это потом припомнил). Очевидно этот самый господин и крикнул из-за двери: кто таков! так как другого мужчины в комнате не было. Но когда Алеша вошел, он словно сорвался со скамьи, на которой сидел за столом, и, наскоро обтираясь дырявою салфеткой, подлетел к Алеше. | Then Alyosha opened the door and crossed the threshold. He found himself in a regular peasant’s room. Though it was large, it was cumbered up with domestic belongings of all sorts, and there were several people in it. On the left was a large Russian stove. From the stove to the window on the left was a string running across the room, and on it there were rags hanging. There was a bedstead against the wall on each side, right and left, covered with knitted quilts. On the one on the left was a pyramid of four print‐covered pillows, each smaller than the one beneath. On the other there was only one very small pillow. The opposite corner was screened off by a curtain or a sheet hung on a string. Behind this curtain could be seen a bed made up on a bench and a chair. The rough square table of plain wood had been moved into the middle window. The three windows, which consisted each of four tiny greenish mildewy panes, gave little light, and were close shut, so that the room was not very light and rather stuffy. On the table was a frying‐pan with the remains of some fried eggs, a half‐eaten piece of bread, and a small bottle with a few drops of vodka. A woman of genteel appearance, wearing a cotton gown, was sitting on a chair by the bed on the left. Her face was thin and yellow, and her sunken cheeks betrayed at the first glance that she was ill. But what struck Alyosha most was the expression in the poor woman’s eyes—a look of surprised inquiry and yet of haughty pride. And while he was talking to her husband, her big brown eyes moved from one speaker to the other with the same haughty and questioning expression. Beside her at the window stood a young girl, rather plain, with scanty reddish hair, poorly but very neatly dressed. She looked disdainfully at Alyosha as he came in. Beside the other bed was sitting another female figure. She was a very sad sight, a young girl of about twenty, but hunchback and crippled “with withered legs,” as Alyosha was told afterwards. Her crutches stood in the corner close by. The strikingly beautiful and gentle eyes of this poor girl looked with mild serenity at Alyosha. A man of forty‐five was sitting at the table, finishing the fried eggs. He was spare, small and weakly built. He had reddish hair and a scanty light‐colored beard, very much like a wisp of tow (this comparison and the phrase “a wisp of tow” flashed at once into Alyosha’s mind for some reason, he remembered it afterwards). It was obviously this gentleman who had shouted to him, as there was no other man in the room. But when Alyosha went in, he leapt up from the bench on which he was sitting, and, hastily wiping his mouth with a ragged napkin, darted up to Alyosha. |
| – Монах на монастырь просит, знал к кому придти! – громко между тем проговорила стоявшая в левом углу девица. | “It’s a monk come to beg for the monastery. A nice place to come to!” the girl standing in the left corner said aloud. |
| Но господин, подбежавший к Алеше, мигом повернулся к ней на каблуках и взволнованным срывающимся каким-то голосом ей ответил: | The man spun round instantly towards her and answered her in an excited and breaking voice: |
| – Нет-с, Варвара Николавна, это не то-с, не угадали-с! Позвольте спросить в свою очередь, – вдруг опять повернулся он к Алеше, – что побудило вас-с посетить… эти недра-с? | “No, Varvara, you are wrong. Allow me to ask,” he turned again to Alyosha, “what has brought you to—our retreat?” |
| Алеша внимательно смотрел на него, он в первый раз этого человека видел. Было в нем что-то угловатое, спешащее и раздражительное. Хотя он очевидно сейчас выпил, но пьян не был. Лицо его изображало какую-то крайнюю наглость и в то же время, – странно это было, – видимую трусость. Он похож был на человека, долгое время подчинявшегося и натерпевшегося, но который бы вдруг вскочил и захотел заявить себя. Или еще лучше на человека, которому ужасно бы хотелось вас ударить, но который ужасно боится, что вы его ударите, В речах его и в интонации довольно пронзительного голоса слышался какой-то юродливый юмор, то злой, то робеющий, не выдерживающий тона и срывающийся. Вопрос о “недрах” задал он как бы весь дрожа, выпучив глаза и подскочив к Алеше до того в упор, что тот машинально сделал шаг назад. Одет был этот господин в темное, весьма плохое, какое-то нанковое пальто, заштопанное и в пятнах. Панталоны на нем были чрезвычайно какие-то светлые, такие, что никто давно и не носит, клетчатые и из очень тоненькой какой-то материи, смятые снизу и сбившиеся оттого наверх, точно он из них как маленький мальчик вырос. | Alyosha looked attentively at him. It was the first time he had seen him. There was something angular, flurried and irritable about him. Though he had obviously just been drinking, he was not drunk. There was extraordinary impudence in his expression, and yet, strange to say, at the same time there was fear. He looked like a man who had long been kept in subjection and had submitted to it, and now had suddenly turned and was trying to assert himself. Or, better still, like a man who wants dreadfully to hit you but is horribly afraid you will hit him. In his words and in the intonation of his shrill voice there was a sort of crazy humor, at times spiteful and at times cringing, and continually shifting from one tone to another. The question about “our retreat” he had asked as it were quivering all over, rolling his eyes, and skipping up so close to Alyosha that he instinctively drew back a step. He was dressed in a very shabby dark cotton coat, patched and spotted. He wore checked trousers of an extremely light color, long out of fashion, and of very thin material. They were so crumpled and so short that he looked as though he had grown out of them like a boy. |
| – Я… Алексей Карамазов… – проговорил было в ответ Алеша. | “I am Alexey Karamazov,” Alyosha began in reply. |
| – Отменно умею понимать-с, – тотчас же отрезал господин, давая знать, что ему и без того известно, кто он такой. – Штабс я капитан-с Снегирев-с, в свою очередь, но все же желательно узнать, что именно побудило… | “I quite understand that, sir,” the gentleman snapped out at once to assure him that he knew who he was already. “I am Captain Snegiryov, sir, but I am still desirous to know precisely what has led you—” |
| – Да я так только зашел. Мне в сущности от себя хотелось бы вам сказать одно слово… Если только позволите… | “Oh, I’ve come for nothing special. I wanted to have a word with you—if only you allow me.” |
| – В таком случае вот и стул-с, извольте взять место-с. Это в древних комедиях говорили: “извольте взять место”… – и штабс-капитан быстрым жестом схватил порожний стул (простой мужицкий, весь деревянный и ничем не обитый) и поставил его чуть не по средине комнаты; затем, схватив другой такой же стул для себя, сел напротив Алеши, попрежнему к нему в упор и так, что колени их почти соприкасались вместе. | “In that case, here is a chair, sir; kindly be seated. That’s what they used to say in the old comedies, ‘kindly be seated,’ ” and with a rapid gesture he seized an empty chair (it was a rough wooden chair, not upholstered) and set it for him almost in the middle of the room; then, taking another similar chair for himself, he sat down facing Alyosha, so close to him that their knees almost touched. |
| – Николай Ильич Снегирев-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с, хоть и посрамленный своими пороками, но все же штабс-капитан. Скорее бы надо сказать: штабс-капитан Словоерсов, а не Снегирев, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить словоерсами. Слово-ер-с приобретается в унижении. | “Nikolay Ilyitch Snegiryov, sir, formerly a captain in the Russian infantry, put to shame for his vices, but still a captain. Though I might not be one now for the way I talk; for the last half of my life I’ve learnt to say ‘sir.’ It’s a word you use when you’ve come down in the world.” |
| – Это так точно, – усмехнулся Алеша, – только невольно приобретается или нарочно? | “That’s very true,” smiled Alyosha. “But is it used involuntarily or on purpose?” |
| – Видит бог, невольно. Все не говорил, целую жизнь не говорил словоерсами, вдруг упал и встал с словоерсами. Это делается высшею силой. Вижу, что интересуетесь современными вопросами. Чем однако мог возбудить столь любопытства, ибо живу в обстановке, невозможной для гостеприимства. | “As God’s above, it’s involuntary, and I usen’t to use it! I didn’t use the word ‘sir’ all my life, but as soon as I sank into low water I began to say ‘sir.’ It’s the work of a higher power. I see you are interested in contemporary questions, but how can I have excited your curiosity, living as I do in surroundings impossible for the exercise of hospitality?” |
| – Я пришел… по тому самому делу… | “I’ve come—about that business.” |
| – По тому самому делу? – нетерпеливо перервал штабс-капитан. | “About what business?” the captain interrupted impatiently. |
| – По поводу той встречи вашей с братом моим Дмитрием Федоровичем, – неловко отрезал Алеша. | “About your meeting with my brother Dmitri Fyodorovitch,” Alyosha blurted out awkwardly. |
| – Какой же это встречи-с? Это уж не той ли самой-с? Значит насчет мочалки, банной мочалки? – надвинулся он вдруг так, что в этот раз положительно стукнулся коленками в Алешу. Губы его как-то особенно сжались в ниточку. | “What meeting, sir? You don’t mean that meeting? About my ‘wisp of tow,’ then?” He moved closer so that his knees positively knocked against Alyosha. His lips were strangely compressed like a thread. |
| – Какая это мочалка? – пробормотал Алеша. | “What wisp of tow?” muttered Alyosha. |
| – Это он на меня тебе, папа, жаловаться пришел! – крикнул знакомый уже Алеше голосок давешнего мальчика из-за занавески в углу. – Это я ему давеча палец укусил ! – Занавеска отдернулась, и Алеша увидел давешнего врага своего, в углу, под образами, на прилаженной на лавке и на стуле постельке. Мальчик лежал накрытый своим пальтишком и еще стареньким ватным одеяльцем. Очевидно был нездоров и, судя по горящим глазам, в лихорадочном жару. Он бесстрашно, не по-давешнему, глядел теперь на Алешу: “Дома, дескать, теперь не достанешь”. | “He is come to complain of me, father!” cried a voice familiar to Alyosha—the voice of the schoolboy—from behind the curtain. “I bit his finger just now.” The curtain was pulled, and Alyosha saw his assailant lying on a little bed made up on the bench and the chair in the corner under the ikons. The boy lay covered by his coat and an old wadded quilt. He was evidently unwell, and, judging by his glittering eyes, he was in a fever. He looked at Alyosha without fear, as though he felt he was at home and could not be touched. |
| – Какой такой палец укусил? – привскочил со стула штабс-капитан. – Это вам он палец укусил-с? | “What! Did he bite your finger?” The captain jumped up from his chair. “Was it your finger he bit?” |
| – Да, мне. Давеча он на улице с мальчиками камнями перебрасывался; они в него шестеро кидают, а он один. Я подошел к нему, а он и в меня камень бросил, потом другой мне в голову. Я спросил: что я ему сделал? Он вдруг бросился и больно укусил мне палец, не знаю за что. | “Yes. He was throwing stones with other schoolboys. There were six of them against him alone. I went up to him, and he threw a stone at me and then another at my head. I asked him what I had done to him. And then he rushed at me and bit my finger badly, I don’t know why.” |
| – Сейчас высеку-с! Сею минутой высеку-с, – совсем уже вскочил со стула штабс-капитан. Akirill.com | “I’ll thrash him, sir, at once—this minute!” The captain jumped up from his seat. |
| – Да я ведь вовсе не жалуюсь, я только рассказал… – Я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли. Да он кажется теперь и болен… | “But I am not complaining at all, I am simply telling you … I don’t want him to be thrashed. Besides, he seems to be ill.” |
| – А вы думали я высеку-с? Что я Илюшечку возьму да сейчас и высеку пред вами для вашего полного удовлетворения? Скоро вам это надо-с? – проговорил штабс-капитан, вдруг повернувшись к Алеше с таким жестом, как будто хотел на него броситься. – Жалею, сударь, о вашем пальчике, но не хотите ли – я, прежде чем Илюшечку сечь, свои четыре пальца, сейчас же на ваших глазах, для вашего справедливого удовлетворения, вот этим самым ножом оттяпаю. Четырех-то пальцев, я думаю, вам будет довольно-с для утоления жажды мщения-с, пятого не потребуете?.. – Он вдруг остановился и как бы задохся. Каждая черточка на его лице ходила и дергалась, глядел же с чрезвычайным вызовом. Он был как бы в исступлении. | “And do you suppose I’d thrash him? That I’d take my Ilusha and thrash him before you for your satisfaction? Would you like it done at once, sir?” said the captain, suddenly turning to Alyosha, as though he were going to attack him. “I am sorry about your finger, sir; but instead of thrashing Ilusha, would you like me to chop off my four fingers with this knife here before your eyes to satisfy your just wrath? I should think four fingers would be enough to satisfy your thirst for vengeance. You won’t ask for the fifth one too?” He stopped short with a catch in his throat. Every feature in his face was twitching and working; he looked extremely defiant. He was in a sort of frenzy. |
| – Я, кажется, теперь все понял. – тихо и грустно ответил Алеша, продолжая сидеть. – Значит ваш мальчик – добрый мальчик, любит отца и бросился на меня как на брата вашего обидчика… Это я теперь понимаю, – повторил он раздумывая. – Но брат мой Дмитрий Федорович раскаивается в своем поступке, я знаю это, и если только ему возможно будет придти к вам, или всего лучше свидеться с вами опять в том самом месте, то он попросит у вас при всех прощения… если вы пожелаете. | “I think I understand it all now,” said Alyosha gently and sorrowfully, still keeping his seat. “So your boy is a good boy, he loves his father, and he attacked me as the brother of your assailant…. Now I understand it,” he repeated thoughtfully. “But my brother Dmitri Fyodorovitch regrets his action, I know that, and if only it is possible for him to come to you, or better still, to meet you in that same place, he will ask your forgiveness before every one—if you wish it.” |
| – То-есть вырвал бороденку и попросил извинения… Все дескать закончил и удовлетворил, так ли-с? | “After pulling out my beard, you mean, he will ask my forgiveness? And he thinks that will be a satisfactory finish, doesn’t he?” |
| – О, нет, напротив, он сделает все, что вам будет угодно и как вам будет угодно! | “Oh, no! On the contrary, he will do anything you like and in any way you like.” |
| – Так что если б я попросил его светлость стать на коленки предо мной в этом самом трактире-с, – “Столичный город” ему наименование, – или на площади-с, так он и стал бы ? | “So if I were to ask his highness to go down on his knees before me in that very tavern—‘The Metropolis’ it’s called—or in the market‐place, he would do it?” |
| – Да, он станет и на колени. | “Yes, he would even go down on his knees.” |
| – Пронзили-с. Прослезили меня и пронзили-с. Слишком наклонен чувствовать. Позвольте же отрекомендоваться вполне: моя семья, мои две дочери и мой сын, – мой помет-с. Умру я, кто-то их возлюбит-с? А пока живу я, кто-то меня, скверненького, кроме них возлюбит? Великое это дело устроил господь для каждого человека в моем роде-с. Ибо надобно, чтоб и человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить-с… | “You’ve pierced me to the heart, sir. Touched me to tears and pierced me to the heart! I am only too sensible of your brother’s generosity. Allow me to introduce my family, my two daughters and my son—my litter. If I die, who will care for them, and while I live who but they will care for a wretch like me? That’s a great thing the Lord has ordained for every man of my sort, sir. For there must be some one able to love even a man like me.” |
| – Ах это совершенная правда! – воскликнул Алеша. | “Ah, that’s perfectly true!” exclaimed Alyosha. |
| – Да полноте наконец паясничать, какой-нибудь дурак придет, а вы срамите! – вскрикнула неожиданно девушка у окна, обращаясь к отцу с брезгливою и презрительною миной. | “Oh, do leave off playing the fool! Some idiot comes in, and you put us to shame!” cried the girl by the window, suddenly turning to her father with a disdainful and contemptuous air. |
| – Повремените немного, Варвара Николавна, позвольте выдержать направление, – крикнул ей отец хотя и повелительным тоном, но однако весьма одобрительно смотря на нее. – Это уж у нас такой характер-с, – повернулся он опять к Алеше. | “Wait a little, Varvara!” cried her father, speaking peremptorily but looking at her quite approvingly. “That’s her character,” he said, addressing Alyosha again. |
| “И ничего во всей природе | “And in all nature there was naught |
| Благословить он не хотел”. То-есть надо бы в женском роде: благословить она не хотела-с. Но теперь позвольте вас представить и моей супруге: Вот-с Арина Петровна, дама без ног-с, лет сорока трех, ноги ходят, да немножко-с. Из простых-с. Арина Петровна, разгладьте черты ваши: вот Алексей Федорович Карамазов. Встаньте, Алексей Федорович, – он взял его за руку и с силой, которой даже нельзя было ожидать от него, вдруг его приподнял: – Вы даме представляетесь, надо встать-с. Не тот-с Карамазов, маменька, который… гм и так далее, а брат его, блистающий смиренными добродетелями. Позвольте, Арина Петровна, позвольте, маменька, позвольте вашу ручку предварительно поцеловать. | That could find favor in his eyes— or rather in the feminine: that could find favor in her eyes. But now let me present you to my wife, Arina Petrovna. She is crippled, she is forty‐ three; she can move, but very little. She is of humble origin. Arina Petrovna, compose your countenance. This is Alexey Fyodorovitch Karamazov. Get up, Alexey Fyodorovitch.” He took him by the hand and with unexpected force pulled him up. “You must stand up to be introduced to a lady. It’s not the Karamazov, mamma, who … h’m … etcetera, but his brother, radiant with modest virtues. Come, Arina Petrovna, come, mamma, first your hand to be kissed.” |
| И он почтительно, нежно даже поцеловал у супруги ручку. Девица у окна с негодованием повернулась к сцене спиной, надменно вопросительное лицо супруги вдруг выразило необыкновенную ласковость. | And he kissed his wife’s hand respectfully and even tenderly. The girl at the window turned her back indignantly on the scene; an expression of extraordinary cordiality came over the haughtily inquiring face of the woman. |
| – Здравствуйте, садитесь, г. Черномазов, – проговорила она. | “Good morning! Sit down, Mr. Tchernomazov,” she said. |
| – Карамазов, маменька, Карамазов (мы из простых-с), – подшепнул он снова. | “Karamazov, mamma, Karamazov. We are of humble origin,” he whispered again. |
| – Ну Карамазов или как там, а я всегда Черномазов… – Садитесь же, и зачем он вас поднял? Дама без ног, он говорит, ноги-то есть, да распухли как ведра, а сама я высохла. Прежде-то я куды была толстая, а теперь вон словно иглу проглотила… | “Well, Karamazov, or whatever it is, but I always think of Tchernomazov…. Sit down. Why has he pulled you up? He calls me crippled, but I am not, only my legs are swollen like barrels, and I am shriveled up myself. Once I used to be so fat, but now it’s as though I had swallowed a needle.” |
| – Мы из простых-с, из простых-с, – подсказал еще раз капитан. | “We are of humble origin,” the captain muttered again. |
| – Папа, ах папа, – проговорила вдруг горбатая девушка, доселе молчавшая на своем стуле, и вдруг закрыла глаза платком. | “Oh, father, father!” the hunchback girl, who had till then been silent on her chair, said suddenly, and she hid her eyes in her handkerchief. |
| – Шут! – брякнула девица у окна. | “Buffoon!” blurted out the girl at the window. |
| – Видите у нас какие известия, – расставила руки мамаша, указывая на дочерей, – точно облака идут; пройдут облака и опять наша музыка. Прежде, когда мы военными были, к нам много приходило таких гостей. Я, батюшка, это к делу не приравниваю. Кто любит кого, тот и люби того. Дьяконица тогда приходит и говорит: Александр Александрович превосходнейшей души человек, а Настасья, говорит, Петровна, это исчадие ада. Ну отвечаю это как кто кого обожает, а ты и мала куча да вонюча. – А тебя, говорит, надо в повиновении держать. – Ах ты, черная ты, говорю ей, шпага, ну и кого ты учить пришла? – Я, говорит она, воздух чистый впускаю, а ты нечистый. – А спроси, отвечаю ей, всех господ офицеров, нечистый ли во мне воздух, али другой какой? И так это у меня с того самого времени на душе сидит, что намеднись сижу я вот здесь как теперь и вижу, тот самый генерал вошел, что на Святую сюда приезжал: что, говорю ему, ваше превосходительство, можно ли благородной даме воздух свободный впускать? – Да, отвечает, надо бы у вас форточку али дверь отворить, потому самому, что у вас воздух не свежий. Ну и все-то так! А и что им мой воздух дался? От мертвых и того хуже пахнет. Я, говорю, воздуху вашего не порчу, а башмаки закажу и уйду. Батюшки, голубчики, не попрекайте мать родную! Николай Ильич, батюшка, я ль тебе не угодила, только ведь у меня и есть, что Илюшечка из класса придет и любит. Вчера яблочко принес. Простите, батюшки, простите, голубчики, мать родную, простите меня совсем одинокую, а и чего вам мой воздух противен стал! | “Have you heard our news?” said the mother, pointing at her daughters. “It’s like clouds coming over; the clouds pass and we have music again. When we were with the army, we used to have many such guests. I don’t mean to make any comparisons; every one to their taste. The deacon’s wife used to come then and say, ‘Alexandr Alexandrovitch is a man of the noblest heart, but Nastasya Petrovna,’ she would say, ‘is of the brood of hell.’ ‘Well,’ I said, ‘that’s a matter of taste; but you are a little spitfire.’ ‘And you want keeping in your place,’ says she. ‘You black sword,’ said I, ‘who asked you to teach me?’ ‘But my breath,’ says she, ‘is clean, and yours is unclean.’ ‘You ask all the officers whether my breath is unclean.’ And ever since then I had it in my mind. Not long ago I was sitting here as I am now, when I saw that very general come in who came here for Easter, and I asked him: ‘Your Excellency,’ said I, ‘can a lady’s breath be unpleasant?’ ‘Yes,’ he answered; ‘you ought to open a window‐ pane or open the door, for the air is not fresh here.’ And they all go on like that! And what is my breath to them? The dead smell worse still! ‘I won’t spoil the air,’ said I, ‘I’ll order some slippers and go away.’ My darlings, don’t blame your own mother! Nikolay Ilyitch, how is it I can’t please you? There’s only Ilusha who comes home from school and loves me. Yesterday he brought me an apple. Forgive your own mother—forgive a poor lonely creature! Why has my breath become unpleasant to you?” |
| И бедная вдруг разрыдалась, слезы брызнули ручьем. Штабс-капитан стремительно подскочил к ней. | And the poor mad woman broke into sobs, and tears streamed down her cheeks. The captain rushed up to her. |
| – Маменька, маменька, голубчик, полно, полно! Не одинокая ты. Все-то тебя любят, все обожают! – и он начал опять целовать у нее обе руки и нежно стал гладить по ее лицу своими ладонями; схватив же салфетку, начал вдруг обтирать с лица ее слезы. Алеше показалось даже, что у него и у самого засверкали слезы. – Ну-с, видели-с? Слышали-с? – как-то вдруг яростно обернулся он к нему, показывая рукой на бедную слабоумную. | “Mamma, mamma, my dear, give over! You are not lonely. Every one loves you, every one adores you.” He began kissing both her hands again and tenderly stroking her face; taking the dinner‐napkin, he began wiping away her tears. Alyosha fancied that he too had tears in his eyes. “There, you see, you hear?” he turned with a sort of fury to Alyosha, pointing to the poor imbecile. |
| – Вижу и слышу, – пробормотал Алеша. | “I see and hear,” muttered Alyosha. |
| – Папа, папа! Неужели ты с ним… | “Father, father, how can you—with him! |
| – Брось ты его, папа! – крикнул вдруг мальчик, привстав на своей постельке и горящим взглядом смотря на отца. | Let him alone!” cried the boy, sitting up in his bed and gazing at his father with glowing eyes. |
| – Да полно-те вы наконец паясничать, ваши выверты глупые показывать, которые ни к чему никогда не ведут!.. – совсем уже озлившись крикнула все из того угла Варвара Николаевна, даже ногой топнула. | “Do give over fooling, showing off your silly antics which never lead to anything!” shouted Varvara, stamping her foot with passion. |
| – Совершенно справедливо на этот раз изволите из себя выходить, Варвара Николавна, и я вас стремительно удовлетворю. Шапочку вашу наденьте, Алексей Федорович, а я вот картуз возьму – и пойдемте-с. Надобно вам одно серьезное словечко сказать, только вне этих стен. Эта вот сидящая девица – это дочка моя-с, Нина Николаевна-с, забыл я вам ее представить, – ангел божий во плоти… к смертным слетевший… если можете только это понять… | “Your anger is quite just this time, Varvara, and I’ll make haste to satisfy you. Come, put on your cap, Alexey Fyodorovitch, and I’ll put on mine. We will go out. I have a word to say to you in earnest, but not within these walls. This girl sitting here is my daughter Nina; I forgot to introduce her to you. She is a heavenly angel incarnate … who has flown down to us mortals,… if you can understand.” |
| – Весь ведь так и сотрясается, словно судорогой его сводит, – продолжала в негодовании Варвара Николаевна. | “There he is shaking all over, as though he is in convulsions!” Varvara went on indignantly. |
| – А это вот что теперь на меня ножкой топает и паяцом меня давеча обличила, – это тоже ангел божий во плоти-с, и справедливо меня обозвала-с. Пойдемте же, Алексей Федорович, покончить надо-с… | “And she there stamping her foot at me and calling me a fool just now, she is a heavenly angel incarnate too, and she has good reason to call me so. Come along, Alexey Fyodorovitch, we must make an end.” |
| И схватив Алешу за руку, он вывел его из комнаты прямо на улицу. | And, snatching Alyosha’s hand, he drew him out of the room into the street. |
| < < < | > > > |
| Двуязычный текст, подготовленный Akirill.com , размещенные на сайте Akirill.com 19 июня 2022 года. 2022 года. Каждую из книг (на английском или русском языках) можно забрать отдельно и повторно использовать в личных и некоммерческих целях. Они свободны от авторского права. При любом совместном использовании двух книг должно быть указано их происхождение https://www.Akirill.com | Bilingual text prepared by Akirill.com , deposited on the site Akirill.com on June 19, 2022. Each of the books (English or French) can be taken back separately and reused for personal and non-commercial purposes. They are free of copyright. Any use of the two books side by side must mention their origin https://www.Akirill.com |
The Brothers Karamazov, by Fyodor Dostoyevsky
| If you liked this page, don’t forget to like and share. Si vous avez aimé cette page, n’oublier pas d’aimer et de partager. |
| Subscribe to not miss anything Abonnez-vous pour ne rien manquer |
| Check out our latest posts |
| Découvrez nos derniers articles |